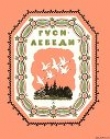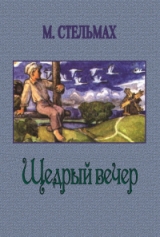
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Это тоже говорит моя мама. А что время бывает добрым и нехорошим – знаю сам…
Сегодня оно веселило родителей и печалило меня. Серебро дядьки Якова не принесло мне радости, потому что отец и мама решили, что теперь, если найдется покупатель на Обменную, можно будет купить коровенку.
– Так вы хотите продать Обменную?! – аж вскрикнул я, услышав такое.
– А что же должны делать?
– Не продавайте ее, – задрожал мой голос, а в доме стадо совсем тихо.
– Не мы ее продаем, злыдни наши продают, – через какую–то минуту грустно сказал отец. – Вот вынеси ей в последний раз обмешки[24]24
Обмешки – корм для животных, замешанный на отрубях или дерти.
[Закрыть], да и уже…
– Отец…
– Помолчи, Михайлик, без тебя хлопотно.
И я замолк, но так мне стало тяжело, что и не говорите. Какая ни есть наша Обменная, а жалко ее: сколько тех лесов объездили вместе, сколько было бессонных ночей, разных приключений и несогласий.
Неважно спалось этой ночью, ко мне все время приближались большие темно–синие глаза нашей и уже не нашей лошади, отзывалось ее обеспокоенное ржание. Я несколько раз просыпался, смотрел на луну, что грустила в одиночестве, и снова беспокойно засыпал. На рассвете я напоил Обменную водой с туманцем, который и зимой таится в нашем колодце, и, вздыхая, вывел ее из овина во двор, где на снег розовыми лужами легли мерцания рассветной зарницы. Руками и щеками я прощаюсь с лошадью, и она, видно, услышала мою печаль, прислонилась ко мне мягкой стариковской губой и грустно–грустно заржала.
– И скот что–то чувствует, – вздыхая, подходит к нам закутанная мать, которая тоже собралась на ярмарку. Как же без нее отец может купить коровенку? – Вот, Михайлик, считай, и нет у нас Обменной.
– Хоть вы не говорите такого, – навивается грусть на глаза.
– И мне жалко, но что сделаешь.
Скоро к воротам подъезжает дядька Трофим с отцом, и наш небольшой двор полнится гулом. Дядька Трофим со всех сторон начинает осматривать и теребить Обменную, а отец не удерживает насмешки:
– Смотришь, не обернулась ли перед торгом на коня?
Дядька хотел было насупиться, но передумал и улыбнулся теми карими глазами, в которые откуда–то захватил такие золотые ободки–перстни, что они аж привораживали женщин.
«Ты же, когда идешь на люди, прикрывай свои перстни веками!» – не раз приказывала ему жена.
– У вас водки нет? – спрашивается дядька Трофим, не отступая от Обменной. – Подпоить ее надо.
– Подпоить лошадь? Да что вы, Трофим? И для чего это? – удивляется мать.
– Водка дает блеск глазам и на некоторое время молодит коня, – со знанием дела объясняет дядька Трофим, который очень жаловал толочься по ярмаркам.
– А зубы она тоже молодит? – подсмеивается отец.
– А зубы ей надо было бы почернить, потому что, когда у коня черные зубы, – и ливерант[25]25
Ливерант – барышник.
[Закрыть] его возраст не узнает.
– Так у нее на голове уже посеялась гречка[26]26
У старого белого коня появляются пучки черных волос, а у черного коня – белого. Эти волосы называется гречкой.
[Закрыть].
– А гречку надо покрасить.
– Многое ей надо, так не будем тратиться ни на краску, ни на водку.
– Дело хозяйское, – нахмурился дядька Трофим, который умел подпаивать коней, а после такой работы не забывал и о блеске в своих глазах.
Уже совсем рассвело, когда мы выбрались за село. Отовсюду ехали и шли на ярмарку люди, и впереди, и сзади поскрипывал снег, слышались голоса, а девушки всю дорогу припорашивали смехом, и, прислушиваясь к ним, старые липы осыпали голубую изморозь.
У перекрестка мы догнали дядьку Владимира. Он так тянул за собой корову с веревкой на рогах, будто собирался посадить ее себе на плечо.
– Владимир, не скрутите ей вязы, – отозвался дядька Трофим. Скупец сверкнул дурным глазом, но дядька Трофим не отстал от него: – Владимир, усаживайте ее на плечо, а то она вас на рога посадит.
– Есть и безрогие, что на рога усаживают, – наконец мрачно отзывается дядька Владимир.
– А сколько за корову правите?
– Все деньги.
– А молоко от нее, Владимир, хоть на Пасху видели?
– Лучше бы я тебя, такого, безмозглого, не видел.
Но дядька Трофим не сердится, а смеется и уже нацеливает глаза на обочину:
– Вот посмотрите на танец!
Там, возле липы, чуть ли не плача, стояла тетка Дарка, а в паре шагов от нее, как ненормальный, крутился и подскакивал подгонистый подсвинок.
– Дарка, он у тебя карапет или польку–бабочку разучивает? – спросил отец.
– Ох, и не спрашивайте, что эта холера вытанцовывает, – аж застонала женщина. – Купила же на свои деньги несчастье. Думала, кабанчик, а он – кнорус. Это кум вразумил перед торгом залить его водкой, а он что вытворяет! – Женщина ударила кноруса лозиной, тот с испугу сделал пару головокружительных прыжков, осел на задние ноги, взвизгнул и удивленными красными глазами взглянул на хозяйку.
– Он у тебя и на сцене смог бы выступать, – засмеялся отец и многозначительно глянул на дядю Трофима.
– Свиньям водка не так идет на душу, как коням, – пробубнил дядька Трофим.
– Вот не знал до сих пор, что и свиньи имеют душу, – подсек отец дядьку Трофима и покивал рукой тетке Дарке: – Поворачивайся, женщина, домой и протрезви своего танцора огуречным рассолом.
– Так, наверное, и придется сделать, – уныло согласилась женщина. – Пропал торг, пропала и водка. А чтоб тебе, сякой и не такой!..
И где только того люда берется на ярмарке?! И как он не потеряется в той движущейся каше, которая разбухает, колобродит, гудит, смеется, торгуется, пустословит, отзывается ржанием коней, ревом волов, звоном железа, горшков и струнами лирников?
И чего только теперь нет на ярмарке?! И кожухи ниже пят, чтобы за собой прометали снег, и коротенькие, обшитые мерлушкой полушубки для девушек и парней, и свитки, и киреи, и сапоги разных фасонов, и лапти, которые смеются всеми складками, и шапки, как стожки, и такие укороченные, что и с ухом не поздороваются, и варежки, и суконные штаны, и цыганские сережки из червонного золота, и перстни под золото. И все это самодельное, со своим мудрствованием и ухищрением.
Есть здесь и фабричные сукна: английские, французские, немецкие, австрийские, – все отбиты у завоевателей; покупают их не так степенные люди, как фертики–ветрогоны и писари, что хватаются за хвост моды и этим показывают весь свой ум. Даже какао у нас есть! Захватили дядья это добро на станции Жмеринка, выгрузили из вражеского эшелона, привезли домой, нюхают, как табак, и не знают, что оно за диво: или перец ароматный, или что–то другое. А женщины догадались, что это заграничная глина, развели ее водой и начали подводить завалинки. А какой с этого толк? На эту мазку, как сумасшедшие, набросились свиньи и начали с деревом обгрызать завалинки. Но теперь и у нас узнали, что оно за какао, и посматривают на него пренебрежительно. И когда кто–то капризничает с едой, насмешливо спрашивают:
– И что вы будете потреблять: какао или зельц?
А какого только масла у нас нет! И подсолнечное, и льняное, и конопляное, и из рапса, и из ярового рапса, и из рыжея, и из мака. И такое оно, говорят, полезное, что помогает даже тем, у кого почему–то не хватило масла в мозгах.
А вот товара на ярмарке мало, и он кусается – очень дорогой. Самодельное полотно теперь заменяет земледельцу товар.
Над дорогой прямо разноцветными холмами поднимаются горшки, миски, полумиски, кувшины, водосточные трубы, макитры, и женщины руками выбивают из них перезвон.
– Разве это горшок?! – восхваляет гончар какой–то молодице свои черепки. – В нем больше звона и приварка, чем в иной голове…
– Вот Варвара, что ночь оборвала, а день доточила! – показывает маляр женщинам молодую веселоглазую в лентах Варвару, которая совсем не похожа на святую.
– Чего же твоя Варвара в лентах? – подозрительно допытывается немолодая женщина.
– Потому что она еще не дожила до ваших лет, ей тоже хочется быть девушкой…
– Берите, человече, дешевле за чан.
– Никак не могу дешевле, – упирается степенный бондарь с усами Тараса Бульбы. Вокруг него, как воинство, стоят большие чаны, бочки, кадки, а в них то вздыхает, то посвистывает ветерок.
– Чего же не можете? Или он родил вас?
– Да нет.
– А может, он из серебра–золота?
– Да нет, – тянет свое бондарь.
– Так чего же дрожите над ним?
– Чего? Я в этом чане, мужчина, семь лет прятался от жены, лишь на восьмом помирились. Жаль за дешево прощаться, – себе дороже стоит.
– Га–га–га!..
На животноводческом торге наша Обменная не обратила на себя внимание покупателей. Привязанная к саням дядьки Трофима, она, понурившись, перетирала сено и, очевидно, думала о человеческой неблагодарности. Купцы пренебрежительно проходили мимо ее натруженных лет и останавливались возле тех коней, которые имели в глазах не водочный блеск.
– Долго нам придется ее водить по ярмаркам.
– На всякий товар есть купец, – успокоил отца дядька Трофим. – Найдется и на Обменную.
– Хоть бы за нее десятку дали.
– Может, и десятку дадут, может, и на девяти сойдетесь, да и восемь – деньги, – не сокрушался дядя Трофим. – Главное, чтобы свежая копейка забряцала. А вон и Владимир купцов разгоняет, – видно, запросил цену, как за родную маму. Может, помочь ему?
– Помогай.
Дядька Трофим подошел к скупердяге, перекинулся несколькими словами и схватился обеими руками за голову. Дядька Владимир хекнул, подумал, махнул рукой: дескать, где мое ни пропадало. Тогда дядька Трофим втиснулся в гурт и вытащил оттуда дядьку Николая, тот подступил к корове, смерил ее лукавым глазом и заговорил, как в цимбалы заиграл:
– Слышите, люди добрые! Продается корова – не корова, а чудо! Имеет она четыре дойки, два рога, один хвост – и все доится! В дойках – молоко, рога собирают масло, а хвост – жир.
Покупатели сразу двинулись к корове дядьки Владимира, и вокруг него поднял хохот.
К нам молодцевато подошел дядька Трофим.
– Так продаст Владимир корову? – спросил его отец.
– Теперь продаст, если не передумает: Николай так ее расхвалит, что и Владимир поверит ему.
Скоро дядьку Трофима, отца и маму добрые люди позвали выпить магарыч.
– Как же мы все пойдем? – заколебалась иметь.
– Чего вы, Ганя, сокрушаетесь? – пожал плечами дядька Трофим. – Оставим здесь Михайлика, и пусть правит за лошадь все двенадцать рублей. Разве же мы надолго? Ты же, мальчик, не продешеви! – сверкнул на меня веселыми золотыми перстнями и подался с родителями на магарыч.
Когда они потерялись в человеческой коловерти, я хотел было на минутку отскочить к кобзарю Демку, голос которого долетал с другого конца ярмарки. Но в это время около саней, как вкопанный, остановился поджарый, в высокой шапке крестьянин. Он изумленно дунул на свои усы, отделил от них два прокуренных клочка, потом осторожно обошел вокруг Обменной, хмыкнул и спросил меня:
– Она еще живая?
Такой насмешки отец не придумал бы. Я сердито посмотрел на насмешника и отвернулся. А покупатель погладил лошадь, провел рукой по ее голове, и – чудо – Обменная не оскалилась, а потихоньку заржала.
– Таки живая! – еще больше удивился дядька. На его привядших щеках и под его уже раздвоенными усами шевельнулась улыбка.
Хотелось мне в сердцах что–то отрезать ему, да как–то сдержался.
– Мальчик, а сколько этот одер правит? – хитровато посмотрел на меня купец.
– А зачем он вам?
– Да думаю поставить его в рамку и любоваться.
– Это же и мы делали.
Покупатель засмеялся и снова спросил:
– Так какую он цену правит?
– Двенадцать рублей.
– А чего так дешево правишь? Почему не все двадцать?
– Это уж отца спросите.
– А где же он?
– Где–то на ярмарке, – погрустнел мой голос. Я догадался, что передо мною стоит истинный купец. – Дядя, вы думаете купить ее?
– Таки думаю. Или что?
– Я не советовал бы вам этого делать.
– Что–что?! – вытаращился на меня поджарый, оттопырил губы на поларшина от зубов, а потом расхохотался. – Вот наскочил на продавца! Такого еще не встречал на своем веку! Кумедия, и все!..
Ему это была комедия, а мне – горе.
– Чего же ты не советуешь покупать? – аж нависает надо мною покупатель.
Я оглянулся. Вокруг шевелилась, гудела, била в затвердевшие ладони, смеялась и вызванивала ярмарка, – ей безразличны были мои тревога и грусть.
– Так чего ты не советуешь мне быть вашим сватом? – не терпится сухопарому. – Скажешь чистую правду – куплю бублик.
– Не надо мне ваш бублик.
– Если такой богатый, то как хочешь. Говори, что должен говорить.
– Вы же отцу не скажете?
– Зачем мне на соучастника наговаривать? – правдиво удивляется весь вид поджарого. – Говори!
– Старая она очень.
– Старая, но здоровая, – заступился за Обменную покупатель. – Вы ей впадинки под глазами не заливали теплым воском?
– А это для чего? – с боязнью спросил я. Поджарый пальцами потрогал у Обменной впадинки.
– Развелось теперь хитрецов, что и коней подрисовывают, чтобы нашего брата обмануть. Еще какой она имеет недостаток?
– Немного кривобокая…
– Для рабочей лошади это не большая беда. Еще что?
– И вредна она: кусает и лягается. А быстро поехать на ней и не вздумайте.
– Спасибо, мальчик, утешил. Ох и утешил, – снова засмеялся купец, ощупывая меня удивленными глазами. – И где только вот такие продавцы берутся? Или тебя, может, наняли отгонять купца?
Именно на эти слова вернулись раскрасневшиеся родители и дядька Трофим. Я сразу же притих, уменьшился, а купец насмешливо обратился к отцу:
– Чем вы, человече, своего рысака кормите?
– Золотыми галушками, – не растерялся отец.
– Оно и видно, что золотыми, потому что все зубы проедены. А какая цена ему?
– Разве дитя не говорило?
Купец подмигнул мне усами, на которые напирал красный, как перчина, нос.
– Дитя такое сказало, что вам надо еще доплачивать, чтобы кто–то взял этого рысака.
– Ой дядя!.. – искривился я и сразу так подался назад, что чуть торчмя не зарылся.
– Что же малое наплело вам? – верит и не верит отец покупателю.
А у того смех аж холмики на щеках выбивает.
– Говорил, что ваша лошадь и старая, как Ветхий завет, и кусается, и лягается, а быстро поехать на ней – нечего и думать.
– Вот дождался помощи! – отец так посмотрел, что у меня в глазах и под ногами закружилась вся ярмарка.
– Так–так, – нахмурился и дядька Трофим. – А еще и в школе науки проходит. Вот и бери такого на ярмарку.
Покупатель, аж качается от хохота, положил руку на отцовское плечо:
– Да вы, человече добрый, не очень сердитесь на своего остряка. Все это я знаю лучше его и вас: кобыла же когда–то была моей!
– Вашей?! – совсем округлились глаза у дядьки Трофима, а по их перстням прошел туманец. – Неужели вашей?
– Моей! – добродушно засмеялся сухопарый. – Я еще каким–то подвыпившим чудакам продал ее за коня и после этого смеялся два дня и три ночи. Проснусь и смеюсь!
– Веселый вы человек, – не знает, что сказать, дядька Трофим. Отец же от этой речи оживляется, а я начинаю понемногу оживать.
А сухопарый, что–то вспомнив, подходит к Обменной, обнюхивает ее губы и спрашивает:
– Вы ее водкой не подпаивали?
– У нас не ваш характер, – хмурится дядька Трофим, а у отца ямка на подбородке вздрагивает, берет «соб» – на смех.
– Да вы не сердитесь: кто кого не обманывает на ярмарке, – дружески посматривает длинноногий на дядю Трофима. – На ярмарке мы все понемногу становимся цыганами. А с вами, надеюсь, сватами будем. Га?
– Может, и будем.
– Продал я когда–то эту клячину за десять рублей, а теперь берите девять – и по рукам. Надо же хоть жену порадовать, что выкрутил у кого–то свой рубль. Как вы на это?
– Пусть будет так! – отец ударил рукой об руку странноватого покупателя, а тот тоже ударил отцовскую руку и полез в карман по мошну.
– Вот люблю, когда какая–то коммерция есть! – наконец развеселился дядька Трофим и грохнул на меня: – Как же ты, отецкий сын, мог такого намолотить? Га?
Я исподлобья глянул ему в глаза и ответил:
– Потому что меня мой отец учил говорить только правду.
– Всюду, но не на ярмарке! – заревел глазами отец. – В торге и святые правды не говорят, – неинтересно торговаться будет. Бублик хочешь?
– Ой хочу! Если можно – с маком!
– Еще и с маком? – стало грозным отцовское надбровье. – Дома я тебе натру мака!
– Э? – не поверил я, потому что разве не видно, что гроза уже проходила над моей неразумной макитрой.
А тем временем покупатель кивает нам головой и уже тянет за повод Обменную. Я подбегаю к ней, прощаясь, обхватываю обеими руками ее голову и вижу, как в больших, возрастом притемненных глазах стоит человеческая печаль.
– Дядя, вы же только не бейте ее, потому что она старая, сработанная, – чуть ли не плача, умоляю крестьянина.
– Да не буду ее кости калечить, – пообещал покупатель и повел с торга уже не нашу Обменную.
Я долго–долго смотрел им вслед, аж пока не исчезли с глаз сначала Обменная, а потом высокая шапка крестьянина.
Раздел седьмой
Знаете ли вы, что такое галифе из полотна?
На это сам Николай Васильевич Гоголь ответил бы отрицательно: «Нет, вы не знаете, что такое галифе из полотна».
И лучше бы не ведать этой роскоши. Но многое пришлось испытать детям страны, ставшей сердцевиной нового мира.
Войны, разрухи, блокады, нужды пригнули наше село к убогому ралу, к самодельному ткацкому станку и к мертвенной плошке. Наша молодая история шла по селам не в серебре–злате, а в шершавом самодельном полотне, но все равно в ее веселых голубых глазах стояли миры надежд!
Тогда и наши будущие ученые, и будущие астронавты, и чародеи слова просыпались и засыпали под урчание маминого веретена. Это урчание приносило им в сны шмелиное жужжание, и пение розовой гречки, и взмах крыльев ветряной мельницы, и какие–то такие думы, от которых у человека прорезались новые дерзания или крылья.
А какие думы витали тогда в головах матерей? И многие ли вспомнили, что в этом белом полотне, что расстилалось повсюду и за копейки раскатывалось по напыщенным экспортам, горбились бессонные ночи, пригашенный плошками цвет глаз и стон протертых кончиков пальцев?..
Я не очень любил работу возле трепалки, мялки, прядения, снования, золения, но очень любил, когда ткалось и отбеливалось полотно. Если вы не знаете, как наши матери белили полотно, то вы многое потеряли.
Это начиналось тогда, когда на лугах и левадах затопленный чистяк прямо в барвинковой воде засвечивал свои свадебно–золотые светильники, а из лесу отзывалась кукушка. И вот рано утром, еще и раненько, когда в селе зевает ленивый туман, на лужайку с полотном на плече приходит хозяйка. Она становится лицом к мглистому солнцу, намывает им свои ресницы, что–то доверчиво шепчет ему, а дальше, подоткнувшись, босиком, как аист, входит в воду, выбирая такое место, чтобы низ полотна лежал на воде – на чистяке, на траве и мяте, а верх насыщался лучом. А если бы этого не было, то зимой наши субботние рубашки не пахли бы мятой, не отзывались бы кукушкой и не грезилось бы нам весной…
В те полотняные времена в нашем селе пошла мода на галифе, и так она пошла, что, как лихорадка, охватила всех мужчин. И каких только галифе тогда у нас не было: и круглых, как полбутона, и полукруглых, и тех, что начинались изгибом, а заканчивались дужкой, и таких, будто перевернутая голова быка, и совсем рогатых. На что уж девушки – и тех соблазнила мода: хотя они тогда еще не носили штанов, все равно некоторые придумали галифе на рукавах сорочек: начиналось оно прямехонько от чехлов и исчезало, не доходя плеч. Правда, это галифе не было таким пышным, как у парней, но и оно вызывало зависть или пренебрежение у тех, кому возраст не позволял гоняться за модой.
Так что после таких портняжных новинок должен был делать я? Тоже канючить галифе. На это мать смерила меня насмешливым взглядом и ответила:
– Хороший ты и без галифе, уж такой хороший, что дальше некуда.
Я пропустил характеристику мимо уха.
– А в галифе, наверное, буду еще лучше. Вот сами посмотрите.
– С меня хватит и такого мучителя, – чего–то не хотелось матери, чтобы я стал лучшим.
– Так уж, мама, хочется этого галифе…
– А дубового сала или березовой каши не хочется? Вон лучше побеги бурьяну нарви.
– А галифе пошьете?
– Как тебе шить: поперек или вдоль спины?..
– Разве же галифе на спину шьется… – еще не сдаюсь я.
– Можно и на спину, лишь бы выдержала она, – и насмешливо, и печально улыбается мать.
Видать, мода не очень волновала ее, и я со временем смирился, что разживусь на галифе, когда буду иметь в руках свое ремесло и копейку. И вдруг такой праздник перед самым рождеством!
Просыпаюсь утром, бросаюсь к одежке – и сам себе не верю: на весь наш сундук раскапустилось галифе, и не просто из полотна, а до синего блеска накрашенное бузиновым соком. Такое галифе издали может сойти и за фабричное! А черные шнурки на нем – из самой настоящей «чертовой кожи», что даже взрослым идет на праздничные штаны.
– Ну, как оно, сынок? – поворачивается от печи мать.
– Ой спасибо, мамочка… Как же вы без мерки?
– А что там мерить в тебе: шкурку и дырку? Узкие будут – растянем, широкие – подошьем, длинные – на вырост пойдут.
Вот как тогда в селе смотрели на моду, главным была, – то ли в одежке, то ли в обуви, – прочность.
– Примерить можно?
– Да одевайся. Сегодня в них и в школу пойдешь. А вечером, если захочешь, кому–то вечерю понесешь.
– Я к дяде Себастьяну пойду.
– Ох и надоедаешь ты ему.
– Это я слышу только от вас, а не от него.
– Можно и к дяде Себастьяну. Одевайся.
Если бы вы знали, как приятно зашелестело галифе в моих руках, как повеяло на меня весенней мятой, а шнурки зашевелились, как живые. Надел я галифе, сразу подрос и улучшился сам себе.
– Как оно, мама?
– Да кажется, ничего. Только будто одна штанина немного меньшей вышла.
– Таки в самом деле меньшая.
– Так я подрежу большую.
– Э, нет, еще снова не угадаете. Я лучше меньшую буду понемногу растягивать.
– Растягивай, если не имеешь другой работы.
Пока мать готовила королевский завтрак – картофель в мундире, я сосредоточенно возился возле галифе, растягивая его и пальцами извне, и кулаком изнутри. То, что оно было пошито немного не так, не очень смущало меня.
В школе мое галифе заметили и сторож, и ученики, и учительница. Ученики приветствовали новую одежонку смехом, разными восклицаниями и подняли меня на ура; учительница же улыбнулась и одобрительно кивнула головой, а сторож назвал меня кавалером и на некоторое время приглушил мою радость. Это же надо выдумать вот такое похабное слово! Зато Люба аж охнула, когда увидела мою обновку:
– Прямо как городское!
– А чего же, – загордился я, поправляя меньшую половину.
– Ты в нем и на каток где–то не пойдешь?
– Пойду.
– Э?
– Разве оно меня родило?
– Не побоишься измарать?
– Ерунда, – говорю так, будто мне каждый день приходится ходить в обновке. – Ты придешь на леваду?
– А дашь коньки?
– Если очень попросишь, дам, а то кто же будет лед пахать носом!
– И чего бы вот я гордилась, хотя и в галифе, – подколола Люба и бросилась к девушкам.
После школы, улучив благоприятную минутку, я тайком от родителей понесся на каток. И что удивительно – идя селом, я тоже болтал не застегнутой свиткой, чтобы все видели мое галифе. Теперь я понимал Юхрима Бабенко, как ему хотелось похвастаться своей австрийской и английской одежиной.
Обновку замечали люди, удивлялись, говорили, что она очень к лицу даже такому оторве, как я. А меня гордость все поднимала и поднимала вверх, и я уже залетал в то время, как буду учителем и сошью себе суконное галифе. Что тогда скажет наш сторож?
На катке уже шумно, как на ярмарке. И как здесь ни увивается малышня, и на чем она только ни катается: все у нее есть, кроме фабричных коньков. А самоделки здесь собрались такие, каких теперь уже нигде не увидишь. Но и на них все с веселыми глазами встречают свою волю. А когда кто и упадет, его сразу же покрывает беззаботный смех.
Я становлюсь на свои фасонистые, проволокой подвязанные коньки и резко отпихиваюсь острым шпинем. Подо мной сразу пискнул, зашипел лед, а возле ушей отозвался ветерок.
«Здоров, головорез!» – в мыслях здороваюсь с ним и снова шпинем и шпинем в лед – и вперед–вперед, да пригнувшись, вот так, чтобы слеза набегала на глаза, а ветер оставался сзади. Попробуй догони! Только и твоего, что за полу свитки подержишься!
А лед сегодня аж выигрывает на скрипке, и такой он после большой оттепели чистый, что под ним виднеется печаль затопленных ивняков и травы. А разве это не радость – вытягивать из него посвист и слышать в своих ногах ветер?!
– Михайлик, Михайлик, аго–ов! – напевно отозвался возле верб Любин голос.
Ой, какая она хорошая сегодня в новенькой юбочке, сачке[27]27
Сак – женское полупальто свободного кроя.
[Закрыть] и большом терновом платке! Я поворачиваю к тем вербам, которым года высаживают середину, а Люба спешит мне навстречу.
– Ишь, какая ты сегодня!
– Какая? – радуется, играет глазами и стесняется девочка.
– Праздничная.
– Потому что сегодня свят–вечер заходит. Мама даже дала мне свой платок. Видишь, какие на нем цветы? – И хвалится, и стесняется хвальбы, чтобы я часом не подсек ее насмешкой.
Платок на самом деле хорош: на черном поле, как на куске крестьянской судьбы, так зацвели красные цветы, что за ними и не видно темной печали.
– Тетка Василина тоже накрывалась им, когда ездила петь в театр. Ой, ей так хлопали в ладони, так хлопали, даже в газете в этом платке напечатали.
– В этом? – сразу более дорогим и волшебным становится для меня этот платок, столько впитавший в себя огней и глаз.
– В этом самом. Невидаль, а не платок.
– А как теперь тёткин дядька?
– Сначала тайно убивался, а теперь тайно гордится и такую любовь показывает, какой даже при ухаживании не было. А кое–кто подзуживает его. Я немного покатаюсь на твоих. Можно?
– Только не упади.
На это Люба махнула рукой и рассудительно сказала:
– Разве обойдешься без этого?
Она неуверенно встала на коньки, ударила шпинем в лед, а ноги ее сразу пошли в разные стороны.
– Ты бы их веревочкой спутала, – укусил я, а Люба, вместо ответа, показала кончик языка. Увидев его, я засмеялся.
– Ты чего? – удивилась девочка.
– У тебя и язык темный, как лицо, а я и не замечал этого.
– Хи–хи–хи, – слетела с коньков Люба и ухватилась обеими руками за живот. – Утешился, пустомеля!
– Чего это я пустомеля?
– А чего выдумал такое?
– Разве я виноват, что у тебя язык черный?
– Это мы сегодня ели пареную чернику – и во всех, даже у отца, почернели языки, как у трубочистов. Научишь меня немного ездить?
– Поедем дальше, – с опаской взглянул на то место, где куролесила детвора: – не очень хотелось, чтобы тебя подняли на смех.
– Можно и дальше.
Между вербами и ивняками я на коньках помчал к той Медвежьей долине, где возле мостика стоит одиноко хуторок–однохатка и где мы когда–то с дедом находили места вьюнов и карасей… Эх, деда, деда, кто мне теперь выстроит ветряк, кто посадит возле его крыльев молодого лебеденка?
Я остановился на пятачке того плеса, где мы с дедом поймали самого большого щупака. Здесь лед был такой тоненький, что слышалось, как под ним потихоньку шептала и пререкалась с берегом вода. А на берегу, как седые деды, стояли заснеженные стожки; перехватывая солнце и ветер, они тихо–тихо звенели и отряхивали слезы на снег.
– Михайлик, а здесь не страшно? – подбежала запыхавшаяся и раскрасневшаяся Люба.
– Чего тебе страшно?
– Здесь вода совсем живая. Вот видишь, как она дышит? Пошли отсюда.
– Ничего, такой вес, как твой, выдержит. Вот становись на коньки.
– Я немного дальше!
– Дрожь одалживаешь?
– Что ни говори, а страшновато!
Люба встала на коньки подальше от течения, я взял ее за руки и, пятясь, потянул за собой. Если же ее ноги разъезжались, то останавливался и учил, как надо держаться, а дальше снова тянул за руки. А когда эта учеба надоела, забрал у нее коньки, присвистнул и, щеголяя, помчал, как хотелось мне: с такими вывертами и поворотами, что аж вокруг затанцевали ивняки и вербы. Ветер ловил меня, а я его, и хотя на глаза набегали слезы, – в глазах было полно упорства.
– Ты прямо, как метелица, кружишь! – восторженно сказала Люба и аж затанцевала на льду, и затанцевали ее красные цветы.
А я после ее слов, как бес, вывертел круг, выбросился на ясенец, а оттуда снова помчал к седоголовым стожкам.
И вдруг подо мной зашипел, вогнулся и треснул лед, по нему поползла ослепительная паутина трещин, сразу подпрыгнул вверх берег, а из глаз начали выпадать солнце, стожки и вербы. Вода обожгла меня, как огонь. К счастью, руки мои, выпустив шпинь, повисли на льду, я в один миг вылетел из реки и, сам не знаю как, оказался на берегу возле вербы.
С моей верхней одежды и, главное, с галифе зажурчали ручьи, а в сапогах зачавкала вода. Затуманенными глазами увидел прорубь, паутину трещин вокруг нее, что играли солнцем, и мой одинокий, прибитый к берегу конек.
Растерявшись, я не знал, что делать, и прежде всего вытирал рукой лицо, а непослушные зубы в это время начали выбивать противную чечетку.
– Ой Михайлик, ты не утонул? – подбежала ко мне испуганная Люба. С ее щечек исчезла смуглость, а глаза совсем округлились.
– Да кажется, не утонул, – попробовал еще бодриться, но из этого ничего не выходило.
– Сейчас же снимай сапоги! – приказала Люба.
Я послушно сел на горбатящееся корневище вербы, пробивающееся из–под снега, а школьница обеими руками уцепилась в сапог, стянула его и вылила грязную воду. Когда я переобулся, Люба сразу же потащила меня в село.
– Побежим к нам, это огородами совсем недалеко. И твои родители не узнают.
А мне в глазах уменьшается день и увеличиваются цветы на ее платке. Над берегом, а потом огородами помчали мы в село. Но уже недалеко от Любиной хаты я засомневался:
– А что скажут твои родители?
– Отец сейчас в лесу, а мама скажут, чтобы ты лез на печь и не горевал, – передала мамин голос.
Совсем запыхавшиеся и обессиленные, мы добрались до Любиного двора, посреди которого стояла лесная козочка. Увидев незнакомого, она, как тень, мелькнула и исчезла в сарае. Только мы растворили входные двери, как нас обдало благоуханием сена, компота, свежеиспеченного хлеба и яблок.
«Вот же кому свят–вечер, а кому–то – грешная купель», – сникший, закоченевший, останавливаюсь в уголке возле посудника, а неверные ноги начинают выбивать дрожь.
– Ой горе мое, что с тобой, дитя?! – будто крыльями, мелькнула белыми в цветах рукавами чернявая молодица, на миг застыла посреди хаты и испуганно спросила у Любы: – Вы в прорубь вскочили? – Потом цветы на ее рукавах опали, охватили меня. Я оказался посреди хаты, оставляя за собой грязные следы и потеки.
С печи выглянул и с того дива заплакал привязанный белоголовый, как одуванчик, ребенок. Вы, конечно, и не знаете, как когда–то привязывали малышню? Неустанная работа научила наших родителей делать это просто и хитроумно: в матицу ввинчивалось кольцо, к нему цепляли веревку, второй конец перебрасывали за дымоход и так увязывали под руки ребенка, чтобы он мог гарцевать по всей печи, но не упасть с нее.
А тем временем тетка Оляна ловко снимает с меня верхнюю одежду, сапоги, рубашку, подталкивает в плече к лежанке, и я не успеваю опомниться, как оказываюсь в полутьме на печи в компании с напуганным одуванчиком.