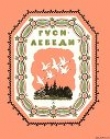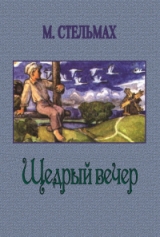
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
– Хорошо, деда, живу.
– Оно и видно, – становится грустнее весенний цвет в глазах старого пчеловода. – А где же Обменную дели, что сам чешешь на ветряную мельницу?
– Ссуды притерли ей ногу. Есть же такие люди, что не имеют к скоту никакого понятия.
– На корову еще не разжились?
– Нет.
– Учишься же хорошо?
– Хорошо, деда.
– Слышал, что ты памятливый у нас. Учительница уши не крутит?
– Она у нас добрая.
– И все равно вам надо, хоть изредка, крутить уши, – от этого ум прибавляется в голове. Чего же ты ко мне летом на пасеку не приезжал? – перекладывает мой мешок в сани, а санки цепляет к рожну своих саней.
– Как–то так вышло, – сам удивляюсь, как я не заглянул на пасеку. – В новом году непременно приеду.
– Гляди же мне и считай, что новый год уже начался. Ты знаешь, как он начинается? – устраивает меня возле себя и пеньковыми вожжами трогает коней.
– Нет, не знаю.
– Может, рассказать, или ты не из интересующихся? – смеются и плачут дедовы глаза.
– Мама говорят: такой любопытный, что дальше уже некуда. Расскажите.
Дед Данило пускает в бороду и в усы такую улыбку, будто он немного насмехается сам над собой, и неторопливо начинает рассказывать:
– Вот когда зима обрывает с дней тепло, когда они становятся самыми короткими и холодными, тогда кузнец над кузнецами – сам Сварог – в своей кузнице кует новогоднее солнце, кует, не покладая рук, еще и присматривается, чтобы нигде не было окалины, потому что тогда летом не согреются ни люди, ни скот, ни деревья, ни растения. Он в этом знает толк и трудится на совесть. Вот выкует он солнце и зовет к себе великана Коляду. Приезжает Коляда, запряженный в свои сани, как ты в свои санки, кладет на них солнце и едет да едет, и едет да едет с ним до самого неба. Доедет до неба, к выстывшему солнечному жилью, поднимет сани, а солнце скок из них в свое жилище, а из него и выглянет к людям. Вот с этого дня и начинается новый год. Вишь, ты и не читал такого? – чувствуется насмешка в голосе старика.
И хоть я знаю, что это сказка, а все равно уже вижу в кузнице кузнеца над кузнецами Сварога, а возле самого неба встречаюсь с Колядой, помогаю ему поднимать сани с солнцем, еще и одним глазом заглядываю в то жилье, где живет солнце, – может, оно тоже имеет детей, так я с ними на каток побежал бы.
– Вот мы и приехали, – дед разрушает мое видение.
Я соскакиваю с саней и снова оказываюсь перед другой сказкой – перед поседевшими крыльями ветряной мельницы, которые напились солнца и отряхивают на землю слезы.
На ветряной мельнице сегодня большой заезд. Возле мешков и на мешках стоят и сидят крестьяне, а кое–кто на корточках греется у макитры с накаленным углем. Между земледельцами красуется в роскошной синей бекеше и седой смушковой шапке Юхрим Бабенко. И хоть ветер насквозь продувает ветряную мельницу, Юхрим не застегивает своей бекеши, – пусть все видят его австрийское галифе и английский френч, подпоясанный ремнем с ладонь шириной.
Юхрим таки добился своего: сначала начал работать в волости сборщиком налогов и, хотя люди прозвали его волосным сдирщиком, все равно как–то выскочил в уезд и работает там фининспектором. На новой службе он еще больше загордился, стал барином, но принялся меньше употреблять писарских слов – бросился к политическим. Теперь, говорят, к Юхриму поплыли грубые деньги, не столько чистые, как нечистые. На его свадьбе, рассказывали острословы, даже птичье молоко было, а оркестр приехал из Винницы и для хозяина играл только польку–бабочку. На службе зеленые Юхримовы глаза пожирнели, коржастые щеки подошли, утопили нос. Прицепи под него несколько волосинок – и кот котом. Я стою возле дверей, вбираю в ноги мягкое гудение ветряной мельницы, и мне кажется, что Юхрим вот–вот замурчит. От этой совсем ненужной мысли смех ну никак не может удержаться внутри. Я его давлю, придерживаю губами, а он прыскает и надувает мои щеки. Нет, видно, не выйдет из меня, как говорит дядька Владимир, вежливого ребенка, – пойду я в свой перчистый, веселогубый род.
Юхрим подозрительно черканул меня взглядом раз, второй раз и въедливо спросил:
– У тебя, желтоклювое, есть баланс в голове?
– Натурально! – сгоряча отвечаю Юхримовым словом, а оно сразу вспыхивает в круглых глазах инспектора таким зеленым лиховестьем, что я тут же прикусываю язык и распутываю ноги.
– Ты еще паленного волка не видел? – пригибаясь, двинулся на меня Юхрим.
Я оказываюсь за ковшом и оттуда изумленно и перепугано переспрашиваю:
– Паленного?.. Нет, не видел.
– Так увидишь! – обещает Юхрим и старается ухватить меня рукой за ухо. Я отскакиваю дальше, а фининспектор становится на мое место и продолжает: – Увидишь, увидишь! Если не теперь, то в четверг. Без паленного волка у тебя не обойдется…
И Юхрим таки угадал: не один раз в нехорошие четверги крутился возле моего слова тот паленный волк, который один глаз застеклил вульгарным социологизмом, а второй гнетуще–серым подозрением…
Но это было потом… А сейчас я имею внезапную помощь. К Юхриму подходит тот дядька Шевко, который вылетает со всех служб, и презрительно спрашивает:
– Ты чего, мерзавец, прицепился к ребенку? Еще рано из него налоги тянуть – дай подрасти.
– Да разве я за налогом? – растерялся Юхрим.
– А что ты другое умеешь? Ты уже и на родную мать, и на стебель, и на зерно смотришь глазами сборщика. Наподличал в селе, наподличаешь и в городе.
– А вы не собирали в селе подать с огородов? – оскалился Бабенко.
– Так это же была веселая подать. У тебя на такую никогда не хватит соображения, – неожиданно хитрая улыбка добряка начинает просеивать на лице дядьки Шевко все его веснушки: мужчина, несомненно, вспоминает свою последнюю должность, причмокивает губами и нисколько не сокрушается.
В прошлом году его таки назначили уполномоченным по распределению усадебных участков. Дядька Шевко охотно взялся за эту работу и установил себе за надел усадьбы незаконную оплату: две бутылки самогона, десять яиц и ломоть сала. Правда, вечером он свою прибыль честно пропивал с людьми, – ничего не приносил домой. И все бы у него было хорошо, если бы одна тетушка, у которой не было куска сала, не пожаловалась на него дяде Себастьяну.
За Шевко взялся общественный суд. Судили его в школе, вспоминали прегрешения в прошлом и удивлялись, как он снова пролез на должность. Наконец кто–то спросил Шевко:
– И ты, мелкосовестный, не мог нарезать бедной женщине огород без сала?
– А на чем бы я тогда яичницу жарил? – негодующе ответил Шевко. И это наивное оправдание расположило всех к бедному дяде Шевко. Школа затряслась от смеха: хохотали и слушатели, и судьи, и истица. Она первой сказала:
– Отпустите его домой жарить яичницу.
Шевко замигал веками и растроганно заговорил к истице:
– Спасибо, сердце, и пошли ко мне на ужин. Я, слышишь, как хорошо поем, так моя душа тогда будто на подушке лежит…
А вот на меня ветром налетает чернобородый журавлистый мельник Иван, который живет за рекой и имеет очень хорошую жену. Он тоже, как большинство взрослых, имеет привычку прикидываться, не узнавать тебя и так говорить с младшими, будто они только сегодня увидели свет. Но разве нам привыкать до этого?
– Ты что, приехал сюда зубы продавать? – кричит дядька Иван и сразу делает три дела: грозно таращит глаза, трясет бородой и вытрясает из нее муку.
– Зачем мне эта кумедия? – делаясь важным, отвечаю на вопрос вопросам и, степенно коснувшись рукой шапки, кланяюсь мельнику.
– А чего же ты щеки, как на ветер, надуваешь?
– Чтобы лучше ветряная мельница молола.
И это очень нравится мельнику. Теперь уже он сам начинает смеяться:
– Так ты, видать, хозяйский ребенок. Не пристанешь ли к нам приемышем?
Здесь уже я не знаю, что ответить, только молча удивляюсь: чего это все взрослые так любят говорить детям о сватанье, женитьбе и приемышах? Некоторые родственники подбирали мне молодую еще тогда, когда я и в школу не ходил. Наверно, думают: у нас то в голове, что и у них? Дядька Иван, очевидно, догадался, что передал кутье меда, и уже подходит с другой стороны:
– Ну, а ты часом не цыганское или валахское дитя?
– Да нет, я беленький. А вот ваша Люда чернявая, – может, она валашка?
– Так ты даже мою Люда знаешь? Чей же ты будешь?
Ой дядька, дядька, хорошо вы знаете, чей я, и лучше бы не спрашивали это. Мне сразу становится неуютно на сердце, потому что вспоминаю одно из своих наиболее неинтересных приключений.
Ветряные мельницы всегда влекли нас, детвору, и своей красотой, и какой–то таинственностью, и разговором с самым небом, и особенно крыльями, к которым, когда они медленно двигаются, можно было прицепиться, на дармовщину покружиться, замирая, увидеть невидимые с земли села, еще и показать пастушкам свою отчаянность. Делали это мальчишки, делал и я. И вот однажды, когда, затаив дыхание, я роскошествовал на крыле, кто–то внезапно связал меня руками, отодрал от крыла, а дальше влепил несколько пощечин на том месте, которое более всего провинилось перед людьми. И только после такой операции я увидел не так сердитого, как напуганного дядьку Ивана. Вдруг он прижал меня к себе, и в его глазах я увидел большую тоску.
– Что ты делаешь, ребенок? – аж застонал мельник. – Сорвешься с крыла – отца–мать осиротишь или навеки калекой останешься. Жаль будет жизни, но ничего не сделаешь… Не сердись на меня – бил тебя не я, а моя печаль.
Те слова и тоска в глазах сразу растопили боль и обиду.
– Не будешь больше так делать? – провел дядька рукой по глазам.
– Нет.
– Побожись.
Я побожился.
– Вот и имею себе крестника, – улыбнулся мельник и простился со мной, как со взрослым…
Наверное, и дядька Иван вспомнил то давнее, но заговорил о другом:
– У тебя какая гречка?
– Какая же она может быть?
– Золотая или простая?
– Мешанная: немного золотая, а немного простая.
– Значит, на богатство идет, – шутя, дядька Иван засыпает в ковш мое зерно, а меня ставит к мучнику.
– Почему вы замарашку пропустили на дармовщину? – недовольно заворчал Юхрим Бабенко.
– Потому что нет у ребенка ни галифе, ни бекеши, – беззаботно ответил мельник.
– Ну да, ну да, – согласилось несколько голосов. – Малого надо раньше отпустить. – И добрые человеческие глаза своим теплом согревают меня.
Я краснею от человеческой доброты и склоняю голову к мучнику. А в него уже летит–трусится мука, еще и окантовывает себя черной чешуей. Это же так приятно рукой выбирать теплую–теплую муку, дышать ее пыльцой, еще и прислушиваться, как кто–то над тобой, возле ковша, ведет небылицу:
Iду я собi та йду,
Аж стоїть церква на льоду —
Млинцем зачинена,
Ковбасою защiбана,
Салом замикана,
Маслом запечатана,
Вкусив я масла – вiдпечаталась,
Вкусив я сала – одiмкнулась,
Вкусив я ковбаси – одщiбнулась,
Вкусив я млинця – одчинилась.
Входжу я в дверi, аж там – фе! –
Стоїть фiнiнспектор в галiфе…
Весь ветряк сразу взрывается хохотом, а Юхрим снизу, от мучника, начинает ругать кого–то самыми непристойными словами.
– Аса, чудище! Разве это о тебе говорится? Разве же ты один фининспектор в галифе? – рассудительно отзывается сверху приятный баритон. – И чего у тебя губа, как на коловороте, летает? Вишь, сколько при детях насквернословил, а уже и жениться успел. Когда уже ты, поганец, придешь по ум к голове, а не к другому месту?
И снова всем становится весело, только один Юхрим шипит, как сало на огне, и раструшивает зеленую злость из глаз:
– Я еще доберусь, умник, натурально, до твоей шкуры.
А умник беззаботно отвечает:
– Видно, с чьей головы вырастет дубина.
И снова люди так начинают качаться от смеха, что мельнику приходится крикнуть на них:
– Да поменьше трясите хохот, а то аж ветер поднялся, – муку развеет!
Уже полумгла усеяла снега нежно–розово–голубой пыльцой, когда я с мукой возвращался в село. Позади меня крылья ветряной мельницы перелопачивали ветер и снег, передо мной в долине готовились к свадьбе вербы–невесты, а за ними ревнивым затуманенным глазом смотрело небо. И вот уже исчез этот глаз, поголубели вербы, поголубела дорога, сквозь снег туманом дохнула долина, а я себе иду и иду по самой середине раннего вечера. И легко идти моим ногам по земле, и легко лететь моим мыслям по всем мирам…
Вот уже я становлюсь не я, а великаном Колядой. За мной поскрипывают не санки с узлом, а сани с самим солнцем. Нелегко мне самое солнце везти. Но я упираюсь ногами в землю и везу его на небо. Тут надо собрать всю силу, поднять сани и в аккурат пустить солнце в его жилище, чтобы ему радовались и люди, и скот, и поле, и реки, и лес.
И пока я обдумываю, как буду поднимать солнце, как потом загляну в его жилье, сзади внезапно слышится смех. Я оглядываюсь и на мешке вижу красный платок, а головы не вижу.
– А кто это на дармовщину прицепился к саням?! – кричу на платок, который прикрыл мой узел.
– Хи–хи–хи, – отзывается придушенный смех.
– Ну–ка, покажись – увидим, кого везем! – грозным делается мой голос.
– Это я, – поднимает голову Люба и так заливается смехом, что на ее платке начинает танцевать бахрома. Дальше школьница соскакивает с санок и аж качается от хохота.
– Так весело?
– Таки весело! – аж приплясывает Люба позади санок.
– Прилипала!
– От прилипалы слышу, – нисколько не обижается девушка.
– Откуда же ты взялась?
– Из хутора от своей тетки Софии иду, от той, которую похитил дядька Василий.
– Похитил?
– Ну да, потому что у них такая любовь была, как в песнях. А родители тетки Софии стояли не за любовь, а за богатство. Так дядька Василий ночью похитил ее в одной рубашке. И ничего живут себе, как люди… Я еще издали увидела тебя, подкралась, примостилась на санки, а ты даже и не услышал.
– Тоже мне вес, – пренебрежительно кривлю губы. – Сколько вас на фунт идет?
– И не задавайся! – подходит Люба ко мне и ухватывается рукой за веревку от санок.
– Лучше садись – подвезу!
– Тебе же тяжело будет.
– Комаром больше, комаром меньше – все равно.
Сначала я вез Любу, потом она такое сморозила – что подвезет меня! Вот было смешно! А дальше мы выехали на холм и начали спускаться втроем – я, Люба и мешок. Кто же не знает, что главное в спускании – это внизу с разгона вывалиться в снег. Вот и начали мы вылетать из санок тоже втроем. А когда мешок придавил Любу, я положил его возле вербы, – и нам вдвоем стало лучше и ехать, и падать, и подниматься, и отряхиваться.
Уже звезды засеяли небо, уже луна вышла покрасоваться, а у нас аж гудело в ушах от спускания. И вот Люба первой услышала с поля голос деда Данила.
– Что он только подумает о нас? – испугано спросила меня.
– Да хорошего не подумает, – согласился я, и мы изо всех сил помчали в село, которое уже низом качало тени, а вверх посылало дымы. На тракте, прощаясь, Люба сказала:
– Ты бы когда–нибудь, Михайлик, и к нам заскочил. Идешь себе с катка, вот и заверни в наш двор.
– Как–то заверну. А козочка у вас и теперь живет?
– Живет, потому что куда же ей с перебитой ножкой? И серые куропатки у нас есть. Их очень хотел купить дядька Сергей. Ему, бешеному, хотелось вбросить их в суп. А мама не продала, – пусть себе живут! И принеси мне что–то читать, а я тебе яблок дам. У нас даже тиролька французская есть, щечки у нее красные, прямо, как у девушки.
– Как у тебя?
– У меня же смуглые… У–у–у, противный, – уже исподлобья глянула на меня и обиженно узелком выпятила губы.
– Это же я пошутил.
– Знаем, знаем тебя, насмешника. В вашем роду все насмешливые.
– Ну да, – соглашаюсь я. – Хуже всего, все сами себя не жалеют: колят языками, как ножами.
– Это вы такие, наверное, от природы, – улыбнулась Люба. – Иди здоров.
И я пошел. А когда оглянулся, Люба еще стояла у калитки, обивала с сапожек снег и смотрела мне вслед. Нет, она таки славная девушка, хоть и с редкими зубами. У ворот меня уже ждали и отец, и мама.
– Доклешнял? – насмешливо спросил отец.
– Да как–то дотараканился, – почтенно ответил я. – На ветряной мельнице большой заезд был.
– За это время можно было бы и коня с копытами сварить. Или, может, ты вчерашнюю воду догонял?
– Да он, несомненно, со всеми бугорками и собаками здоровался, – улыбнулась мать.
– Или на катках сапоги дырявил, – добавил отец и так посмотрел на сапожки, что мои ноги обсыпало жаром.
– Еще дитя оно, – заступилась мать, – и все равно уже имеем помощника.
– Конечно! – насмешливо согласился отец, с размаха поднял меня вверх и посадил на свое плечо. Я от неожиданности ойкнул, обеими руками схватил его шею, а ко мне сквозь кованные ветви ясеней приближаются лучшие звезды моего детства и тихое пение тех далеких лебедей, которые навсегда залетели в мои сны и жизнь.
Раздел шестой
Теперь, ложась спать, я уже не кладу свои сапожки под голову, но и не ставлю в ногах, потому что тогда к ним чаще будет присматриваться отец. А такие смотрины, ох, ничего доброго не предвещают мне.
Ну, разве же я виноват, что подошвы почему–то аж горят под моими ногами, каблуки, рассердившись друг на друга, подаются врастопырку, а подковки на них протираются, словно бумага? Почему–то эти изгрызенные на катке подковки более всего удивляли и гневили отца. Он плотно, будто меня самого, за уши подтягивал к свету истерзанные сапожки и сокрушенно покачивал головой:
– У тебя, головорез, и железо не заржавеет, – нацеливал на подковки и глаза, и толстоватые губы: одну – с обрубками усов, а другую – с вмятинкой.
По ним я безошибочно определял, какое настроение у отца, и, наклонив голову, или молчал, как рыбина, или будто задумчиво бросал:
– Разве теперь железо?
От этих слов отцовская вмятинка вздрагивала, брала «соб»[22]22
Соб, сабе (или цоб, цабе) – возгласы, которыми волов, запряженных в телегу, поворачивают налево и вправо.
[Закрыть], а самого отца с сапогами в руках начинало раскачивать веселье, к отцу присоединялась мать, а дальше и я из–под самого грома вскакивал в смех…
Сейчас, наверно, многие удивятся: почему такие самые обыкновенные слова могли развеселить людей? Поэтому придется вернуться к тем годам, когда через руины, нужды и шипение разных и всяких непобедимо пробивалось новое. Тогда кой–какая немудреная продукция, скупо доходящая до села, никак не могла вызвать восторг, и ее по–разному порицали или ругали – все зависело от характера и отношения осуждающего к тому, что называлось «такое время».
И вот, говорят, на какой–то ярмарке одна придирчивая тетка, выбирая комок белой глины, пренебрежительно изрекла:
– Разве теперь глина? Вот когда–то, за царя, была глина…
И эти темные слова тетки, которой даже теперешняя глина не смогла угодить, развеселили веселогубых покупателей и пошли гулять по Украине милой, выбивая усмешку у добрых людей. Бросит, например, кто–нибудь упрек парням, а его и осадят насмешкой:
– Разве теперь парни? Вот когда–то были парни…
Эта шутка и меня несколько раз спасала от пакостного орудия, которое у нас и после революции называлось ремешком…
Сегодня отец тоже так взял сапожки – за полотняные уши, что мне захотелось чем–то защитить свои уши. Отец поднимает сапоги к лампе и перед осмотром косится на меня:
– Так как оно?
– Бывает хуже, – неуверенно отвечаю и хочу перевести разговор на более безопасную тропу: – Отец, а на Филиппинских островах бывает зима?
Ох, как бы хорошо было, если бы отец вспомнил те страны, где побывал на крейсере «Жемчуг», и забыл про мои сапожки!
– А тебе зачем это?
– Интересно.
– Не думаешь ли и туда на каток добраться?
– О, мне и наших хватит.
– На Филиппинах нет зимы и катков нет. Еще какой–то вопрос по географии задашь? – Отец сразу разгадал мои ухищрения, и у меня стало кисло на душе.
Мать же молча пряла свою пряжу – красиво из отставленной руки до самого пола пускала тугой починок; он гудел, как шмель, и где–то навевал те видения, когда на лугу или в лесах, разгоняя шмелей, наклонится к траве наша коровенка. Разве же я не знал, что кому думается? А откуда ждать себе помощи? Эти пакостные сапожки не раз и не два доводили меня до синей грусти. Вот если бы сейчас кто–то догадался прийти в гости. У нас и горох жареный есть. Я прислушиваюсь к овину и двору, но там тише, чем в моем ухе.
– Таки протер! – удивляется отец, собирает в межбровья гнев и точь–в–точь повторяет то, что всегда слышу в таких случаях: – У тебя и железо не заржавеет!
А мне жалко становится себя: разве же я виноват, что эти чертовы подковки протираются через несколько дней?
– Тебе надо покупать железные, только железные сапоги, – продолжает отец осматривать обувь.
Я сразу же прикидываю в голове: «Вот если бы в самом деле разжиться на железные сапоги! Им бы износу не было! Подмотай больше онуч и роскошествуй на льду без опаски.
– А это что? – отец трогает каблук, который почему–то начал качаться. Отцовский глаз сначала смотрит на меня, потом на кровать, где, свернувшись, дремлет ремень, и снова на меня. – Чего же губы зашнуровал? Что это?
– Каблук, – безнадежно вздыхаю.
– Сам знаю, что каблук! – становится грозным голос отца. – А чего это он нацелился на поповскую леваду?
Кто же его знает, чего он туда нацелился? Я пеку раки, снова вздыхаю, уменьшаюсь, и душа моя уменьшается, а в мыслях все равно на миг оказываюсь на поповской леваде, где каток так калечит мои сапожки. Нет, видно, ничего стоящего не получится из меня, придется идти в сапожники–латальщики. Пока я, впав в безнадегу, позорю себя, во дворе откликается Рябко. О! Иногда даже гавканье может показаться музыкой! Из моих мыслей сразу вылетают и сапожничество, и страх.
– Кто–то идет, – откликнулась мать. – Выйди, Афанасий, потому что разве долго доброму человеку наскочить на столб овина?
Отец выходит. Я веселею, торопливо берусь за книгу, а мама, жалея меня, улыбается:
– Не пора ли уже тебе, болтун, пожалеть и сапоги, и ноги?
– За ноги, хотя я их летом бью, никто не ругает меня, – бормочу себе под нос. – Кабы–то у нас была одна цена и ногам, и сапогам!
– И скажешь такое, – рассмеялась мать и повернула ухо к дверям: в овине аж зазвенели чьи–то промерзшие сапоги – кто–то долго на морозе ходил.
Скоро в хату вошел отец со своим коренастым братом Яковом, сила которого ощущалась даже в складках кожуха.
– Добрый вечер! – здоровается дядька Яков, непослушной десницей расстегивает кожух и ставит на стол две зеленые бутылки с пивом, что стало льдом. – Ну и мороз взялся на ночь – аж шипит. Не поставишь ли, Анна, это пиво в печь? – кивает на бутылки.
– Можно и в печь, – удивляется мать, чего это пришел к нам дядька Яков, который через свою машинерию и на свет божий не показывается.
Талант моего деда более всего унаследовал дядька Яков – он был и кузнецом, и слесарем, и столяром, и стельмахом, и токарем. Никакая стоящая железяка, которая попадала в село, не миновала его рук. В войну он добрался и до снарядов – выбирал из них начинку, а со стали варил лемеха. На таком деле с ним случилась беда: один снаряд разорвался, развалил кузницу, отрезал и куда–то дел четыре пальца левой руки мастера. Ох и жалел за ними дядька, придя в сознание, и все просил родню разыскать их во дворе и огороде.
– Вместе они работали, так пусть бы вместе и отдыхали, – говорил дядька и клял тех люциферов, которые додумались втыкать в железо смерть. – Их бы, извергов, заклепать в то железо и выстрелить на океан.
Когда зарубцевалась его левая рука, когда он как–то научился орудовать обрубком руки, – снова взялся за снаряды, потому что людям надо было пахать землю. Правда, теперь дядька Яков колдовал над снарядами не в кузнице, а на огороде, потому что если бы снова что–то случилось, – жалко было бы кузницы и особенно нового кожаного меха в ней…
Много лет тому, когда отец был еще парнем и работал в лесах князя Кочубея, дядька Яков занял у него на хозяйствование тридцать рублей. Но теперь дядька усомнился, следует ли ему возвращать эти деньги. Пять рублей он принес сразу по приезду отца, положил их на стол и заговорил не так к родне, как к мелкой голове мелкого царя:
– Вот вам, брат и жена брата, золотая пятерка, хлеба себе прикупите или что–то на хозяйство. А как дальше нам считаться, – сам не знаю; трудное это дело: за царя были одни цены, теперь – другие.
– Не такое оно и трудное, – сказал отец. – За царя корова стоила у нас тридцать рублей, и теперь – тридцать.
– В самом деле? – удивился дядька. – Надо как–то пойти на ярмарку сверить цену, – он второпях начал собираться домой и после не заходил к нам.
– Все цену сверяет, – насмешливо говорил отец, когда заходила речь о давнем долге…
Теперь дядька Яков не прячет своих узковатых глаз, и у матери просыпаются надежды.
– Так как вы поживаете в этих хоромах? – бухает дядька Яков промерзшими сапогами. – Привыкли ощупью ходить? А чего доливка осела – не от богатства?
– Да нет, от злыдней. Они ночью гарцуют по хате и все спрашивают, когда ты придешь и потрясешь мошной, – оживают чертики в отцовских глазах. – Что–то ты, Яков, очень веселый сегодня. Обманул кого–то?
– А чтоб тебя! Узнаю своего искреннего брата, – засмеялся дядька, и засмеялись на его лице все оспинки. Но мужчина не сокрушается ими, а иногда с улыбкой говорит: «Имел себе когда–то ничего лицо, но бес подлатал его решетом».
– Так откуда к тебе радость пришла? – насмешливо допытывается отец и даже на меня смотрит веселее.
– Спрашиваешь, откуда радость пришла? Вот с этих шести пальцев, – протянул брат брату обе руки. – Хоть они и сироты, а не разленились, и что–то в них таки есть. Сегодня подскочили ко мне из Литина, чтобы я поколдовал возле новой мельницы. Там, говорят, до меня какой–то даже инженер работал и ничего не сделал. А кто–то догадался послать за Яковом! – дядька аж подрастает посреди дома.
– И как? – улыбнулся отец.
– Таки починил! – упорно бухает сапогами дядька Яков. – И за неполный день заработал дурные деньги – аж десять рублей серебром. Еще и магарыч поставили.
– Аж десять серебром?! – не поверила мать.
– Пересчитайте! – дядька важно вынимает из кармана черную, как кротенок, мошну и величественным движением бросает на сундук. – Бери, Афанасий, на корову!
От этого дива у матери выпал починок из руки, и она, явно, уже увидела в торге свою корову.
– Спасибо, Яков, спасибо, – исчезают чертики из отцовских глаз. – А я уже грешил на тебя.
– И следовало, – становится грустнее дядька. – Много, ой, много грязи наросло на моей душе, иногда и вымываю ее, а до конца вымыть не могу… Вот сам скажи: зачем мне было забирать отцовскую катрагу[23]23
Катрага – шалаш.
[Закрыть]? Разве своей не имею? Так нет, придумал забрать и оставил родного брата с одним овином, еще и его копейку хотел утаить. Так не батожить меня за это? Вот сегодня я раскаиваюсь, а завтра снова–таки именно за это возьмусь.
– Так скрути свой норов, Яков, пока он тебя не скрутил, – с сожалением глянул отец на брата.
– Не могу скрутить его, – аж вздохнул дядька. – Он, клятый, более стойкий чем я.
– И чего?
– Чего? – еще больше сузил мужчина глаза, а оспинки на его лице стали глубже. – Потому что ношу страх возле сердца.
– Вы носите страх возле сердца?! – не поверила мама. – Так как же вы снаряды разбираете?
– Что снаряды! – взглянул куда–то вдаль дядька Яков. – Есть страшнее чем они.
– Что же оно?
– Страшнее – мужицкая старость, тот день, когда тебя не захотят слушать ни твои пять пальцев, ни твой обрубок, когда ты станешь никому не нужной трухой, а из углов на тебя заморгают злыдни. Поэтому и вырываешь, и давишь каждую копейку, и прячешься с ней, будто вор, а она же, мерзость, и несет тебе только паскудство, неотступно измельчает и мозги, и душу. Хорошо знаю, что надо жить по правде. Но знаю и другое: делай по правде – глаза вылезут. Вот и бредешь между двумя берегами, спасая тело и топя душу. – Дядька грустно посмотрел на меня. – Может, они, дети, не испытают нашего проклятого варева, а найдут лучшую судьбу. Об этом теперь большевики и в газетах пишут. Что ты, школьник, скажешь на такое?
Удивленный и пораженный словами дядьки, я не знаю, что ответить, и за меня заговорил отец:
– Какая ему выпадет судьба – никто не угадает, только знаю: будет он жить по правде, не побредет между двумя берегами, – отец подошел ко мне и так положил мне на голову руку, что я и до сих пор слышу ее тепло. – Так, сынок?
– Ну да, – благодарно смотрю на отца и уже удивляюсь, как он может иногда ругать, а то и замахиваться на меня ремешком.
Дядька Яков недоверчиво покачал головой, хмыкнул:
– Если он вздумает жить по правде, то пусть загодя ржаную солому запасает.
– Это зачем ему такой торг? – испугано отозвалась мать.
– За правду со всех концов придется ему падать, вот на таком деле солома немного поможет.
– Какой вы, Яков, нехороший, – вздохнула мать.
– Вот видишь, я правду сказал, а ты уже и ощетинилась. И так всякий щетинится, потому что каждый человек – от Ивана и до царя – имеет в душе такие недомерки или закоулки, в которые не хочет и солнце пустить, не то что кого–то с правдой. Вот проживает в нашем селе один чудило, как святой, Себастьян, значит. Ничего не скажешь о нем, правдой живет. А что он имеет с этого? Идею и шинель? И что выходит у него? Некоторые дядья грозятся ему хату сжечь, а кое–кто даже из начальства без соли съел бы его.
– Это кто?
– Хотя бы наш начальник милиции. Себастьян въелся в него прилюдно, а он Себастьяна где может, там и подгрызает исподтишка, еще и идеями свое похабное варево прикрывает. Много на свете есть таких, как Юхрим Бабенко, – они бы все солнце забрали себе, а другим одну тень оставили. Правда – она как слово божье: слушай ее, кого–то поучай ею, прикрывай ею, как одеждой грешное тело, а поступай, как жизнь крутит свои тропы.
– Узнаю тебя, Яков, всего, с ничтожествами твоими, как на ладони, вижу, – покачал головой отец.
– А я и не таюсь со своими ничтожествами, а живу лучше тебя. Так было и, наверное, будет: железо легче куется, чем человеческий норов. Посмотри, Анна, не оттаяло ли пиво. Выпьешь со мной, Афанасий?
– Лучше бы с тобой рогатые пыли!
– Люблю характер своего брата! – засмеялся дядька Яков. – Ты всю жизнь будешь с этим характером постный кулеш хлебать. А мне чего–то никак не хочется, даже при новой власти, идти в святые, – там ни выпить, ни подмигнуть какой–то молодице. Из–за них не попаду я к раю…
Эх, дядя Яков, моя талантливо бесталанная родня! Мне до сих пор жалко не так вашей искалеченной руки, как искалеченной души…
Два кузнеца имеет человек возле своего сердца: один кует серебряные струны, а другой – ржавые решетки жадности. Не победил, дядя Яков, ваш первый кузнец второго, мелочь повседневности проела ваши струны, притемнила добрый кузнечный огонек. Мне жалко и его, и вас. И все равно я с удивлением и признательностью вспоминаю те лемеха, что вы ковали из самой смерти – из туловищ снарядов.
Прямо над нашими воротами стоит зарница, а мимо ворот проходят люди и время. Как оно идет – это больше всего видно по нашим ясеням, по тому, что они держат на себе – или весеннюю росу, или зеленые шумы, или осеннюю грусть, или зимние платки. Иногда, когда я сплю, время приходит и ко мне, постоит–постоит у изголовья и слегка потянет за вихор малого, чтобы он поднимался вверх. Так я и расту!