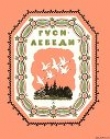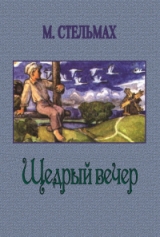
Текст книги "Щедрый вечер"
Автор книги: Михаил Стельмах
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Снимай, дитя, штанишки и насухо вытрись полотенцем.
Стесняясь, я снимаю свое ставшее жалким галифе, а тетка Оляна сразу ужасается и всплескивает руками:
– Ой, пропали же твои ноги, ребенок! Да что ты будешь делать на белом свете? – заголосила она и цветом на рукавах прикрыла лицо.
Глянул я на свои ноги и тоже испугался: они были темные, аж черные. Вот что делает с человеком мороз. И так мне стало жалко себя, что веки мои сразу набухли слезами. Я вытер их рукой, а тетка Оляна, кусая губы, осторожненько провела полотняным полотенцем по моим ногам.
– Не болит?
– Разве я знаю?
– Задубели, не чувствуешь, видно, их.
Тетка еще провела полотенцем, и произошло чудо: из–под полотна на моих ногах появились белые полосы.
Я глянул на тетку, тетка на меня, она засмеялась первая, я за ней, а дальше хихикнула Люба, и даже малое визгля изумленно сказало: «А».
– Ой горе мое, а я, глупая, в темноте и не поняла, что это с твоих штанишек облезла бузина! – Вокруг теткиной головы запрыгали цветы, она сама стала похожей на цветок, а в глаза ее набилось столько радости, что она начала стекать слезой.
– Ну, чего вы, тетушка, плачете?
– Потому что столько из–за тебя страха и сожаления наглоталась!.. Ой, головорез ты, головорез. Где только на тебя растет прут? Чувствуешь теперь ноги?
– Чувствую, тетушка! – аж нагнул голову, прислушиваясь к ним.
– Ну–ка, давай растирать вместе, чтобы и мороз, и трясца, и простуда одновременно убегали с ног. Жди, я их еще праздничной водочкой вытру. От нее запищишь у меня, как вьюн.
И в самом деле, я попискивал, как вьюн, а тетка после растирания еще и щипнула меня:
– Чтобы ходил здоровый и не сокрушался!
Потом она бросила мне кожух, а сама взялась за мои сапоги, свитку, рубашку и галифе, не забывая и на тесто взглянуть, и метнуться к печи, и набрать в утюг угля, и с бортницы внести мед и с ним в руках поругаться на куропатку, которая начала подбираться к кутье.
А куропатка одним глазом взглянула на тетку Оляну, пропела: «Чир–хик» – и расставила крылья. На это «чир–хик» тихонько–тихонько, как тень, вошел дядька Сергей, который имел темные переспевшие волосы, темные тяжелые глаза, темную душу и серебряный ангельский голос… Мне до сих пор странно, как такой голос, который в церкви поднимался до самого бога, не мог смягчить дядьковой злобы или смыть копоть с сердца.
Дядька Сергей, не здороваясь, обыскал глазами весь дом и присел перед куропаткой, а та, слыша что–то нехорошее, драпанула под кровать.
– Хорошенькое кое–кто имеет мясцо, – подичали под ресницами суженные глаза. – Оляна, продай своих куропаток, ведь сам бог видит, как прошу тебя.
– Я же сказала: и не выпросишь, и не выгрозишь.
На вывернутые губы дядьки Сергея ложатся пренебрежение и превосходство, он привстает и недовольно хмыкает:
– Вот чего не понимаю, так не понимаю: и самим не есть, и кому–то не дать.
– Не все же, Сергей, надо есть или жрать. Наши куропатки – детям радость.
Тени пробежали по лицу дядьки Сергея.
– Нет теперь радости на свете, – начинает мерить дом сапогами, покрытыми трещинами. – Нет, и не скоро будет.
– Не каркай, зловещий! – разгорелась темными румянцами тетка Оляна. – От тебя и хата потемнела.
– Еще раз подведи ее глиной, – не очень и сердясь, бросает мрачный человек. – А где же твой хозяин?
– В лесу.
– И перед свят–вечером в лесу? – удивляется узкий нехороший вид дядьки Сергея. Здесь он замечает меня и вытаращивается: – Выгреваешь злыдней на своей печи?
– Все тебе плохо, незваный! И вынюхивает, и вынюхивает что–то! – возмутилась тетка Оляна. – Если ты, нелюдим, враждуешь с Афанасием, так чего должен враждовать с ребенком?
– А что, прикажешь христосоваться с ним? – меряет меня таким глазом, будто в нем дневала и ночевала самая злоба.
– Иди, придурок, на три вихря! Тебе только, вижу, хвоста не хватает.
– Зашипела, как яичница на сковороде. Вот уж родню имею!.. – Натягивает на торчащие брови шапку, гордо выносит из жилья потрескавшиеся шкарбуны и так хряскает дверями, что на пол сыплется побелка.
– Ох и человек! Чтоб тебе в душе пусто было, – с горечью и сожалением говорит вслед брату тетка Оляна. – Вы, дети, не обращайте внимания – не на нем держится день.
Из разговоров дядьки Себастьяна и отца я знаю, что ночь держится на таких, как дядька Сергей… Правда, он притихнет со временем, пригнет голову и душу, чтобы потом поднять их над человеческим горем в страшные времена.
В революцию же дядька Сергей втайне водился с бандитами, хотя сам и не был в банде. От них он имел награбленное добро, а им поставлял пропитание и самогон.
Однажды красные казаки накрыли его с бандитами и лесами повелели на Летичев. И то ли с испугу, то ли с тоски дядька Сергей запел. Когда закончилась песня, к нему подъехал немолодой командир и приказал:
– Иди домой!
– Как домой? – не поверил дядька Сергей.
– Ногами… Такой голос иметь – и с бандитами водиться! Распевал им, теперь пой людям!
В тот же день дядька Сергей оказался дома, отлежался в овине, а на следующее утро уже с насмешкой рассказывал соседям о своем приключении:
– Только подумать: запел песню – и красные оправдали меня. Я думал: у них глаза на каменной основе, а они – на влажном месте… Обманывал я глаза женщин, обманул и новую власть…
В доме стало тише. Тетка Оляна молча начала раздувать утюг, потом пальцем коснулась его низа, и вот уже мое галифе аж зашипело и укрылось парой, – еще одна напасть отлегла от моего сердца.
– Ты не тужишь? – спустя некоторое время заглянула на печь тетка Оляна и подала мне одежку.
– Нет.
– А обедать будешь?
– Нет.
– Чего так загордился? Не обращай внимания на чью–то болтовню – они весь век цепляются к живому. Люба, давай ложки!
И хоть как я отнекивался, тетка Оляна принесла на печь полумисок с постным борщом, в котором среди поморщенных грибов щеголяла красная перчина, и приказала:
– Ешь мне и не сокрушайся.
Я глянул на Любу и засмеялся.
– Ты чего, закоперщик? – сказала тетка то самое слово, которое я слышал только от своего дедушки. – Ну, говори!
– А сердиться не будете?
– О, нужна мне такая печаль. Так чего?
– Потому что вы чего–то за каждым разом говорите, чтобы я не сокрушался…
– Разве? – сначала удивилась молодица, а потом вздохнула и объяснила: – Ведь что мне, если подумать, главное на свете? Чтобы люди имели человечность в сердце, хлеб на столе и не сокрушались…
Раздел восьмой
Я выскочил из шкоды, как воробей из проса: даже мать не догадалась, где сегодня побывало мое галифе. И хоть оно немножко посветлело, но это не очень большая беда: разве в благоприятную минуту не подкрашу бузиновыми чернилами? А их мне не одалживать, потому что еще с осени заготовил этого дива аж полную граненую бутылку. После такого производства отец с месяц не мог налюбоваться моими руками и все говорил, что они стали похожи на облезлых кротов.
Но теперь, зимой, я роскошествую, как кум королю: имею чернила и для себя, и даже на обмен, – уже три пера выменял – восемьдесят шестой номер, пузатенькое – ложечкой – и рондо. Правда, я их сразу же проиграл хитрому Цибуле, однако о них не так сожалел, как о тех, что покупает отец аж в Литине.
Мне даже немного смешно становится, что ни отец, ни мама, проходя мимо моего галифе, ничего подозрительного не замечают. А может, это потому, что они сейчас имеют немалую заботу: приготовление к свят–вечеру.
Поглощенная заботами и варкам, и смазкам, и уборкой, мать ткнула отцу и мне шапки в руки, глазами показала сначала на кочергу, а потом на двери и вытурила нас из хаты:
– Идите, помощники, и до первой звездочки не приходите мне!
– Вот имею уважение от родной жены, – притворно вздохнул отец, натягивая на уши большую, как стожок, заячью шапку. Она становится очень хорошей, когда с ней встречаются солнце и ветер: солнце придает ей блеска, а ветер меняет и меняет на ней цвета.
Мы с отцом выходим в овин, где пахнет примороженными снопами и сеном; возле пристроек, как войско, в два ряда стоят золотые околоти, над ними с перекладин свисают кисти рябины, а над перекладинами веселятся воробьи, им совсем хорошо у нас – и поесть есть что, и холод не страшен: как припечет морозец, влетают в дымарь и выгреваются, сколько им захочется. Там на радости воробьи так мажутся сажей, что потом, когда вылетают на улицу, даже коты теряются: что это за птица появилась зимой?
– Так как, сынок? – косится отец на полку, где лежат пила и топор.
– Ну да! – говорю я весело, потому что отец ужасно не любит ни кислых людей, ни кислое слово.
– Пусть пила заменит каток?
– Пусть! – беззаботно говорю, посматриваю на большую из штанин и давлю в себе улыбку.
– Молодца! – хвалит отец и наводит на меня глаза – один прищуренный, с приплюснутыми чертиками, а второй с чертиками в полный рост. Когда отец вот так взглянет на кого–то, то непременно жди подвоха. Дождался и я его. Отец по–портновски смерил меня с головы до ног, а потом с ног до головы, бросил взгляд на дверь и тихонько спросил: – А испугался очень?
– Испугался? Когда?
– Уже и забыл?
– Вы о чем?
– О том, как ты в прорубь вскочил.
– Так вы знаете? – непроизвольно вырвалось у меня. Я с перепугу онемел, сник и облизал губы, что сразу же пересохли.
– Да знаю… Ну, чего стал как каменный? – Отец обеими руками обхватил меня, оторвал от тока и прижал к себе. – Берегись, головорез, берегись. Что бы мы делали без тебя?
И теперь в отцовских глазах я увидел не чертенят, а печаль и теплынь.
– Ой папочка!..
– Ну, что? – грустно спросил и коснулся губами моей брови, той, что все задирается на лоб.
– Ничего, – едва прошептал и с признательностью теснее прислонился к отцовской груди. Я хотел сказать ему что–то хорошее–хорошее, но не нашел таких слов и только вздохнул.
– Ничто у тебя не болит?
– Нет, папочка…
– В сапогах не квакают лягушата?
– О, откуда им взяться зимой? – не понял я сгоряча.
– Спрашиваю, не мокрые ли у тебя ноги, потому что их надо держать в тепле.
– Не мокрые… А мама знает об этом?
– Не знает. А то было бы нам слез и на свят–вечер, и на рождество. Будь осторожным же теперь на своих катках… Постараемся маме на дровца? – ставит меня на землю.
– Постараемся! – отхожу я, хватаюсь обеими руками за топор, а отец берет пилу, и мы, двое мужнин, почтенно идем делать дело… И если бы вы только знали, как сегодня приятно звенела–пела пила, а еще приятнее перекликалось с топором в саду эхо.
Вот и вечерняя звездочка встрепенулась за соседским двором, где поскрипывает и поскрипывает над колодцем журавль. Над домами укладываются ароматные дымы, на улицах слышится гул и шорохи саней, а снегами к каждому жилью бредут фиолеты. Из хаты в праздничном платке и сачке выходит мать, на ее лице отразились торжественность, согласие и ожидание сказки.
– Где вы, хозяева? – потихоньку, ласково зовет отца и меня и на приоткрытых губах держит любовь.
– А зачем мы тебе? – будто удивляясь, отзывается от дровника отец.
– Просим, дорогой муж, и тебя, сынок, в хату, – с такой улыбкой, с такой добротой кланяется нам мама, что хочется подбежать к ней и поцеловать руку.
– Говоришь: дорогой муж? А кто недавно пугал нас кочергой? – притворно строго допытывается отец.
– Это же любя вас! А кого любишь – даже кочерги не пожалеешь, – играет мать расцветшими глазами и дает нам дорогу.
– Ты смотри! – покачивает отец головой и, идя в хату, почему–то задерживает материнскую руку в своей. Чудные эти взрослые.
Хоть убогая–убогая наша хата, но в этот вечер и она стала лучше и богаче. Ее бедность скрасили и вышитые полотенца, и кисти калины, и душистое сено на покутье, и свят–вечерний стол. На нем сейчас лежат три буханки, комок соли, высится кипа гречневых блинов и стоят с разными постными блюдами те праздничные рисованные полумиски, что желают добрым людям и здоровья, и счастья, и красного цвета.
Отец первый заходит за стол, осматривает все блюда, от кутьи с маком до миски с бобом, и взглядом благодарит мать за ее старания… А какой он важный становится, даже не улыбнется, когда выносит коровенке попробовать каждого блюда, приготовленного на свят–вечер. Вот он и боба взял в горсть и с удивлением сказал:
– Прямо не боб, а серебряные рубли.
Глянул я на миску, – и в самом деле лежал в ней боб серебряными монетами.
Но наиболее торжественная минута пришла тогда, как отец с бичом от цепа встал на пороге под ветвями ясеней, на которые слетелись звезды. Вот он взглянул в заснеженную даль, что горбилась за селом, и тихо позвал Мороза:
– Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть!
Я застываю возле отца и не верю, но немного и верю, что на дороге, светясь туманом бороды, может появиться с мешком за плечами Дед Мороз и подойти к нам. А вокруг так тихо, что слышно, как в ясеневых ветвях шевелятся звезды и отряхивают и отряхивают серебряную изморозь.
– Мороз, Мороз, иди к нам кутью есть! – уже громче позвал отец.
Но и после этого ни на улице, ни на огородах не отозвались шаги деда. Отец еще и в третий раз позвал его, но он, наверное, задержался на какой–то лесной или степной дороге. И тогда отец уже грозно приказал ему:
– А не идешь, Мороз, так и не иди к нам, и не иди на рожь–пшеницу, всякую пашницу: иди лучше на крутые горы, на моря, на леса, нам вреда не делай!
Дальше отец звал серого волка. Он тоже не спешил, имея свои хлопоты в лесах. Не торопились на кутью черные бури и злые ветры. И отец заклинал их:
– А не идете, черные бури и злые ветры, на ужин, так идите себе в безвестность, хлеба не сдувайте, полукопен не валяйте, стрех не срывайте!
Потом отец настежь отворяет наши скрипучие ворота: а может, прибьется какой добрый человек с дороги, так и погреет душу теплой едой. И только после этого мы идем ужинать.
Теперь за столом я не пискну, прислушиваясь к речи–ожиданию родителей. Те большие надежды на хлеб новый, на рой золотой, на счастье во дворе, на рогатый и мелкий скот в оборе сходятся и сходятся в нашей хате, что и в самом деле начинаешь верить: настанет то время, когда хозяин на току будет звезды веять, хозяйка в доме золото прясть, а седые серебренорогие волы потащат за собой серебряные плуги.
И вот на улице отозвались колядники. Я первый выбегаю на улицу. Колядники уже подошли к хате тетки Дарки – звездоносец, «береза» и поводырь впереди, а «коза» и «дед» в страшной маске сзади. И чего только не вытворяют эта «коза» и вертлявый «дед», пугая взрослых и детей. Но вот зазвонил звонарь – и все притихли, столпились у окон, а зеленоватыми и синими снегами, сколько свету видно, покатили, зазвенели молодые голоса, прогоняя недолю из вдовьего жилья:
А чи вдома, вдома та бiдна вдова?
Нема вдома – пiшла до бога,
Бога благати – щастя прохати:
– Ой дай, боже, два лани жита,
Два лани жита ще й лан пшеницi,
Лан пшеницi – на паляницi.
А ще гречки – на варенички…
Какая ни есть убогая наша избушка, а и ей колядники напели счастья, напели, что в нашем дворе будут стоять и месяц, и ясная звезда…
Увы, куда отошли те далекие годы? Уже одних колядников забрали войны, других – сырая земля, третьи стали дедами, а до сих пор верится, что в твоем дворе, возле тебя, стояли с одной стороны месяц, с другой – ясная звезда…
По всему селу разошлись колядники, к каждой хате звездоносцы приклоняли рисованное солнце, напоминая людям, что уже настоящее солнце смилостивилось над землей. А вот у Зареки отозвалась седая давность, когда тучи врагов обкрадывали наше солнце и землю:
То не з моря тумани,
То iз коней пара…
От черной погони из Турции, из Германии, из Татарщины летят, Дунай перелетают казацкие кони, перелетают, не макнувши в воду ни своего копыта, ни казацкого стремени…
Иду я с вечерей к дяде Себастьяну, прислушаюсь, как за плетнями подпрыгивает морозец, присматриваюсь, как в тенях и дремлющих лунных лужах убаюкиваются хаты, вбираю в себя колядки, мыслями и глазами достигаю тихого Дуная, где гуляли казаки. И так мне хорошо и радостно становится на сердце, будто и я с казаками крушил неволю, освобождал добрых людей, чтобы возвращались они на тихие воды, на ясные зори.
А на тракте в это время послышался звон оружия и стремян, забухали лошадиные копыта. Я удивленно оглянулся. В прозрачной темноте мглисто вырисовались увеличившиеся фигуры всадников. И вот мимо меня, пригнувшись к гривам, пролетели–промчали на Литин красные казаки, промчали тем старым Чумацким шляхом, что падает в лунный полусон.
Это не с моря туманы, это пар с коней обдал меня теплом. И хорошо, и удивительно, и радостно становится мне, малому, на этом свете. Я долго смотрю вслед красным казакам, покачиваю вечерей в узелке и уже не знаю, откуда они взялись – или с тихого Дуная, или из–под синего Буга, или из–под звездной пыли.
Так и сходятся песня и жизнь, сумерки старины и рассвет настоящего. А надо мной вечер горстями сеет звезды, а возле меня арфами звенят подмороженные вербы, а под ногами голубые тени играют снегом, который искрится вблизи и туманится поодаль, как пар с коней. На леваде перекликнулись куропатки – и они спешили в село на свой свят–вечер возле какого–то стожка или овина.
Задумчивый и радостный, подхожу к двору дядьки Себастьяна. И здесь ворота раскрыты настежь: а может, забредет погреть душу пришлый человек?
Я смотрю на пятнистую от луны хату и пораженно останавливаюсь. Что же оно делается? На хате, в заснеженном лохматом гнезде, где летовали[28]28
Летовать – проводить лето, жить летом.
[Закрыть] себе аист и аистиха, теперь стоит одинокий аист и смотрит на восток.
«Протри, человече, свои глаза, – говорю сам себе, – потому что над тобой глумится какое–то вечернее наваждение".
Я и в самом деле протираю глаза, снова кошусь на гнездо, а в нем снова стоит длинноногая птица. Да где же она в такую пору взялась и как не погибла в стужу? Тихонько, чтобы не вспугнуть птицу, подкрадываюсь чуть ли не до самой завалинки и только теперь догадываюсь, что в гнезде стоит деревянный аист. Разве же и в этом не узнаешь характер дядьки Себастьяна? Захотелось чем–нибудь удивить и порадовать людей, особенно детвору, вот и поставил птицу в гнездо; не страшно, что она деревянная, а кому–то развеселит глаз и бросит в душу хоть каплю весеннего солнца.
И пока я себе любуюсь птицей, пока перелетаю в весну, на те лужайки, где на кувшинках, мяте, траве и солнце отбеливаются полотняные стежки, меня тихонько окликает знакомый голос:
– Михаил, дитя, это ты?
– Конечно, я, дядя Себастьян, – задрожал мой голос от радости и признательности к человеку, который первым, после мамы, наклонил над моей дорогой звезды, взятые то ли с неба, то ли из доброго сердца.
– Вот и хорошо, – выходит дядька Себастьян из сеней. – А я, слышишь, вторично выхожу тебя выглядывать.
– Э? – верится и не верится, и мне аж немного страшно становится: за что это головорезу перепадает столько любви и от дядьки Себастьяна, и от людей?
– Правда. Уже и на улицу выходил: не напал ли на тебя, думаю себе, мороз или серый волк.
Рослый, красивый, горбоносый, он подходит ко мне, а я ему кланяюсь посреди того двора, где ветерок подметает серебро, а деревянный аист выглядывает весну.
– Отец просили, мама просили и я вас прошу на вечерю, – говорю тихо и передаю мужчине увязанные в белый платок горшки–близнецы с теплым компотом и кутьей.
– Спасибо, спасибо, дитятко, – берет дядька Себастьян узелок, а меня охватывает той рукой, что всю жизнь орудовала косой или топором дома, саблей на войнах. И работа, и скорбь выбили на ней снизу глубокие борозды и мозоли, а сверху изваяли жилы толщиной в мои пальцы.
– Это правда, что ты на льду провалился?
– И вы знаете?
– Я уже и на каток ездил, и хотел было до вас приехать.
– Вот бы настращали маму, – снова мне стало страшно.
– Смотри же, мальчик, смотри! – еще теснее одной рукой прислоняет меня к себе дядька Себастьян.
– Буду смотреть, – уже веселее говорю я и на другое сбиваю мысли мужчины: – А где вы такого аиста достали?
– Славный?
– Славный.
Дядька Себастьян задирает голову, смотрит на аиста, раскрывает губы и начинает смеяться. Он очень хорошо смеется, собирая на ресницы, глаза и зубы лунное сияние.
– Это мой друг вырезал аиста из осины, а я украл его.
– Вы украли? – пришел я в ужас.
– А что было делать? Продать он не хотел, так я тайком за аиста – и в мешок. Постоит у меня несколько дней, и отвезу назад. Пошли в хату.
Возле сенных дверей торчком стояло две каминных плиты, их не было еще несколько дней тому назад.
– Что оно такое, дядя Себастьян? – наклоняюсь к плитам.
– Какая–то старина. Вот видишь, чья–то жизнь выбита на них, – проводит рукой по полустертым людям и коням. – Их один глупец, ищущий сокровища, выкопал из старинной могилы и положил перед хатой вытирать ноги. До сих пор не перевелись мастаки о чью–то жизнь вытирать ноги!.. Отобрал я эти плиты – отвезу к Винницу: а может, пригодятся они добрым людям.
Мы заходим в хату – в теплое благоухание сена, хлеба и свежих липовых ложек.
– Вот и гость к нам пришел, Михайликом звать, – знакомит меня председатель комбеда с дядей Стратоном, бывшим министром крестьянско–бедняцкой республики, дальше с известным на всю округу музыкантом Федоренко (его семья составляет аж целый духовой оркестр), с кобзарем Львом и даже со своим отцом, который как раз стоит посреди хаты в белой сорочке и белых штанах, как разгневанный пророк: брови его поднялись вверх, чуб оттопырился на ветер, а усы опустились вниз, на дождь.
Я догадываюсь, что старик снова почему–то не помирился с сыном и даже в свят–вечер нашел время гаркаться. А потом, смотри, и соседям пойдет жаловаться, что его сякой не такой разумник не имеет в голове масла. Старик еще до сих пор не может забыть, что в революцию сын взял из экономии не корову или коня, а пианино, и всегда, когда подходит к этой господской забаве, презрительно говорит: «У–у–у…» – и пальцем шпыняет ее в зубы.
Отец Себастьяна не очень ласково смотрит на меня и бормочет сам к себе:
– Злыдни всех стран, соединяйтесь!
А в хате все, кроме него, начинают смеяться.
– Что, я, может, что–то смешное сказал? – удивляется старик, и удивляются под седыми бровями его перестоянные, словно изморозью прихваченные глаза. – Нет, таки пойду домой, – не компания вы мне! – берется за шапку и загрубевший кожух, который лежит на сундуке.
– Да чего вы и куда вы, отец? – дядька Себастьян рукой придерживает смех. – С вами так всем весело, ей–бо, давно так не хохотал.
– Трясца твоей матери! – негодует отец. – Дурносмех всегда найдет с чего похохотать, даже когда имеет пост на копейку. Вот подумайте себе, люди добрые, как мне смотреть на такого! Привозят ему горожане аж целый полумисок денег, и все новеньких, и блестящих, как молодые глаза, бросают их на стол, – стол щебечет! Еще и магарыч и закуски городские ставят. А он, как дурак, возвращает деньги, возвращает напитки–наедки, а пианину оставляет себе. Так разве же я виноват, что на самой середине его ума расселась глупость?! Если бы не она, имел бы человек денег и на корову, и на кабана, и на варево, и на приварок.
– Так то же, отец, деньги от нэпмана.
– Ну и что?! Лишь бы не от дьявола! – старик выпил рюмку, поморщился и загрустил: – Нет, что–то я теперь не то что людей, а даже свое несчастье никак не пойму. И птица на серебряную сетку летит, а он если бы нашел даже перо жар–птицы – отдал бы в фонд.
– Революция, деда, сделала вашего сына таким, – осторожно отозвался умноглазый дядька Стратон. Но и это не утешило старика:
– Говори да балакай мне! Революция – большое дело. Так чего же тогда он дальше в революцию не идет?!
– Это же как вас, деда, понять? – на округлом лице Федоренко удивились круглые, обведенные темным веселым огнем глаза.
– А так: давали же ему в самой Виннице службу, давали и жалование, и квартиру с обоями давали, иди углубляй революцию! А он или удивился навек, или захотел мир удивить: остался в селе в одной кавалерийской шинели и до сих пор по всем лесам носится за бандитами. Еще мало свинца наелся, еще порции ждет! С кем я тогда век доживать буду?
– Да не надо, отец, – дядька Себастьян кротко, с доброй улыбкой посмотрел на отца. – Я ж вам говорил: мне та служба не понравилась.
– Вот видите, ему и служба не понравилась! – еще больше рассердился старик. – А такой, как Юхрим, с одним задом на два праздника спешит, чтобы показать свое соображение ума. И что же это выйдет: Юхрим ближе к революции сядет, еще и тебя локтем или коленом оттолкнет от нее? Вот его, с большого ума, ты называешь кар–карьеристом. А на кого же он делает это кар–кар? На тебя же! Тогда кто из вас дурнее?
– Да цур ему, этому балаболу, – обозвался кобзарь.
Его вдумчивые, с грустью на донышках глаза глянули куда–то аж поверх жилища, рука прикоснулась к басам, они отозвались печалью, а приструнки повели мелодию. И хата уже стала не хатой – загрустившей степью с той дорогой, что и тебя или твою душу поведет до самого неба, с той чайкой, которая под крыльями держит утренний туман, а в сердце – материнскую печаль. А над грустью струн уже всплеснулся грустный голос дядьки Себастьяна:
Ой горе тiй чайцi,
Чаєчцi–небозi,
Що вивела дiточок
При битiй дорозi…
К низкому запеву дядьки присоединился тенор Федоренко и пошел, пошел над домом, над селом, над степью, аж до той битой дороги, где человеческой кручиной кручинится чайка–бедняга и где ветряные мельницы перелопачивают крыльями ее крики и ветра.
В этот праздник двух голосов, один из которых вел мелодию низом, а другой брал верхом, вплетался и стихал третий – кобзарский, битый морозами и метелицами, сеченный дождями и грозами.
И вдруг, когда песня уже замирала, старый кобзарь горько вздохнул, припал седой головой к столу и заплакал. Вот и слеза упала на струну, и она тоже отозвалась сожалением. Все бросились к старику.
– Что с вами, дед Левко? – наклонился к нему встревоженный дядька Себастьян.
– У каждого свое, сынок, – поднял голову от стола кобзарь и пальцем начал вытирать глаза.
– Какая печаль–кручина тебя, Левко, грызет? – подошел к кобзарю отец Себастьяна.
Оба седых, как молоком облитые, глянули друг другу в глаза, увидели в них, как в снах, свои прежние годы, свои разные дороги и вздохнули.
– Так чего же ты, Лев? – снова сочувственно спросил дед деда.
– Чего? Ты же помнишь, Виктор, какой я имел когда–то голос?
– Помню, Лев. Помню его на ярмарках и дорогах, на свадьбах и похоронах.
– Так вот не жалко мне себя, не жалко лет своих, а голоса жалко… Вот сейчас не вывел его вверх и загрустил, будто кого–то похоронил.
Отец Себастьяна вздохнул, в раздумье покачал головой:
– Вот за чем теперь сетуют люди. Может, оно так и надо, может, это тоже – революция. – И тихо попросил сына: – Спой мне о тех васильках, что всходят на горе, и о том барвинке, который постлался под горой.
И снова дядька Себастьян повел мелодию своим могучим баритоном, а горой пошел тенор Федоренко, к ним присоединился подголосок бывшего министра крестьянско–бедняцкого государства, в которое входило аж три села. Только отец Себастьяна, стоя посреди хаты, не пел; он смотрел куда–то вдаль, то ли припоминал, то ли звал к себе свои далекие лета, свои далекие васильки, свою далекую жену, которая отзывалась теперь к нему только во снах.
– За тебя, Себастьян, за тебя, человек! – после васильков поднял чарку бывший министр, а теперешний председатель комитета неимущих крестьян в тех селах, что было восстали против гетмана и кайзера.
– Нет, за деда Левка, за голос его, что всю жизнь поднимал вверх и вверх человеческую душу, потому что горе было бы нам, если бы душа, извините, застряла где–то возле брюха.
– А чтоб тебя, дитя! – махнул рукой и впервые за вечер засмеялся отец Себастьяна.
– Спасибо, Себастьян, что уважил, потому что главное в нашем деле – душевность, а остальное – все тлен, – по старости лет кобзарь макнул в рюмку седой ус, выжал из него самогонку и только после выпил, что должен был выпить.
– Артист! – показал все зубы Федоренко, хотел так же сделать, но это у него не вышло. Он снова засмеялся и спросил меня: – А ты артистом не думаешь быть?
– И чего тебя все время к артистам тянет? – удивился дядька Стратон.
– Ой, люблю сцену, как свою жизнь! – вздохнул Федоренко. – Иногда как сядешь на ней со своими сыновьями и братьями, так чувствуешь – в рай попал, и никак не меньше!
– А платят за это хорошо? – спросил отец Себастьяна, и все аж легли от хохота. – Нет, таки я пойду, не хочу срамиться с вами! – Старик снова подошел к кожуху, но сын выхватил его из рук отца и швырнул на печь.
– Побудьте еще, отец, без вас и праздник скиснет!
– Вот ненормальный. И что мне делать с тобой? – пробурчал старик, но остался.
– О, еще кто–то к нам! – повернул голову к дверям чуткий Федоренко.
Скоро в жилище вошел старый гончар Демко Петрович, возле которого на ярмарке всегда толпились люди. Одной рукой он придерживал мешок, а в другой держал свой прославленный кнут, выдолбленное кнутовище которого было свирелью. Это же надо додуматься, чтобы даже в кнутовище держалась музыка. Видно, не с близка пришел человек, – на его толстых усах аж звенели ледяные сосульки. Поздоровавшись, он сорвал их с усов, стер наморозь с дуговидных бровей, бережно снял с плеча мешок, в котором отозвались гончарские сокровища.
– Демко Петрович, перекиньте рюмочку с дороги! – пригласил хозяин.
– Для согрева души и рук не помешает, – охватил костлявой загоревшей рукой глиняную с красным цветом рюмку. – Ваше здоровье! Ой!.. Из чего же вы ее, настойку, на самогонку перегоняете?
– Это спроси у Федоренко! – засмеялся дядя Стратон. – Он с какой–то свадьбы принес такое зелье.
Демко Петрович вздохнул:
– Музыка за свою работу имеет веселуху, а гончар – желчь.
– Чего это вы такой печальной завели? – удивился дядька Себастьян. – Кто вас обидел?
– А будешь на свят–вечер слушать грешное?
– Что делать? Послушаю.
– Ну и мотай на ус. Я, Себастьян, очень понимаю разных и всяких, которым положено ненавидеть нас. Но никак не соображу, от какой это болезни иногда свой своего ненавидит, свой своего поедом ест, свой своему и дорогу, и жизнь укорачивает.
– Кто же вам жизнь укорачивает? – насторожилось межбровье дядьки Себастьяна, и насторожилось все его лицо, латанное ветреными лишаями.
– Эт, много говорить, да мало слушать, – мрачнеют глаза мастера, в которых и сейчас, и пожизненно будут меняться блики гончарских огней.
– Говорите! – настаивает дядька Себастьян.
– А я думаю: мы говорим больше, чем надо, да и больше, чем надо, верим пустомелям, поэтому они и научились языком добывать себе мед, а кого–то этим же самым языком жалить, как гадюки.
– Кто же вас ужалил?
– Не меня, а мою работу. Это даже хуже, чем меня. Поэтому и приперся к тебе, председатель! – Демко Петрович заглянул в свой мешок, пошарил, вынул из него кафелину и показал дяде Себастьяну. – Взгляни, если хочешь, на мою игрушку.