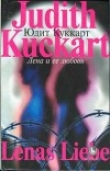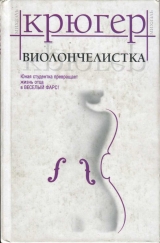
Текст книги "Виолончелистка"
Автор книги: Михаэль Крюгер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
18
Временами на меня нападает неудержимая страсть к воспоминаниям, в прямом смысле неудержимая. Я отчаянно пытаюсь припомнить лица, фамилии, имена, обстановку гостиничных номеров, разговоры. В голове моей разрастается опухоль воспоминаний, норовящая вновь коснуться всех и каждого, прежде чем окончательно стереть их. Но воспоминания эти неотчетливы, размыты, далеки.
Сараево. Пьер Файе исполнял произведения Шарля Ива. Где же это было? В облицованном деревом зале Национальной библиотеки или же в зале мэрии? Вступительное слово произнес поэт, имя его было Анте или Антон, пожилой человек, вышедший к публике в изрядном подпитии, который, решительно и могуче распахнув кулисы риторики, жестикулируя, рассказывал о партизанах, об их героической борьбе, позволившей нам всем собраться здесь и слушать музыку раннего периода авангарда. И вдруг человек этот запел! Звучным голосом он спел нам песню о партизанах, и мы увидели перед собой молодого парня из уже минувшей жизни, готовившегося дать отпор атаковавшему врагу. Но старик есть старик, и лишь невероятным усилием воли он смог допеть до конца растрогавшую его песню своей молодости. Со слезами на глазах раскланялся он перед музыкантами, которые, оцепенев от охватившего их смущения, намертво вцепились в свои инструменты. Потом он сошел со сцены, и его сразу же окружила публика, словно диковинного дрессированного зверя в цирке. И вспоминая о том, как все эти ценители искусства, по сути, спешили отделаться от одетого в несуразный мешковатый костюм престарелого партизана, я вспоминаю и о том, как с бьющимся сердцем сидел на стуле, кипя от негодования, не находя себе места от вопиющей нелепости, несуразности происходящего. Сбивчиво и непонятно я все же сумел убедить Марию, что мне необходимо уйти. И ушел, а она оставалась в зале. Наверное, из чувства долга по отношению к искусству.
Я ушел.
Пытаюсь в точности припомнить, как уходил из зала, потому что хорошо помню, что мой жест не мог остаться незамеченным и даже вызвал некоторое недоумение. Люди не могли взять в толк, из-за чего я все-таки решил убраться: то ли из нежелания видеть этого полупьяного Анте-Антона, то ли по причине размолвки с Марией, которая приподнялась было с места, когда я уже приоткрыл массивную дверь, раздраженно крикнула мне что-то вслед и снова уселась.
Записная книжка! Куда подевалась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи, презент Марии, куда я записывал то, о чем не имел права забыть. Туда я записал адрес и телефон того самого Анте-Антона, как сейчас помню, на левой странице сверху. Потому что едва я вышел из филармонии или же из зала Национальной библиотеки, где шел концерт, передо мной возникла странно колышущаяся фигура исполнителя партизанских песен. Темпераментно размахивая руками, Анте-Антон вел оживленную дискуссию с самим собой. Помню, что представился ему, и мы тут же отправились в какую-то шашлычную и, изъясняясь сразу на нескольких языках, каким-то образом разговорились за водкой и дымящимся ароматным мясом на вертелах.
Он поведал мне всю свою жизнь, каждая фраза – мемориальная доска, с которой постепенно буква за буквой опадал прежний текст, уступая место новому, доступному лишь добросовестному исследователю глубин памяти: Москва, Ленинская премия, Куба, Крым, Тито, ГДР, его и так уже ослабевшая, подточенная спиртным память через неравномерные интервалы выдавала слова, которые он заплетающимся языком доносил до меня.
Я вспоминаю, что в тот вечер над Сараево взошла белесая полная луна, одного нашего скептически настроенного попутчика, которому выпал неблагодарный труд поводыря при отыскании нами жилища поэта в многоэтажке на городской окраине. Помню, как я позвонил в дверь на четвертом этаже, потому что мне было неудобно обрекать пожилого человека на утомительные поиски ключа, помню, как нам открыла молодая женщина, как выяснилось позже, его дочь, имя которой тоже угодило в записную книжку в обложке из красной искусственной кожи. Только вот фамилию его я запамятовал. Куда же, черт побери, делась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи?
Мы усадили поэта в кресло, сами уселись за обеденным столом, после чего дочь в приступе одержимости пересказала мне биографию отца – на сей раз я слышал ее по-французски, хотя сам поэт поведал мне ее на итальянском языке. Позже мы перебрались в кухню, она все время вскакивала и бегала в гостиную то за книжками с дарственными надписями, то за письмами, то еще за какой-нибудь реликвией. Вскоре передо мной высилась целая гора их.
– Отец хочет умереть! – восклицала она, глядя на меня поверх стены славы. – Он уже собрался умереть. Вот напишет одно-два стихотворения и покинет меня. Он уже и ходит с трудом, воспоминания пригнули его к земле, и после смерти матери я служу для него своего рода эрзац-напоминанием о ней. Я изобретаю для него жизнь. Изобретаю славу. На мне лежит ответственность за его достойный уход. Потому что он всего лишь поэт. И всегда был только поэтом, и никем иным. Поэтом-коммунистом, расправиться с которым немцам так и не удалось.
Зыбкое существование. Лентяй, которого старательно обходит фортуна. Еще пара стихотворений, и с почетом можно лечь в могилу, а последние из партизан споют над могилой песни. Полное собрание сочинений его произведений уже готово для печати, потому что если оно не выйдет в свет сразу же после его смерти, он обречен на забвение. Такова наша участь.
Вспоминаю о том, как она сидела передо мной за крохотным кухонным столом. Потом мы услышали, как поэт, шаркая, прошел в туалет, потом снова наступила тишина, прерываемая лишь неторопливыми рассуждениями дочери.
«Я позвоню вам», – пообещал я ей утром, записав фамилию ее и Анте-Антона. И уже внизу, на улице – я только теперь вспомнил об этом, – я наблюдал, как солнце медленно переползает с балкона на балкон, и как раз в тот момент добралось до их балкона. Она помахала, будто из другого мира, я даже не мог сказать с определенностью, мне ли был адресован ее жест. О печальной миссии взмахов я делал заметку позже, собираясь сделать этот момент исходным для создания пьесы для фортепьяно и виолончели. Посвященной Анте-Антону. И все-таки – как же звали его дочь?
И куда делась записная книжка в обложке из красной искусственной кожи?
19
Итак, начиная со знаменательной кёльнской встречи я стал писать музыку для сериалов Грюцмахера, естественно, под псевдонимом, и не переставал удивляться существенному приросту материальных средств. Нет ничего легче, чем подобрать мелодийку к фильму о жертве наркотиков из высшего общества или случайно погибшей супруге какого-нибудь магната. Поскольку эти сериалы непрестанно повторялись, причем не только в Германии, Австрии или Швейцарии, с тем чтобы решительно все могли увидеть их и в других странах Европы, и не только ее, звон монет, сыпавшихся в мой кошелек, временами бывал настолько звучным, что лишал меня необходимого для серьезной работы покоя.
Грюцмахер был гением по части сбыта на рынке и все же оставался для меня другом, забиравшим свои честно заработанные 25 %, а 75 % аккуратно перечислял на мой счет. Впервые в жизни объектом моего интереса стали консультанты по вопросам налогообложения и по вложению финансовых средств, а налоговое управление стало искоса поглядывать на меня. И я не стал корчить из себя бессребреника, когда Грюцмахер предложил мне приобрести часть фирмы и функционировать в дальнейшем в статусе ее вице-президента.
Четыре раза в год мы в компании экспертов по налоговым вопросам оговаривали ежеквартальные итоги и распределяли прибыль; я освоил науку исчисления амортизации новых микшерских пультов, разъезжал на принадлежавшем фирме авто, а вскоре перебрался и в квартиру побольше – разумеется, она была моей собственностью. Пописывая коротенькие музыкальные заставки для детективных или детских сериалов, которые Грюцмахер тут же выгодно сбывал, я познал самую лучшую сторону капитализма. Даже обедая с кем-нибудь из своих немногочисленных друзей, я не тратился – фирма оплачивала не только обеды, но и вино, которое я попивал по вечерам – это способствовало творческому вдохновению, следовательно, проходило по статье накладных расходов.
Поскольку самому Грюцмахеру фантазия была несвойственна, зато он прекрасно управлял вверенным ему механизмом, разделение труда никаких проблем не вызвало. Я сочинял, он продавал, вел переговоры и прочее. К моему ужасу, наши музыкальные пустячки завоевывали даже какие-то там премии, национальные и международные, вручались они, правда, всегда самому Грюцмахеру. Для этой цели он приобрел целую кучу смокингов, естественно, тоже за счет фирмы. Мелодии, сочиненные мною для популярных ток-шоу, завоевали широчайшую известность – их даже насвистывали на улице, впрочем чаще всего безнадежно фальшивя.
Чем больше становилось музыки, тем труднее людям становилось обращаться с нею. И меня всегда задевало, когда приходилось иной раз слышать в каком-нибудь супермаркете свои вещи, сочиненные для скрипки и безжалостно исковерканные монтажом. Так как телевизора у меня не было, в своих четырех стенах я был надежно защищен от своих рыночных творений и слышать их мог лишь в общественных местах.
Доходившие до меня сведения о Марии были крайне скудны. У нее родилась дочь, о чем мне сообщили открыткой. «Однажды ты с ней познакомишься, – вкривь и вкось было выведено на самом краю, – и она тебе понравится». О том, кто же все-таки отец ребенка, я так и не узнал из ее писем, большая часть которых посвящалась восторженным описаниям дочери, хотя я не раз и не два напрямик спрашивал Марию об этом.
Мария вышла замуж, потом развелась, повстречала другого мужчину, режиссера, имя которого было мне знакомо, хотя ни единого его фильма я не видел. Какое-то время спустя разведясь и с ним, она писала мне, что скорее всего никогда меня не забудет. Первый ее муж – пианист-венгр, второй – француз, постановщик опер, теперь спасать ее должен был, по-видимому, сочинитель мелодий к «мыльным операм» из Германии.
Случалось, Мария выступала с концертами и в Германии, пожиная восторженные отзывы критиков, но Мюнхен всегда старательно обходила стороной. У меня имелась и карточка ребенка, расплывчатое любительское фото, присланное мне на память Марией. Иногда я вглядывался в темные, похожие на кнопки глаза этой маленькой куколки, силясь отыскать черты сходства, но безрезультатно. Претендовать на отцовство этой девочки могла вся мужская половина представителей европеоидной расы.
В те времена у меня случилось несколько романов, в основном это были женщины, так или иначе связанные с музыкой, с которыми я знакомился у Грюцмахера и которые, сойдясь со мной, рассчитывали сделать карьеру. Но они редко оставались у меня после ужина из-за того, что мои сочинения, которые я, как правило, исполнял на фортепьяно, представлялись им ужасными. Некоторые после дискотеки за полночь забегали ко мне, заметив свет в окнах, укладывались в мою постель и крепко спали, когда я уже на рассвете ложился рядом.
Досадно, что я никак не мог запомнить их всех по именам. Они просто проходили через мою не слишком упорядоченную жизнь, некоторые из них хотя бы умели готовить, но большинство – только пить. Когда по утрам они, успев прихорошиться, заглядывали мне в лицо с выражением искреннего материнского сожаления по поводу моей, как они считали, бытовой неустроенности, меня охватывала жуткая злость, побороть которую можно было, лишь мгновенно перевернувшись на живот. И если следующим вечером какая-нибудь Сильвия или Таня названивала мне, интересуясь, что я поделываю, я просил ее прийти как можно скорее, потому что как раз сейчас готовлю еду. Таким образом, я имел возможность отужинать в компании и понаблюдать за разнообразными физиономиями.
Лишь одна из них не походила на своих коллег – русская с миленьким, напоминавшим грушу личиком, изо всех сил старавшаяся испортить свое приятное и мелодичное контральто у Грюцмахера. Она не убегала из комнаты, когда я начинал играть свои сочинения, читала мне в подлиннике Ахматову и Мандельштама, а когда я усаживался за свои коммерческие мелодии, недовольно морщилась и уходила в другую комнату. Всегда, когда я наталкивался на нее в длинном, уставленном книжными полками коридоре, выходя туда, чтобы размяться и почерпнуть вдохновения, она таким скорбным голосом осведомлялась, почему мне грустно, что я не выдерживал и тут же принимался хохотать.
– А тебе, – спрашивал я каждый раз, – почему тебе грустно?
В ответ она, тряхнув своей ежедневно менявшей цвет кудлатой головой, пела какую-нибудь светлую, будто пронизанную лучами солнца песенку, и все вставало на свои места.
Однажды она попросила меня дать ей взаймы десять тысяч марок. Деньги понадобились ей, чтобы переправить своего восьмидесятилетнего дядюшку из Киева на Запад. Нам предстояло отправиться в Пассау и дожидаться его у места переправы. По пути, в машине, поджав ноги под себя и обхватив меня за шею, она рассказывала мне о своей жизни – это была изобиловавшая хитросплетениями и грустная история, то обрывавшаяся, то начинавшаяся вновь и не имевшая конца.
В Пассау я должен был дожидаться ее в машине, а она с какой-то бумажкой в руке убежала. Я видел, как ее рыжеволосая голова исчезла в толпе, и сразу же почувствовал себя очень одиноким и брошенным, что со мной случалось крайне редко, то было одиночество, складывавшееся из печали и стыда. Но не успел я задержаться в этом состоянии одиночества, как раздалось тихое постукивание по ветровому стеклу, и когда я, перепугавшись до смерти, повернул голову, то увидел рядом с ней боязливо съежившегося старичка с потертым чемоданчиком и портфелем в руках.
Не скупясь на поклоны, мы познакомились, потом дядя и племянница уселись на заднее сиденье, где неподвижно и безмолвно просидели до самого Мюнхена. Лишь раз я почувствовал ее руку у себя на затылке, но не успел дотронуться до нее, как она снова исчезла в полумраке салона.
Деньги были возвращены мне постепенно, в десять приемов, а саму девушку я больше не видел. И Грюцмахер понятия не имел, куда она девалась. На память о себе она оставила один вопрос. Иногда проходя мимо книжных полок, я задаю его себе: «Тебе грустно?» И каждый раз после этого по пути в кухню запеваю ту самую веселую песенку.
Среди моих знакомых была и одна моя истинная почитательница. Себя она видела художницей и внушила себе, что своими рисунками сумеет придать моей музыке зримое воплощение. Она появлялась на всех моих немногих концертах, требовала с меня автографы и всегда бесстрашно и дружелюбно выкладывала мне о том, какое впечатление произвели на нее мои произведения, так что уже очень скоро я просто не мог не пригласить ее поужинать со мной после выступления. Очень многие принимали ее за мою жену и, если она опаздывала, всегда спрашивали, где моя супруга.
Звали ее Соня, она была высокой, ладно сложенной и располагала копной светлых волос, даже слегка шокировавшей меня – точно такая же была у моей матери. Ко всему иному и прочему ей вдруг вздумалось написать мой портрет, и она как-то уговорила меня целый день позировать ей. Из Карлсруэ Соня явилась с двумя чемоданами, словно одержавший победу полководец, вошла в мою квартиру и легким движением руки преобразила унылую атмосферу в искусственную радость – там что-то задрапировала, здесь подвязала, стратегически верно разместила привезенные цветы, на книжные полки водрузила нормальные винные бутылки, вообще вела себя так, будто остаток жизни собралась провести здесь, в моем логове.
Когда с приготовлениями для написания портрета было покончено, мне велели поставить записи моих сочинений, они были необходимы ей для вдохновения. После этого Соня заставила меня несколько раз кряду переодеться, я перепробовал с десяток рубашек и шесть брюк, успевших поднакопиться в моем гардеробе. Пока я вертелся перед зеркалом, она критическим взором оглядывала меня. Раз-два-три, подбадривала она меня, видя жалкие попытки поскорее натянуть брюки, при этом отчаянно изворачиваясь, чтобы от ее пронырливого взора ушло то, чего я не желал выставлять напоказ. Комментарий: завтра покупаем тебе новые трусы. Тут едва теплившаяся во мне воля к сопротивлению и вовсе упала до нуля. И чем сильнее я старался не подчиниться Соне, тем большую ее озабоченность это вызывало, и моя молчаливость лишь распалила ее красноречие.
Своими сумасбродными и в тех обстоятельствах эффективными акциями она сломила мое упрямство. Например, она не чуралась иногда и коснуться меня, положить ладошку на живот с тем, чтобы я правильно дышал все эти долгие часы сидения в неподвижности, обеспечить адекватную технику дыхания, как она выразилась: нам же не нужно, чтобы вы в один прекрасный момент взяли да свалились с кресла. И, намеренно употребив вежливую форму обращения, намеренно же удерживала руку между солнечным сплетением и областью гениталий до тех пор, пока у меня буквально голова не шла кругом. Но главное оружие было введено в бой, когда мы оба достигли состояния обманчивого спокойствия: я будто мертвец застыл в кресле, а она напротив меня с альбомом для рисования на коленях.
Вдруг она вскочила, вне себя от злости, и принялась распекать меня за то, что она, дескать, видеть не может мою физиономию.
– Это не вы! – вопила она, сжав кулаки. – Передо мной какой-то слизняк, жалкая тряпка, но никак не художник, не композитор – ни полета фантазии, ни глубины, ни намека на метафизическое! Хотя бы взглянули на меня, что ли!
В ее голосе чувствовалась угроза, а я тем временем уставился на носки своих туфель, и в этот момент и произошло то, чего я вот уже несколько часов с растущим непокоем ждал: Соня извлекла из своей роскошной гривы один за другим гребни, поочередно зажимая их в зубах, затем содрала с себя свитер и швырнула его куда-то в угол. Я, будучи совершенно сбит с толку, не знал, что делать, внезапно мне почудилось, что я вижу перед собой мою мать в невиданном и непозволительном виде: в виде обнаженной натуры. Одному Богу известно, каким же образом ей удалось столь стремительно освободиться от всего, что скрывает женское тело от чужих взоров, но внезапно Соня оказалась передо мной в чем мать родила, причем рядом – протяни руку и дотронешься.
Но о том, чтобы дотрагиваться, и речи быть не могло. Куда там, я – в своем лучшем костюме, омертвелый – сидел в кресле, а особа из Карлсруэ, супруга некоего мелкопромышленника (тоже ее выражение), отрасль – машиностроение, монополист, – яростно набрасывала на лежащем у нее на коленях ватмане, периодически покрикивая: сейчас, сейчас мы покончим с этим. Мне было строжайше воспрещено и шевельнуться, не говоря уже о том, чтобы зажечь свет. Предметы, находившиеся в комнате, на мгновение пробуждались, затем снова погружались в коматозную спячку. Каким-то чудесным образом запасы ватмана в альбоме истощились, сидение завершилось. Больше сегодня все равно не удастся ничего сделать, со вздохом подытожила художница. Она даже вздыхала точь-в-точь как моя мать. В результате всех этих стечений обстоятельств я был не в силах и пошевелиться, однако блондинка проворно извлекла меня из кресла, оттащила в ванную, где с грехом пополам ополоснула, после чего раздела и дотащила до постели. Все остальное – на совести ночи.
Спустя неделю портрет был закончен. Изображенный на нем человек сильно смахивал на черепаху, боязливо высунувшую голову из панциря. Если приглядеться, среди темных тонов заднего плана можно было различить обнаженную женщину с мощной грудью, заклинающе поднявшую руку. Муза, лаконично пояснила художница из Карлсруэ. Она была удовлетворена: ее лучшая картина. К сожалению, продавать ее Соня отказалась, иначе я просто поставил бы ее на вечное хранение в какой-нибудь запасник, где она благополучно истлела бы.
Слава Создателю, из картины никак нельзя было установить то, как именно она создавалась, и то, что в краски якобы были добавлены какие-то там магические компоненты. Когда я несколько лет спустя прочел в одном из журналов о том, что некая американская художница из концептуальных соображений в качестве красок использовала свои ежемесячные выделения, я невольно вспомнил о своей почитательнице из Карлсруэ, которой наверняка пришелся бы по душе подобный авангардистский прием.
Через неделю Соня, прихватив шедевр, навсегда испарилась из моей жизни. От ее знакомых, тоже художников, я впоследствии узнал, что при написании портретов она всегда использовала подобный подход, пока в один прекрасный день не нарвалась на какого-то ваятеля по камню, который на четвертый день творчества отметелил ее так, что она загремела в больницу. Суд счел возможным оправдать его.
Мой портрет до сих пор можно увидеть на почтовых открытках.
Кроме вот таких, по сути, поверхностных знакомств особым разнообразием моя жизнь не отличалась, поскольку меня мало интересовало и стремительное, не отличавшееся новаторскими тенденциями развитие современного искусства, и развитие общества. А разве пресловутое общество могло кого-нибудь заинтересовать? Как ни прискорбно, но все вновь уверовали в государство. Неужели искусство хоть что-то могло мне дать? Я много читал, много сочинял, много бездельничал. Было ли это счастьем или печалью?
О Марии я почти ничего не слышал.