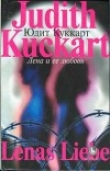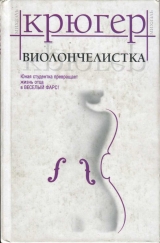
Текст книги "Виолончелистка"
Автор книги: Михаэль Крюгер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Михаэль Крюгер
Виолончелистка
1
– Никакого кладбища и в помине не было. В ответ на вопрос, куда ехать дальше, таксист, грузный ворчун с птичьей физиономией, лишь равнодушно отмахнулся, не проронив ни слова, хотя всю дорогу сюда с растущим раздражением реагировал на высказывания диктора по радио и искаженные эфиром призывы диспетчера. И почему только я не заставил чуточку обождать того, первого шофера такси, дружелюбного и услужливого, доставившего меня из будапештского аэропорта в отель? Тот готов был предложить решительно все: молодых красавиц, ночные заведения, цыганские оркестры – только скажите, будет сделано. Но мне хотелось хоть десяток минут опомниться перед тем, как отправиться на похороны, и я отпустил его.
– Где же это кладбище? – возопил я с заднего сиденья раздраженному водителю, который отрешенно прикуривал очередную сигарету от окурка предыдущей, обильно посыпая искрами заношенный свитер.
Машина стояла под каким-то растрепанным деревом, с безжизненных ветвей которого уныло свисали засохшие листья, а за ним взору открывался пустырь, усеянный вставшими на вечный прикол ржавыми фрагментами непонятного авто без колес, еще дальше – убогие домишки. Ни могил, ни людей не было видно в этом позабытом краю.
Слава Богу, хоть швейцар отеля накорябал на листке бумаги адрес треклятого погоста, и теперь я, задыхаясь в тесном прокуренном салоне такси, под угрюмо-недоверчивым взором водителя лихорадочно обшаривал карманы в поисках злополучного обрывка бумажки. Я весь взмок, но так и не находил его. У меня не было ни малейших сомнений, что основное занятие здешних таксистов – обман доверчивой клиентуры, в чем меня убедил еще швейцар, впрочем и сам не отказавшийся от щедрых чаевых за предоставленную информацию, однако перспектива оказаться у черта на куличках по милости смертоубийцы-водителя – такое было свыше моих сил. Нахамить ему я не мог – здесь, куда ни кинь, не то что такси, а вообще машины ни за что не отыщешь, как, впрочем, и самого кладбища.
И я продолжал рыскать по карманам в поисках клочка бумаги, а шофер мрачно затягивался едким дымом, кашлял разинутым ртом, после чего распахнул дверцу салона и отхаркнул загустевшую бурую мокроту прямо в пыль. Ситуация была возмутительной и вместе с тем унизительной, и я уже готов был выкрикнуть название отеля, чтобы он сию же минуту отвез меня назад, но тут окаянный клочок бумаги каким-то образом нашелся – в нагрудном кармане пиджака. Я победно протянул его своему вознице.
– Кладбище! – проорал я чуть ли не в ухо этому молчаливому типу, искоса изучавшему смятый листок и раздумчиво качавшему головой.
Мотор снова заурчал, вместе с ним пробудилась тяга к вербальному общению и у водителя, будто ключом зажигания он запустил не только двигатель, но и себя самого – он снова яростно бранился и бормотал. Факт обнаружения места назначения общую перспективу не улучшил, к тому же зарядил мелкий, похожий на аэрозоль дождь, разом затянувший и без того унылый пейзаж сероватой депрессивной кисеей.
Возможность притрястись в этой продымленной клетке на кладбище за полчаса до начала церемонии с тем, чтобы осмотреться, отыскать могилу и, с другой стороны, определить пути возможного отступления, постепенно становилась все призрачнее. Да и доберусь ли я туда вообще? Шофер, сопя и бубня, свернул к заправочной станции и остановил машину у малопривлекательной замызганной колонки. Выбравшись наружу, он направился к багажнику и довольно долго возился там. В поле зрения он возник довольно не скоро. В одной руке у него была початая бутыль с мутноватой жидкостью, скорее всего молодым вином, в другой исполинский сандвич, от которого он зубами отхватывал внушительные куски.
Шофер стоял у радиатора, сосредоточенно двигая челюстями и отхлебывая из бутыли. Только теперь я заметил, что левая половина его лица обезображена багровым бесформенным лишаем, протянувшимся от глаза до самой шеи, схваченной засаленным воротом свитера. И поскольку этот уродец не обнаруживал намерений залить в бак бензин, да и никто из служащих станции не показывался, я, поочередно оттянув рукав пальто, пиджака и рубашки, добрался наконец до часов и красноречиво постучал по стеклу, отчаянно надеясь, что и здесь, как и во всем мире, жест этот все-таки будет истолкован как подобает.
Ни один мускул не дрогнул на безучастной физиономии. Лишь когда в его пасти исчез последний кусочек хлеба, а бутыль была заботливо упрятана назад в багажник, шофер приступил к заправке. Но как только утихомирился счетчик колонки и забрезжила смутная надежда вопреки всему добраться до пункта назначения, куда я ехал уже битый час, шофер распахнул дверцу и отрывисто пролаял мне пару слов. Речь, конечно же, могла идти только о деньгах и ни о чем другом. Повинуясь его требованию, я извлек пачку купюр, еще не так давно врученных мне анемичной особой в окошечке обменной кассы отеля в обмен на стомарковую банкноту, и вложил в сунутую мне прямо под нос ладонь бумажку среднего достоинства. Пальцы оставались неподвижными, и ладонь не исчезала. Не дрогнули они и после того, как я накрыл первую купюру еще парой банкнот.
В этот момент к нам приблизилась стайка оборванцев, невесть откуда взявшихся здесь. Живо заключив водилу в полукруг, они с нескрываемым любопытством наблюдали за происходящим. Какая-то бабенка в вязаной шапочке бесцеремонно просунула нечесаную башку в салон машины и тоже жадно протянула раскрытую замызганную ладошку, норовя ухватить купюру.
Я представления не имел, сколько денег уже отдано мною и сколько еще оставалось, да и недвусмысленное поведение этой кодлы времени на раздумья не оставляло. Необходимо действовать. И выход был лишь один – атаковать. Опустив ноги на землю, я с зажатыми в кулаке купюрами выбрался из машины, после чего угрожающе выпрямился перед собравшимися подле водителя голодранцами, выдержал нужную паузу и завопил что было мочи:
– Если вы сию же минуту не отвезете меня к кладбищу, я вызову полицию, и вас всех упрячут!
Произнося эту тираду фельдфебельским тоном, распалявшим во мне ярость и отвагу, о которых до сей поры я просто и не подозревал, я для острастки ткнул кулаком в грудь кому-то из стоявших и походя смахнул шапочку с кудлатой головы наглой бабы.
Тут даже видавший виды таксист и тот приуныл. Теперь самое главное – не дать им всем спуску, не упустить инициативу. Когда я уже собрался схватить за грудки этого субъекта с птичьим лицом, между нами возник человечек в замасленной спецовке, который на безупречном немецком поинтересовался о причине столь эмоционального разбирательства.
– Мне нужно на кладбище, – бросил я в ответ, – на окаянный, неизвестно где запрятавшийся могильник, куда этот дебил никак не может или не желает отвезти, хотя уже вытащил из меня целую прорву денег! Стыд и позор, что в этой стране так беспардонно обходятся с приезжими, ставя ни во что элементарные нормы приличия и гостеприимства. Вся Венгрия кишит такими типами, для которых законы цивилизованного общения – пустой звук…
– Кладбище? Кладбище? – вопрошал человечек в спецовке. – Так вам надо на кладбище?
И, дружелюбно улыбаясь, как бы невзначай деликатно запихнул меня назад в салон, а лишайный шофер занял место за баранкой, под рукоплескания зевак выехал на дорогу, а несколько минут спустя мы уже подъезжали к кладбищу.
– Будете ждать меня здесь! – приказным тоном сообщил я водителю. – Понимаете меня, здесь. – Еще раз ткнул пальцем в часы, поднял два пальца и снова повторил: – Ждать здесь!
О деньгах уже речи не шло, а когда я, купив букет у обаятельной беззубой дамочки, метнул взгляд на такси, то увидел, что машина, кряхтя, выбирается за угол. Слава тебе Господи, мелькнуло у меня в голове, что и на сей раз все сошло благополучно. Поскольку мне отчего-то показалось, что вопреки всему деньги были сэкономлены, я без сожаления сунул в шершавую руку продавщицы еще купюру.
Дождь усиливался. Перед помещением, где прощаются с покойными, – шатким сооружением, – образовались огромные лужи, нечего было и пытаться прыжком преодолеть их. Оставалось форсировать. Мужчина в форменной одежде с видом перевозчика через Стикс весело поглядывал на тех, кто тщетно пытался, не замочив ног, преодолеть водную преграду. Какая добросовестность перед уходом в небытие!
Оказавшись в самом центре лужи, я все же попробовал перемахнуть остаток ее и, основательно промочив ноги, добрался до суши. Окончательно я пришел в себя, лишь преодолев изрядный кусок показавшегося мне бескрайним участка, отведенного тем, кого уже нет с нами. Безмолвная и строгая упорядоченность каменных плит, старых и покосившихся, под которыми покоились бренные останки многочисленных усопших, в том числе и австрияков, настроили меня на размеренный темп, сообщив мыслям некое подобие упорядоченности. И уже десяток минут спустя, заложив руки за спину, я мерно вышагивал, вступив со смертью в самые доверительные отношения, настолько доверительные, что даже смог опуститься на крохотную скамеечку у какой-то пригнетенной временем могилки, чтобы выкурить сигарету.
Дождь уже успел кончиться. Ветер придал будто посыпанным корицей облакам самые причудливые формы, прямо надо мной и над могилой они походили на стоящего на задних лапах медведя. Край плиты, прикрывшей то, что некогда было Мартой Лункевич, порос грибами, теми же, что и на берлинских кладбищах, только помясистее. Из них вполне можно было бы приготовить лакомое блюдо. Марта отдала Богу душу году в 1956-м, или же ее принудили отдать ее Всевышнему – в тот год вполне возможен был и такой вариант. Прожила она на этом свете девятнадцать лет. И почему только никто не удосужился высечь на могильном камне место ее рождения?
Невзирая на то что подсознательно я понимал: здесь мне искать нечего, я чувствовал себя на этой вросшей в землю скамеечке, уперев промокшие ноги в пятнистые листья плюща, более чем уютно. Пачку сигарет я водрузил на могильную плиту, оживив веселеньким красным цветом суровую серость камня. Окурки же тщательно вдавил в раскисшую от дождя землю. Вполне возможно, что Марта и Мария дружили. Отец Марты, по всей вероятности поляк, состоял в партии, мать была родом из Будапешта. Возможно, они были соседями и иногда вместе музицировали. Марта, старшая, в строгом бархатном платье, доставшемся ей от бабушки, с вышитой парчовой брошью, у рояля. Мария в беленьких носочках, чуточку приспущенных, играла на скрипке. Каждый вторник и пятницу от двух до четырех, чаще не вынесли бы соседи. Очень сосредоточенно, невзирая на безнадежно расстроенный инструмент, порой негодующе, если ее товарка помоложе не удерживала такт. Барток. Закончив играть, обе еще некоторое время стояли у окна и смотрели на пробегавшую внизу улицу.
– Что ты видишь? – спрашивала Мария.
– Ничего, – звучал ответ, – вообще ничего.
– А когда закончим консерваторию, как ты представляешь себе наше будущее?
– Будем жить в Париже, – отвечала Марта, – и там у нас перед дверями не будут торчать машины, в которых сидят, будто приклеенные, такие вот типы, как эти, которые каждые восемь минут опускают стекло, чтобы вышвырнуть на мостовую окурки. И почему это полицейские беспрерывно коптят?
Однажды я застал Марию – это было в одной из варшавских гостиниц, – когда она словно завороженная неотрывно глядела в окно. Согнув правую руку в локте, она уперлась ею в раму, а левой – в подоконник; создавалось впечатление, что калека застыл в нелепой позе. Уже едва войдя в комнату, я понял, что она плачет – стекло за рыжей копной волос запотевало от дыхания, молочно-белый кружок с каждым выдохом на мгновение увеличивался, чтобы в следующую секунду снова сузиться. Когда я, подойдя к ней сзади, поинтересовался, в чем дело, Мария молча кивнула на стоявший на противоположной стороне улицы автомобиль, в котором сидели мужчины и курили, и как раз в этот момент они опустили стекло дверцы, чтобы выбросить окурки, и те красненькими огоньками дотлевали в снежной кашице. Вот и все ее детство, больше из него ничего не вытянешь.
И Юдит тоже имела привычку подолгу стоять у окна, глазея на улицу, даже когда мы разговаривали. Какой-то присущий окнам магнетизм, передаваемая генетически неосознанная тяга влекла ее к окнам даже там и тогда, когда противник был не снаружи, а здесь, в той же комнате, за спиной, в считанных сантиметрах от нее. И тот, кто в ту минуту увидел бы Юдит, в момент ее дичайших и душераздирающих мук, снаружи, с улицы – застывшую у окна, с поднятыми руками и перекошенным лицом, непременно счел бы ее репетирующей роль Медеи или же попросту умалишенной. А если она, чтобы хоть чуточку отвлечься, прижималась ладонями или лбом к оконному стеклу, это довершало образ узницы. Однажды, когда мы о чем-то заспорили, она настолько энергично сопровождала свой разъяренный монолог постукиванием коробочкой от компакт-диска с фортепьянными концертами Бетховена, что стекло не выдержало и разлетелось вдребезги, как раз когда из динамиков звучало рондо Второго концерта.
Может быть, размышлял я, сидя у могилы незнакомой мне Марты, может быть, Юдит почувствовала, что из-за привязанности к своей матери, которая, по сути, была не чем иным, как зависимостью, временами приводившей к доведенному до абсурда копированию, ей так и не дано пойти своим путем в творчестве. Она была и оставалась точнейшей и добросовестнейшей копией, двойником своей гениальной матери. Вы, случайно, не дочь Марии? Может, и ее ипохондрическое высокомерие, побудившее Юдит ввести в свой круг общения именно меня, а не кого-нибудь еще, было не чем иным, как попыткой вырваться из тени, отбрасываемой Марией, не отрываясь от нее окончательно? Ведь она пребывала в твердой убежденности, что самому мне ни за что на свете недостанет мужества убраться подобру-поздорову со двора Марии ни ради другой женщины, ни по собственной воле. Я был заражен. Заражен неизлечимой болезнью, всю жизнь я оставался бациллоносителем. Вероятно, Юдит рассчитывала в моем обществе схорониться от Марии. Впрочем, она была слишком умна, чтобы позволить себе втянуться в подобные игрища.
Бедняжка Марта Лункевич. И ее втянул в разбирательство этих, не имеющих к ней касания отношений и путаное самокопание тот, кто, не в силах совладать с собой, вздумал выплеснуть их из себя, сидя у ее могилы. И даже этого ему мало. Над необозримым полем вопросов повис еще один, на который мне предстояло ответить: ну почему Юдит решила остановить свой выбор именно на мне? В жизни ее матери в избытке присутствовали те, кого она с успехом могла бы использовать в своих целях. Дирижеры, пианисты, композиторы, критики – все, кто бежал к Марии поплакаться в жилетку и неизменно обретал в ее обществе утешение, все эти незрелые недоделки, ныне перешедшие в разряд знаменитостей и благополучно пожинающие лавры успеха у готовой ломиться на их выступления публики. Все они были в ее распоряжении и, вне всякого сомнения, были бы только рады опекать Юдит. Почему она вышла именно на того, на ком оставил свою зловещую отметину демон разочарования и краха, на человека в известном смысле конченого, на того, кто обрел душевный покой, лишь избавившись от всяческих желаний?
Внезапно меня осенило: она всегда искала того, кому могла бы навязать свою концепцию победы. Неудачник был необходим ей в качестве некоего оселка, испытуемого, в состязании с которым неизменно оказываешься в выигрыше. А выигрывать ей было необходимо постоянно. Если мы шли на концерт и там не оказывалось никого из знакомых, Юдит так и продолжала стоять у своего кресла, дожидаясь, пока ее не заметят, в то время как я, усевшись, преспокойно изучал программку. В антракте я еще продолжал аплодировать, а она уже пробиралась в фойе, торопясь быть узнанной. И находя того, кто, еще не успев отойти от услышанного, пребывал в явном смятении чувств, она с ходу обрушивала на него свое мнение и об исполнителе, и о произведении и обрабатывала до тех пор, пока жертва с ней не соглашалась.
Мне припомнился один концерт, где исполнялся Штокхаузен и на который мы отправились вместе с ней. Концерт был явно сыроват, и даже отвага исполнителей не смогла скрепить рыхлость композиции. Но уже в антракте Юдит собрала вокруг себя компанию юнцов и принялась эмоционально вдалбливать им, сопровождая сказанное темпераментной жестикуляцией, что, дескать, мы присутствуем при рождении шедевра, и за отведенную ей четверть часа на самом деле сумела убедить в этом присутствующих, так что по завершении концерта музыканты слегка ошалели, сорвав бурные и совершенно незаслуженные овации.
Пачка «Мальборо» опустела. Я уже зажег было спичку, и она, упав на надгробие Марты Лункевич, с шипением погасла. Мир праху твоему. Сквозь пелену облачности пыталось прорваться блеклое солнышко. Поднимаясь со скамейки, я вдруг почувствовал, как хрустнули суставы. Пожилой человек на будапештском кладбище. С преувеличенной тщательностью я запахнул пальто, отвесил едва заметный поклон могиле, где покоилась та, кому невольно выпало стать свидетельницей этого странного акта самоанализа, так ни к чему и не приведшего. Мне предстояло день за днем воссоздавать в памяти всю эту историю, только так можно было найти ключ к ее разгадке. А ключ этот существовал.
Обернувшись, я сквозь поредевший кустарник различил приближающуюся ко мне траурную процессию. Это могли быть только они. Рой черных пчел вокруг убранного цветами гроба, возвышающегося на деревянной повозке. До меня донесся скрип колес по гравию дорожки. Проворно подняв воротник пальто, я спрятал в карман пустую пачку из-под «Мальборо» и поспешил в противоположном от скорбевших направлении – к выходу. Присоединись я к ним, оказался бы там не ко двору, это было ясно как день божий.
У входа с дымящейся сигаретой во рту меня дожидался водитель такси. Его лишай отливал алым в бледноватом свете солнца.
2
В сутках есть время, когда принимаются все жизненно важные решения, те из них, что поддаются осознанному планированию, не являясь итогом поспешных утрясок случайных событий. И это происходит утром, между шестью и семью часами. С ужасающей регулярностью я пробуждаюсь в шесть утра, иногда мне даже случается увидеть, как секундная стрелка наручных часов спеша подбирается к цифре двенадцать – единственной, которая представляется мне истинно четной в моей жизни.
Происходящее же после семи – не что иное, как завершение, суровая епитимья исполнения. Если утром в моей голове царит замысловатая звуковая последовательность, то за день она успевает раствориться, а к вечеру и окончательно исчезнуть. Если по утрам я принимаю решение освободить себя от всех смехотворных обязательств, перейдя от раздробленности к целостности, грядущий день готовит массу причин для того, чтобы сей переход осуществлялся безболезненно, и еще до ужина я прихожу к заключению, что все до поры до времени должно оставаться по-старому. Лишь в свой единственный час я ощущаю необходимую свободу, остаток же дня – сплошные муки, окаменелый отпечаток продуктивного непокоя, охватывающего меня, едва я просыпаюсь. Это еще одна из причин того, отчего меня никогда не волнуют мои сновидения, в то время как весь мир самым внимательнейшим образом приглядывается к своей душе в стремлении тем или иным способом поставить себе на службу театр теней души своей, на разные лады истолковывая его действо.
Психоанализ и музыка – сколько раз бегал я на эти лекции, привлекавшие самых очаровательных девушек-студенток. Отчего эта точеная блондинка избрала именно арфу, которую так нежно сжимает чреслами? Почему прыщавый тип из Мюнстера столь решительно вдувает воздух в свой тромбон? И по какой причине Бетховен в один прекрасный день решил не слушать больше собственных сочинений? Моему поколению не давал покоя вопрос и о том, действительно ли в Шуберте была предрасположенность к гомосексуализму? Воздействие отказа от призыва плоти на творческий потенциал – именно так звучало название семинара, на который записывались решительно все. Дескать, превращая публику в слушателей, композитор тем самым побуждает ее признать и разделить с ним ту же вину, что подвигла его засесть за создание произведения. Таким образом, мы становимся соучастниками. И если при прослушивании отдельных вещей Шуберта у нас на глаза наворачиваются слезы, мы таким образом дублируем вину, бремя которой взвалил на свои плечи этот композитор.
Интересно, а что же за вину взвалил на свои плечи Штокхаузен? Параллельно с этим жутким семинаром возник и еще один: марксизм и музыка, на который тоже студиозы валом валили, это превратилось в своего рода обязанность. А в довершение всего нам преподнесли смесь первого и второго: рассусоливания о влиянии психоанализа и марксизма на развитие и становление музыки. Сожительство звуков как выражение нечистой совести позднеиндустриального капитализма на примере Стравинского и Шёнберга. Оба, конечно же, страдали неврозом на сексуальной почве. Куда же подевались все эти расчудесные теории сейчас?
Вероятно, сегодня, по прошествии трех десятилетий, можно объявить тронутым любого, попытайся он всерьез провозгласить их. К тому же я лично не знаю ни одного музыканта, кто по доброй воле прочел хотя бы строчку из Маркса и Фрейда. А в те времена это было must, необходимо, иначе тебя навек занесли бы в проскрипционные списки невежд и посредственностей. В перерывах же между этими, ныне канувшими в Лету перлами гуманитарной науки все усаживались в кружок и принимались повествовать друг другу о сновидениях минувшей ночи. Вот только мне рассказать было нечего. Безмолвствовал я и тогда, когда меня пытались высмеять если уж не за чрезмерную приверженность к сублимации, то хотя бы за нежелание уступить большинству.
Нет такого, кто не кивнул бы понимающе, когда я сообщаю о наличии своих внутренних часов. Мол, знакомая песня! Друзья-физиологи посылали мне распечатки исследований биологических часов у птиц и насекомых. Однако никто не в состоянии дать оценку всего того досадного, что приносило с собой пресловутое пробуждение по четкому графику, пытки, заключавшейся в том, что ты вынужден в строго определенное время суток снова взирать на мир независимо от последствий, оказываемых этой биологической константой на события предстоящего дня, да и всей жизни. Ибо я не из тех, кто будто заведенный укладывается спать в одиннадцать вечера, загодя радуясь предстоящему раннему пробуждению, как и не из тех, кто намеренно и сознательно не допивает до конца бутылку вина, дабы утром подняться с ясной головой, и уж никак не из тех, кто способен поставить свои творческие устремления в какие-то варварские временные рамки, генами впечатанные в мой организм.
В результате долгого и мучительного тренинга мне еще в школьные годы удавалось снова смежить веки, едва открыв глаза, и еще с час не раскрывать их, я и до сих пор придерживаюсь этой привычки для обдумывания предстоящих дел и – по возможности – для принятия соответствующих решений. Все созданные мною произведения родились на свет именно в этот час, в последующие же шла уже доработка их. Доводка, оттачивание. Вероятно, это связано с тем, что я вбиваю себе в голову идею о том, что я, дескать, только в этот час и могу быть собой. Во все остальные, проводимые наяву, я вынужден прикидывать, отчего же по нескольку раз на дню меня посещает желание бросить все к чертовой матери. Каждый художник, композитор, писатель всегда в непрестанном поиске того, что отличит его от остальных. И поскольку уже очень скоро приходит к мысли, что практически ничем от них не отличается, он начинает изобретать все новые и новые способы выдать собственную заурядность за нечто уникальное. Некоторые пробавляются этим всю жизнь. Изобретают концерты для шести роялей и гобоев, но сетуют на то, что, мол, иногда забывают вынести мусор.
Лично я ничего не изобретал. Зато у меня есть то, чего не отобрать никому: а именно тот самый час от шести до семи. Остаток дня растекается и распыляется, и все попытки обретения самодисциплины – есть в одно и то же время, регулярно отправляться на вечерний моцион уже пару недель спустя шли прахом. Иногда я представлял себе, что бы произошло, если бы какая-нибудь неведомая болезнь уворовала у меня этот часик.
И своим решением дважды вступить в брак, как и дважды развестись, я обязан именно ему, как, разумеется, и всем тем, что касается моего творчества. Обе мои жены до трогательности заботливо пытались как-то упорядочить мою жизнь, придать ей форму, обе представляли мне неоспоримые и убедительные аргументы в пользу приема пищи в одно и то же время суток, строго фиксированного по времени ухода в летний отпуск, регулярных визитов к врачу, внимательного отношения к своему организму, однако все их героические потуги перевоспитать меня, как демонстративные, так и якобы скрытые, оказывались бесплодными – лишь стержень дня моего, мой тайный организатор, он один решал и определял, чем мне заняться, а от чего воздержаться. Если я утром в половине седьмого решал, что мне необходимо еще раз проработать пьесы для рояля, то результатом могло быть, что я двенадцать часов кряду занимался ими, а все остальное побоку; если же никаких срочных дел не имелось, я целый день мог валять дурака, либо вернуться к своим старым проектам, либо без разбору перелистывал книжки, число которых, казалось, росло не по дням, а по часам и которые после отбытия моей второй супруги благополучно появлялись там, где ранее их присутствие не допускалось – на кухне либо в ванной комнате.
Книги утвердились в моем жилище подобно неизлечимой хвори, и повсюду высказываемые нынче идеи о том, что, дескать, век книги близится к закату, казалось, только укрепляли их живучесть. Сколько раз я давал себе зарок привести их хотя бы в подобие порядка! Например, книги о музыке сосредоточить в комнате для музицирования, немецкую литературу – в спальне, римских классиков отнести в эркер, истории даровать место в прихожей, поэзию разместить в проходной столовой, вновь опустевшей после развода. Кончилось все тем, что я отвел пару ящиков для книг, не вошедших в перечисленные категории и ожидавших своей участи на полу, поскольку их просто некуда было поставить. И тогда Лукреций неожиданно отыскивался рядом с эссе Мандельштама, и я готов был поверить в то, что оба автора вопреки и в насмешку над любыми попытками классификации прекрасно уживались друг с другом. Вообще-то не было на свете ничего прекраснее, как днями рыться в книгах, и поскольку германское телевидение в обмен за парочку сочиненных мною для него так называемых «музыкальных заставок» давало мне такую возможность, я ей не противился.
Я с упоением вкушал свое безделье, что же касается успеха, на него мне было начхать. Разумеется, мне было малоприятно, что мои «Пересечения времени для рояля и гобоя» не находили признания, на которое вполне могли рассчитывать вследствие своей композиционной слаженности и мелодической замысловатости, меня явно не восторгало и то, что обе мои оперы лишь единожды были поставлены в Германии (и лишь урывками за ее пределами), но, с другой стороны, мне следовало вопить от радости, что отнюдь не иссякавший родник музыкальных телезаставок давал мне возможность уклониться от профессуры с ее неизбежной и докучливой регламентацией, столь привлекающей моих коллег, в подавляющем большинстве получавших желаемое. Я гордился тем, что я – свободный художник, что же касается обеспечения спокойной старости, здесь я имел все основания не беспокоиться до тех пор, пока обаятельный умница комиссар Михалке раз в неделю появлялся на телеэкранах, чтобы под аккомпанемент упорядоченных мною нот распутать очередное заковыристое дело.
Кроме моего жилища, мне принадлежали еще две приобретенные и сдаваемые внаем квартиры и, кроме того, летний домик во Франции, обеим экс-супругам регулярно отчислялись необходимые суммы, а детей у меня не было. Для той части своей музыки, которую считаю серьезной, я отыскал издателя, который более-менее сносно пристроил произведения, и самые значительные циклы песен, квартеты и пьесы для рояля вышли в продажу на компакт-дисках, а городские театры Нюрнберга заказали мне третью по счету оперу, которой я рассчитывал посвятить следующие два года. У меня имелась договоренность, правда, скорее, формальная, с одним живущим по соседству писателем написать либретто, однако пока что дальше поисков материала мы не продвинулись. Иногда он заходил ко мне после обеда, нагруженный книгами, выпить кофейку, а вечером имел обыкновение отправиться прямо от меня к какой-нибудь из своих многочисленных приятельниц. И хотя мы с ним не раз в своих фантазиях видели результат наших усилий в репертуарах театров мира, никаких конкретных сдвигов в этом направлении добиться пока что не удавалось. Он желал иметь дело с классикой, поскольку рассчитывал на свою долю прибыли, но до сих пор все его идеи отклика в моей душе не находили. Медее я партию давать не собирался. Моим замыслом было вывести на сцену самые трагичные фигуры современной поэзии – Цветаеву, Мандельштама, Пессоа, с тем чтобы до того, как поэзия канет в Лету, а их произведения – в архивную пыль забвения, отдать последнюю дань величию их таланта.
Однако идея эта моего компаньона не воспламеняла. Первое: вовсе не так уж очевидно, что поэзия канет в Лету; второе: проблема теоретического аспекта, которая вряд ли пригодна для инсценировки; третье: никто в Нюрнберге, не говоря уже о Нью-Йорке или Сан-Пауло, не способен заинтересоваться масками Пессоа, равно как и участью Мандельштама. Гибель Мандельштама как теоретическая проблема? Вот так и протекали наши послеобеденные встречи, не оставляя после себя ни строчки, а о нотах и говорить не приходилось. Ибо с самого начала было ясно, что опера должна быть посвящена Мандельштаму и о Мандельштаме – все это решил я, разумеется, в пресловутый утренний час. А остальное – чушь, говорильня, бесплодное убиение времени.
Многочисленные издания Мандельштама на всех мыслимых языках хранились в моем кабинете, куда не было доступа никому, за исключением меня и приходящей уборщицы. Его фотографиями были увешаны все полки, где стояла мемуаристика советского периода – биографии Сталина, книги по истории революции, кроме того, масса книг по эстетике и истории русской литературы, все с закладками, а также фотоальбомы, журналы, вырезки из периодики – даже программка к моей опере и та имелась, вот только с оперой дело не клеилось. Сирены что-то не запевали, даром что я велел привязать себя к мачте. Пока что с перевоплощением в Одиссея следовало повременить, оставалось принимать овации тех, чьи уши залиты воском.