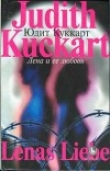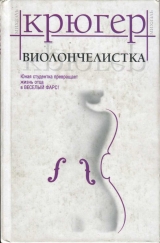
Текст книги "Виолончелистка"
Автор книги: Михаэль Крюгер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
6
Вследствие того, что мое сотрудничество с Гюнтером так и не хотело сдвигаться с мертвой точки, я уговорился с одним знаменитым итальянцем-писателем, автором переводов на итальянский язык стихотворений Мандельштама и одной весьма солидной, если не лучшей монографии о поэте. Так как вечером ему предстояло выступить перед аудиторией с чтением отрывков из своих собственных произведений, а он никак не мог выступать натощак, в три часа пополудни я должен был заехать за итальянцем в отель, чтобы организовать для него поздний обед – перед намеченной на восемь вечера лекцией ему необходимо было насладиться и достаточно продолжительным послеобеденным сном – одним часом ограничиться было никак нельзя, ибо за пару часов перелета из Рима в Мюнхен итальянец умудрился истомиться настолько, что даже готов был отказаться от прочтения лекции в этот день.
Что касается меня, я тоже малость устал от краткой телефонной беседы, вылившейся в настоящую вакханалию объяснений и пояснений, приписав это, однако, тому, что все мои из без того скромные познания в итальянском вмиг куда-то улетучились. Я и связной фразы выговорить не смог, время от времени выкрикивая в трубку бессвязные обрывки. И даже вспотел, внезапно с досадой осознав, что донимаю своим бредом столь почтенного и измотанного перелетом человека потугами на язык, лишь отдаленно и исключительно мелодикой напоминавший итальянский. Впрочем, писатель, казалось, был настолько поглощен планированием, вплоть до пересчета остававшихся до авторского вечера часов, что, судя по всему, даже не удостоил вниманием мои огрехи. Святой, да и только.
В отличие от своих немецких собратьев и коллег, в отличие от Гюнтера, от которого я и узнал обо всех деталях частной жизни этого итальянца, последний, похоже, беспокоиться по поводу своего творчества явно не собирался. Он питал ненависть к публичным выступлениям, к авторским вечерам, обходя стороной чествования и юбилеи, требовавшие речений с трибун, отмахивался и от наград. Этот человек, которому перевалило за шестьдесят, жил со своей матушкой в квартире позади Пантеона. Он штопала ему носки, относила письма на почту, отвечала на телефонные звонки и убеждала собеседников на другом конце провода, что ее сыночка, дескать, нет дома, в то время как он, дрожа, стоял подле нее. Спали они в разных комнатах, но при распахнутых дверях. Я считал его выдающимся мастером юмора, чем-то вроде итальянского Гоголя, сам же он видел себя осененным перстом Божьим трагиком, что, собственно, одно и то же – если две на первый взгляд параллельные линии продолжать до бесконечности, они все же пересекутся.
Естественно, я намеревался склонить итальянца к участию в своем мандельштамовском проекте, и поскольку мне позарез был необходим переводчик для общения, в чем меня убедил телефонный разговор, за помощью я решил обратиться не к кому-нибудь, а к Гюнтеру, вот уже три месяца пытавшемуся отговорить меня от пресловутого проекта. Но Гюнтер будто в воду канул. Гюнтер страдал столь распространенным в писательских кругах недугом – ненадежностью. Вероятно, именно она и составляла его единственно надежный источник творчества. Так что я в одиночестве отправился в гостиницу, где расположился высокий гость, – в поразительно неопрятное здание в центре города, на котором и вывески-то не было, лишь домофон с расхлябанной кнопкой, которая тут же юркнула в пластмассовый корпус устройства, стоило мне лишь прикоснуться к ней. Будто зверек в норку.
Несколько минут спустя дверь раскрылась, и из нее нескончаемой чередой повалили японцы с сумками через плечо и тут же, зажимая уши, заполонили близлежащие улицы, подобно рою насекомых. Едва завидев их, я проворно отступил в сторону и вообще прикинулся случайным прохожим, но лишь только они исчезли из виду и дверь снова закрылась, как я вновь принялся хлопотать у злосчастной кнопки, которая так и не пожелала выбраться из своего убежища. Зато послышались истерические возгласы профессора Бевилаква, по-видимому пытавшегося переорать пронзительный звон.
– Это я! – пытался докричаться до него я. – Дожидаюсь вас внизу!
Вопил я, наверное, все же достаточно громко, во всяком случае, персонал расположенной поодаль аптеки услышал меня и, явно заинтересовавшись, стал приближаться ко мне вместе с посетителями той же аптеки, движимый отчасти любопытством – что же это за диво такое, когда взрослый человек криком пытается что-то втолковать стене дома, – отчасти раздражением, вызванным стремительным отливом потенциальных покупателей. Похоже, им не понравились мои вопли вроде «это я». Закричи я: «это не я», я имел бы все шансы остаться вне зоны их внимания.
Когда сгрудившаяся вокруг меня компания услышала крики профессора, более походившие на призывы о помощи, она, не раздумывая долго, как следует поднажала на дверь, и под предводительством аптекаря небольшой авангард устремился вверх по лестнице, чтобы стать свидетелем примерно той же картины, что и внизу, но интимнее: орущий в трубку профессор Бевилаква. Он все еще или, точнее сказать, уже пребывал в домашнем халате – небольшого роста человек на грани коллапса. И поскольку никто не смог отыскать щиток с пробками, аптекарь столь энергично двинул по звонилке, что та испустила дух. И тут же воцарилась ничем не нарушаемая тишина, народ вернулся к прерванной работе или просто разошелся, я же дожидался у дверей, пока не покажется профессор и поэт, презревший нашу договоренность ради полуденного сна и, как я надеялся, примется рассуждать со мной на тему Мандельштама.
Когда этот абсолютно лысый человечек все же появился, на лице у него застыла столь оскорбленная мина, что мне только и оставалось, что смиренно и безмолвно вышагивать рядом. Ибо любое слово бередило бы рану, ранее мною нанесенную.
– Простите, – заговорил я, но тут же осекся, отметив выражение его глаз. – Вот сюда, прямо.
Это единственная разумная фраза, что пришла мне на ум, и поскольку он все же умудрился понять ее, невзирая на мой чудовищно исковерканный итальянский, я повторял ее при каждом удобном случае. Сюда, прямо. Сюда, прямо. Сюда, прямо. И вот мы оказались перед пивнушкой, откуда доносился гомон голосов. Вытянув шею, профессор опасливо приблизился к входу, тут он очень напомнил мне собаку, желавшую убедиться, не вытурят ли ее оттуда, затем отпрянул, уступая дорогу выходящим посетителям, потом снова приблизился, втянул ноздрями дух, исходивший от поджаренной свинины, однако отобедать здесь не решился. Это своеобразное принюхивание повторилось у дверей еще нескольких заведений весьма различного кулинарного направления, но повсюду – стояли ли мы у входа в китайский, итальянский, португальский или германо-баварский ресторанчик – профессор неизменно отступал, и мы продолжали путь под мое методичное «сюда, прямо». И вот где-то в самый разгар этого блуждания он вдруг остановился и осведомился у меня, где купить нижнее белье. Нижнее белье? Да, но разве не Италия держава нижнего белья и не Рим – его столица?
Мне тут же припомнились бесчисленные лавки, торговавшие именно нижним бельем, виденные мною в Риме в переплетении улочек ниже Испанской лестницы, первоклассно убранные витрины, больше напоминавшие картинные галереи, где, однако, и выбрать было нечего, разве что смехотворные трусы ужасающих расцветок. Что возжелал приобрести этот исследователь Мандельштама?
– Нижнее белье?! – вскричал я, не позабыв возложить руки на причинное место, чтобы враз покончить с неясностью относительно вида пресловутого нижнего белья, которое вознамерился прикупить итальянец.
– Да, да, – согласно закивал профессор Бевилаква.
И мы направились в магазин мужской одежды, где профессор, как я имел возможность лицезреть сквозь витрину, досыта напримерявшись, остановил свой выбор на дюжине трусов, которые велел упаковать, тех самых, что со специфическим уплотнением спереди. Недурное помещение академического гонорара, с радостным удовлетворением подумал я, когда мы возобновили наши скитания по центру города. Время пока что не начавшегося собеседования на тему Мандельштама неуклонно иссякало, когда профессор резко затормозил у какого-то невзрачного ресторанчика и после продолжительного принюхивания решился все же войти внутрь, где нам предложил место у окна весьма приветливый чернокожий метрдотель, представившийся Джеймсом и, как мы впоследствии узнали, прибывший в Германию из Уганды. Впрочем, сразу же было решено поменять этот стол на другой, тот, что поближе к центру зала. А еще немного погодя, когда вошел еще один посетитель, занявший столик в непосредственной близости от нас, мы пересели к дверям, однако по причине жуткого сквозняка вынуждены были вновь сменить место, усевшись за крохотным, под стать кукольному домику, столиком подле клозета. После описанной свистопляски со столиками, продиктованной острейшим желанием исследователя творчества Мандельштама сохранить в добром здравии свое склонное к простуде ухо и вместе с тем избавить себя от пытки созерцать какой-то невинный пейзажик на стене, после того как продемонстрировавший воистину ангельское терпение Джеймс стоически выдержал и замену стульев на более мягкие, мы наконец получили возможность взять в руки меню. Меню изобиловало в первую очередь легкими блюдами из макарон по-итальянски, но в нем присутствовали и фирменные блюда, и, кроме того, рыба в великом изобилии сортов, о коих с присущей скорее владельцу сего заведения, нежели метрдотелю убежденностью не замедлил сообщить нам по-немецки и по-английски Джеймс. После затянувшегося до неприличия перевода и не менее продолжительных дискуссий по поводу в общем-то не особенно длинного меню профессор Бевилаква с озабоченным лицом остановил выбор на жарком из ягненка с горохом и картофелем, хотя нет, жаркого не надо, только картофель и соус, я же – на спагетти с чесноком и оливковым маслом.
– Solo piselli? Только горох? – пытался докричаться я до погруженного в глубокомысленное молчание поэта, но ответа так и не получил.
Профессор Бевилаква, уронив грушевидную главу свою на грудь, похоже, сладко спал. И лишь когда мистер Джеймс поставил подле так и нетронутого стакана с красным вином тарелку с горохом – ровно сотней зеленых горошин, – шарообразная фигура обнаружила признаки некоего движения. Профессор устало взялся за вилку и попытался – тщетно, если я могу взять на себя смелость кратко охарактеризовать его усилия по поглощению пищи – нанизывать одну горошину за другой на зубья вилки, против чего непокорные бобовые отчаянно протестовали, отпрыгивая в разные стороны. Вскоре они изумрудным венчиком окружили тарелку профессора, и любой забредший к нашему столику посетитель вполне мог бы поверить, что тарелку этого сидящего с несчастным видом профессора специально решили столь оригинальным образом украсить, дабы улестить его. Из опасений показаться невоспитанным я не решался притронуться к своим макаронам. Лишь когда профессор принялся толстоватыми пальцами собирать рассыпавшиеся по скатерти горошины, немилосердно давя их, и потом после тщательного визуального изучения отправлять их в рот, я все же решил умилостивить свой отчаянно напоминавший о себе желудок, подцепив на вилку чуточку макарон. Но тут же вынужден был прервать сие действо, поскольку итальянец, с которым я встретился исключительно ради возможности обсудить либретто к опере о Мандельштаме, принялся выплевывать на тарелку отделенную во рту кожицу бобовых от их содержимого, призвав на помощь пальцы для отделения особливо неподатливых частичек кожицы от неба, дабы потом обстоятельно отереть их о край тарелки.
Когда с этим занятием было покончено и мистер Джеймс, явно польщенный похвалами в адрес кухни ресторана из уст профессора Бевилаква, сменил загаженную тарелку на книгу почетных гостей, в которую было предусмотрительно вклеено явно только что вырезанное из местной вечерней газеты фото автора, я счел, что самое время заявить о своих планах относительно оперы. Так вы собрались писать оперу на стихи Мандельштама? – по-видимому, так должна была звучать фраза, произнесенная профессором, который на мгновение решил оторвать взор от книги почетных гостей мистера Джеймса. Во взгляде этом не было и следа доброжелательности, равно как и доверия, впрочем, как не было и презрения. Взгляд именитого профессора выражал лишь вопрос – как же я могу написать для вас оперу, если я и нот толком не различаю! И тут же, велев вызвать для себя такси, обстоятельно распрощался с Джеймсом, удостоив лишь кратким кивком меня – увидимся на моей лекции! – и вместе со своим пакетом трусов исчез.
Я стал названивать Гюнтеру, чтобы тот заехал за мной, но того не оказалось дома.
Мистер Джеймс поднес мне эспрессо и с настырностью истинного уроженца Центральной Африки принялся выспрашивать меня о моем итальянском приятеле. После кофе последовала граппа, после нее – самогон, который гнал его родитель в Уганде и через посольские каналы переправлял сыну. Затем ресторан заполнили гости, набросившиеся на мясо, от которого предпочел отказаться профессор Бевилаква. Около полуночи мне все же посчастливилось дозвониться до Юдит, побывавшей в обществе Гюнтера на лекции профессора и еще не успевшей опомниться, ибо выяснилось, что итальянец, который, по ее словам, изъяснялся на великолепном немецком, затащил их в какую-то чисто баварскую пивную. Гюнтер до сих пор пребывал у меня на квартире. Вскоре они за мной заехали и при помощи новообретенного друга-африканца и его супруги, оказавшейся уроженкой Швабии, всем удалось запихнуть меня на заднее сиденье моего же автомобиля. И мне впервые за этот насыщенный событиями день наконец-то выпала возможность всласть задуматься о своей не свершившейся пока опере, одновременно прислушиваясь к этой парочке на переднем сиденье, которая за время лекции о Мандельштаме, равно как и за часы, ей воспоследовавшие, преобразилась именно в парочку.
7
Временами мне становится тепло при мысли, что в один прекрасный день меня сочтут ненормальным. Жизни святого или грешника, циника, моралиста или же свободомыслящего, правдолюбца или глупца, втрескавшегося в саму любовь эротомана, человека таинственного или льстеца, простого человека или же загадочного, плута, шизофреника или одержимого страстью, мошенника или преисполненного искренних побуждений, подозреваемого в преступлении или хотя бы бунтаря, ярого приверженца той или иной идеи или противника той же идеи, презревшего все на свете или шарлатана, лица духовного или равнодушного ко всему, чудища, атеиста или же, напротив, фанатика веры, человека дряхлого и издержавшегося или человека, тяжелого на подъем, мистика, имитатора, жизнерадостного, распутника, фокусника, причисляющего себя к кругу избранных сноба, человеконенавистника, чудодея, жертвы, безответственного, свидетеля или кого-нибудь там еще, – этой состоящей сплошь из приписок жизни, на которую я, будучи человеком искусства, был обречен, следовало положить конец, с тем чтобы начать жить жизнью того, кем я являюсь на самом деле. Ужаснее для фанатика собственного «я» перспективы и быть не может. Нет уж, лучше быть и оставаться композитором, обреченным на заточение в четырех стенах.
8
Приготовления к предстоящему дню рождения Юдит начались еще за целую неделю до торжественной даты. Разговор о празднестве заходил уже не раз, обсуждалось, какое платье ей надеть, как и где разместятся гости, что предстоит сделать – эта тема стала центральной сразу же по моему возвращению из Мадрида. Поскольку я прекратил отмечать свой день рождения давным-давно, если быть точным, после смерти матери, все эти приготовления и перемены в моем жилище воспринимались мною с недоверием и скепсисом. В особенности что касается восторгов Юдит, не раз воображавшей, как ее родня торжественно ввалится в мою празднично украшенную квартиру – они неизменно наталкивали меня на мысль, что пресловутая родня заявится сюда не на день и не на два, а, как говорится, на веки вечные. Племянники и племянницы Юдит, ее тетки и дядья обоснуются здесь навечно и превратятся в семью.
Без малого два десятилетия мне более или менее стоически и без каких бы то ни было негативных последствий отказа от общества удавалось выдерживать свое одиночество, и я уже тешил себя надеждой, что все так и останется до конца дней моих. Но отныне мне предстояло и полюбить семейство Юдит: ненадолго – как уверяла меня она; навсегда – как предполагал я.
Инкубационный период, то есть время между проникновением в организм грозных бацилл и собственно наступлением заболевания, начался с приезда дядюшки Шандора, явившегося за неделю до торжеств. Так как упомянутый дядюшка Шандор являлся специалистом по социологии музыки, по мнению Юдит, именно он, а не кто-нибудь, должен был помочь мне снова войти в колею, он, и только он, сумел бы придать необходимую и строгую упорядоченность моим разбросанным концепциям и взглядам, с тем чтобы на вновь созданной основе приступить к созданию шедевров, коих Юдит вопреки всему ожидала от меня.
Естественно, я как мог противился этому слишком раннему визиту. Перспектива обсуждения с музыкальным социологом из школы Лукаша задуманной мною оперы о Мандельштаме, которая, собственно, и оперой-то не была, а так, проектом, причем обсуждать ее как нечто заранее обреченное на провал было противно мне не оттого, что я до сих пор сидел сложа руки, имея за душой парочку эскизов и идей. Просто меня не оставляло подозрение, что и дядюшка принадлежал к тому самому основанному Юдит синдикату, целью которого являлось похерить мой замысел. В публикациях шестидесятых годов я отыскал парочку его опусов, повергших меня в страшнейшую тоску, поскольку они содержали более или менее основательный материал для оправдания теории, тщившейся обратить живую и непосредственную спонтанность в педантичную упорядоченность. Прошедший марксистскую выучку дядя исходил из статистических данных, из соотношений чисел – размера заработной платы, добавленной стоимости, размеров прибыли, но никак не из того, к чему стремится музыка. Из представленных абстрактных цифр он скалькулировал мораль, эстетику и метафизику, если подобный термин вообще здесь уместен. Так, но не иначе, вы обязаны представлять себе музыку XVIII столетия, явно довольный собой, заключил он свои штудии, так, а не иначе, вы должны и слушать музыку, появившуюся на свет в означенный период.
У Юдит, которой я попытался объяснить, что ее дядюшка страдает отсутствием фантазии, и на это, разумеется, был ответ. Его сочинения, мол, стародавние, они предназначены исключительно для печати, в действительности же дядя Шандор человек совершенно иного склада – он куда глубже, мудрее, одухотвореннее, меня еще удивит, с каким знанием дела, спокойствием и уверенностью он вызволит меня из блужданий в потемках. Бессмысленно было даже пытаться оспорить пресловутую уверенность, спокойствие и знание дела, так что я, покорившись, отдался тошнотворной перспективе в течение недели пытаться втолковать венгерскому музыкальному социологу дядюшке Шандору замысел своей оперы о Мандельштаме.
Дядя Шандор, первая ласточка из ожидаемой родни, оказался и вправду не таким, как его описала Юдит. Во-первых, он был настоящим великаном, эдаким чудищем с бородищей, пришельцем из какого-то незнакомого мне мира, который даже сидя представлялся неестественно огромным, настолько, что во время беседы, повинуясь инстинкту казаться меньше, вжимался в кресло, так что голова его касалась спинки, отчего ему практически постоянно приходилось чуть ли не лежать, согнув в коленях невероятно длинные ноги, которые, будто горы, застили его костлявое туловище. И в этой чудовищно неудобной позе он бормотал окрашенные меланхолией фразы, воспринимавшиеся собеседником как пришелицы неизвестно откуда, но уж никоим образом не как элементы диалога.
Задрав голову, он вещал потолку. Вопиющий к потолкам. И каждая из его фраз представляла собой лишь отросток крохотного облачка табачного дыма, предварявшего ее. Без трубки в зубах дядюшку Шандора, с которым мы были, собственно, почти ровесниками, хотя выглядел он как дряхлый старик, и представить себе было нельзя. В этой связи он, едва успев прибыть, разместил во всех стратегически важных точках квартиры свои трубки, одна из которых непременно дымилась, вторая же в этот момент набивалась. Даже за едой – дядюшка Шандор, будучи желудочником, почти ничего не ел – он попыхивал коротенькой трубочкой, выпуская едкие облака над уставленным блюдами столом.
Когда я однажды попросил его хотя бы на время десерта прервать курительный процесс, чтобы дать нам с Юдит возможность, не закашлявшись, доесть засахаренную клубнику, дядюшка после моих слов в глубоком молчании возложил горящую трубку на скатерть, нимало не заботясь об источаемых ею искрах, которые вскоре черными веснушками усеяли поверхность льняной скатерти. Другой рукой извлек из жилетного кармана коротенький окурок сигары и безо всякого смущения задымил вновь. Пока я с раскрытым ртом взирал на него, ошарашенный столь невинной наглостью, дядюшка Шандор как ни в чем не бывало продолжил витийствования: мы, мол, вброшены в множественность, вещал он вслед за клубами смрада, на подходе новое искусство, поскольку истина, о которой грезил еще Лукаш, нам более не нужна.
В каждой его фразе незримо присутствовал Лукаш, через одну это имя упоминалось, а само выступление нередко завершалось оборотом типа: «То, о чем мыслил Лукаш, показалось бы ему сегодня не столь безоговорочным».
Минорное изложение воззрений Лукаша и курение трубки – между этими полюсами и протекала жизнь дядюшки Шандора. Схватившая трубку рука – единственный живой и непосредственный жест, все остальное – наигранность, для которой изобретались или заимствовались все новые и новые наименования, как, например, «болтливость на темы красоты», к которым он прибегал всякий раз, когда что-то казалось ему подозрительно гладким «в этом кромешном мраке беззвездной ночи, возмечтавшей о новой заре, которой надлежит вернуть миру утраченные во тьме очертания и ориентиры. Свежий утренний бриз ворвался в затхлую каморку, и едва забрезживший свет нового мира пал на крутые лбы тех, кто во мраке утратил веру в мир новизны – разумеется, несуществующий».
Странно было слышать, как посредством дядюшки Шандора, которого я втихомолку прозвал «замшелым карпом» из-за зеленовато-бурого и напоминавшего мох налета, толстым слоем покрывавшего его немногие из пока остававшихся зубов, в завязанный на практицизме и чисто утилитарный бытовой язык Юдит проникал столь высокопарный тезаурус. И в мой тоже, так как я в жалких попытках противостоять растущим претензиям и запросам Юдит ограничивался лишь односложными незамысловатыми фразами, к которым прибегал из боязни пространными пояснениями еще более усугубить царивший в доме бедлам, условно обозначаемый мною термином «порядок».
Дядя Шандор, который появился на свет в бедной семье будапештских евреев, создал свою особую языковую форму, которая была, с одной стороны, результатом его беспорядочного учения, а с другой – следствием овладения им марксистским понятийным аппаратом. Сия чуждая и интуитивно доступная пониманию, временами близкая и знакомая нашему тяготеющему к сжатости и ориентированному на отдачу приказов и на реакцию на таковые, хоть и запоздалую, языку форма врезалась в него. Скорее всего Юдит просто не понимает его, иногда мелькало у меня в голове, когда она с мечтательным видом внимала витиеватым тирадам дядюшки Шандора, в которых без труда увязывалась дефетишизирующая миссия искусства с лишенным формы, тяготеющим к себе многообразием духа, формировавшим искусство под недоверчивые взоры укреплявшей свои позиции буржуазии и деградировавшего дворянства.
Я ловил себя на мысли, что невольно тоже внимаю ему, так и не сумев вникнуть в смысл сказанного. И тут нас внезапно возвращали на грешную землю, в царство фактов, если в речи замшелого карпа в клубах дыма выплывало вдруг имя даровитого теоретика-марксиста Сталина, комментировавшего «сознательное» и «планомерное» в любовных похождениях Казановы, чтобы тут же резко смениться рассуждениями о функции покрова, складки которого вносят смятение, поскольку, по сути, куда больше говорят, нежели скрывают. В этих гиперконструкциях отсутствовали перекрытия, мостики и переходы, так сказать, радиорелейные станции, роль которых – упорядочить словесные потоки. Не было их у этого начитанного человека. И он странствовал через библиотеки, пробираясь с дымящейся трубкой в зубах между книжных полок, что-то выхватив, некоторое время не выпускал из рук, чтобы тут же бросить уже на другую полку, поражаясь эффекту столь сомнительного метода, в конечном итоге обреченного на забвение. Он вышел из-под надежного крова марксизма в чистое поле письменности, не ограниченное ни философским, ни историческим горизонтом, где единственной опорой оставалась его трубка. И еще история жизни. Она представляла собой лик нашего столетия.
История эта разыгрывалась и в Нью-Йорке, где проживал брат его отца, удачливый адвокат и спец по части джаза, и в Москве, где его мать некоторое время работала в Коминтерне, в оперных театрах Парижа и Берлина, которые сыграли роль ничуть не меньшую, чем прокуренные каморки в Палестине, в которых дядя Тибор разместил бюро руководимой им сионистской организации. Отец замшелого карпа был сотрудником еврейской газеты «Келет» и до последнего момента вел бесплодные переговоры с заместителем Эйхмана в Будапеште. Истории эти, как и все подобные, завершались в Освенциме. Злопыхатели предали семью, обобрали ее до гроша, после чего уничтожили. Только дядюшке Шандору, этому великану, удалось уцелеть – его загодя успели отправить к знакомым в деревню. Вот так он и стал стоящим на марксистских позициях социологом и семейным летописцем.
После первого общения с ним я установил для себя, что дядюшка Шандор никак не годится на роль моего чичероне. При его методике обучений и поучений я скоро вообще откажусь от сочинительства музыки, так что следовало держаться от дядюшки подальше. Тут открывалась возможность придерживаться такой линии поведения даже без дипломатических уверток, поскольку кроме меня его аудиторией мог быть и безмолвный Янош, как-то незаметно появившийся в моей квартире – я никак не мог понять, кем он приходится Юдит, – а кроме того, имелась еще одна вещица, способная удержать дядю Шандора от словоизлияний, – телевизор. В костюме-тройке он усаживался в своей уникальной позе перед ящиком, сосредоточенно прочесав бороду от застрявших в ней крошек, и с нарастающим интересом принимался увлеченно переключать каналы пультом дистанционного управления.
Пока мы с Юдит занимались приготовлениями к предстоящему дню рождения, уборкой квартиры, время от времени попадая в пространство между Шандором и телевизором, последний был целиком и полностью поглощен зрелищем. Я подозревал, что немецкое телевидение, во всяком случае, частные его каналы, с лихвой компенсировало его искаженное мировосприятие. В этом небольшом прямоугольнике мир вновь обретал желаемую цельность и упорядоченность многообразной структуры, каковых Шандору отчаянно недоставало в жизни. Телевидение было той разновидностью мирка, в котором он ориентировался вполне уверенно, его озвученной читальней, в которой он мог хвататься за что попало, черпая вдохновение для своего суженного разума. Он представлял собой самый старомодный и подкупающе ленивый тип современника из тех, кого мне выдалось встречать. Мы пахали, а он предпочитал оставаться в стороне.
К концу недели жилище наконец обрело вид, который устраивал Юдит. Уборщица-полька, которая вначале была на моей стороне и против всякого рода перестановок и нововведений, смекнув, сменила позицию в духе новой расстановки сил и теперь была заодно с Юдит, намеревавшейся превратить мой кабинет в спальню, и живо обсуждала с ней детали по-русски. Я очутился в фамилии полиглотов, которая свела меня до уровня разнорабочего. С прибытием тетушки и сопровождавшего ее лица – румына-врача – дни мои в собственной квартире были сочтены. Дядюшка – в гостиной, Янош – в комнате для гостей, румын со спущенными штанами, дабы впрыснуть себе инсулин, – в ванной, не удосужившись запереться, тетушка – в комнате, где стоял рояль, и где она, к великой радости Юдит, вовсю разучивала «Четырнадцать багателей» Бартока, а сама Юдит с подружками из консерватории – в кухне, чтобы замесить тесто, разложить фрукты. В моей же спальне – целая венгерская семья непонятного происхождения, за неимением иных кроватей завалившаяся в мою. Казалось, никто не мог разобраться, какой степенью родства связана с семейством Юдит пресловутая четверка, и по причине их самоустранения от общественной жизни не было никакой возможности поменяться с ними, посему было решено так и оставить их в моей спальне. Ни одна живая душа не была в курсе происходящего там. Иногда оттуда доносился детский плач, затем вступал отец, на повышенных тонах утверждавший, что, дескать, ему необходим покой для нормальной работы, иногда женский голос запевал сочиненные Бартоком крестьянские танцы, отсюда Юдит могла заключить, что и эти тоже «из наших».
Посему мне ничего не оставалось, как, прихватив кое-что из своих остававшихся в наличии пожитков, перебраться в расположенную в мансарде творческую мастерскую Юдит, некогда бывшую и моей творческой мастерской. Поразмыслив, я так и поступил, несмотря на не возможность вновь включиться в работу. Ибо даже если любой из присутствующих мог заключить, что между нами несколько иные отношения, нежели между просто пожилым приятелем семьи и дочерью оттуда, все же сообщнические жесты, которыми мы обменивались, необходимо было удерживать в определенных границах. С моим переходом из своей собственной в ее империю все обрело некую отчетливость, и я мог представить себе, какой потрясающий повод для сплетен ознаменовал мой жест.
– Да не будь ты таким лицемером, – заявила мне Юдит, когда мы вечером накануне дня рождения уселись на ее постель с бутылкой шампанского, – каждому понятно, что мы с тобой спим.
С этими словами, смеясь, она навзничь упала на подушки, после чего заботливо, будто за ней наблюдала вся Венгрия, уложила меня подле себя.
Слава Создателю, я пробудился, как и подобало, ровно в шесть утра, получив, таким образом, возможность рядом с мирно посапывавшей Юдит вновь как следует обдумать создавшуюся ситуацию. Если, как и было уговорено, в течение предстоящего дня прибудет мать Юдит, мне предстоит объяснение. Не могу же я просто так взять да и перестать разделять с Юдит постель и поблагодарить матушку за то, что решилась доверить мне свою дочь. Что мне сказать ей?