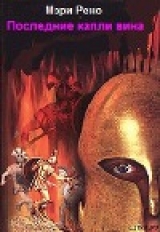
Текст книги "Последние капли вина"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц)
Глава четвертая
Адонис [42] умер. Мать опустила на лицо траурное газовое покрывало и отправилась оплакивать его, взяв корзинку анемонов, чтобы бросить на траурные носилки. Скоро на каждом углу можно будет встретить процессию умершего бога несут в его сад, женщины с распущенными волосами плачут под звуки флейт.
Я еще никогда не встречал мужчину, которому бы нравился этот праздник. В тот год он пришелся на холодный серый день с густыми облаками на небе. Граждане толпились в палестре, в банях и других местах, куда нет доступа женщинам, и вполголоса обменивались сплетнями о знамениях и предсказаниях. С Агоры принесли весть, что там только что сошел с ума некий человек: запрыгнул на алтарь Двенадцати, выхватил нож и отрезал себе гениталии. Алтарь осквернен, и теперь его придется освящать заново.
В Верхнем городе храмы были так забиты людьми, что желающие принести жертву выстраивались в очереди. Уходили они оттуда примерно с таким настроением, как люди, которые, соприкоснувшись с чумой, омыли себя, но все же сомневаются, достаточно ли омыты. В центре храма большая Афина [43] смотрела сверху на нас всех. Ее золотые одежды блистали, плащ, украшенный знаками победы, висел у нее за спиной; мягкий свет, проникающий сквозь мраморные плитки кровли, сиял на ее лице, отчего теплая слоновая кость выглядела живой плотью; людям казалось, что она вот-вот поднимет могучую руку и, указав ею, произнесет голосом, подобным звону золота: «Вот этот человек!». Но богиня не спешила со своими откровениями.
У граждан прибавилось работы. Доносчикам было обещано вознаграждение от Города и назначен специальный совет, дабы выслушивать их. Вскоре посыпались сведения – но не об осквернении герм, а обо всех, кто, возможно, сделал, или сказал, или подумал что-либо святотатственное. Мой отец заявлял во всеуслышание, что это – подкуп подонков с целью заставить их выступить против верхов и что Перикла от этого стошнило бы.
Мы с Ксенофонтом, лишь бы сбежать от подавленного настроения в Городе, проводили свободное время в Пирее. Вот здесь всегда можно было найти что-то действительно новое: какой-нибудь богатый метек из Фригии или Египта строит себе дом в стиле своего родного города или возводит алтарь одному из богов, которого и узнать нельзя в иноземной одежде, а то и с собачьей головой или рыбьим хвостом; или же в Эмпорий доставили груз вавилонских ковров, персидской ляпис-лазури, скифской бирюзы либо, к примеру, олова и янтаря из диких гиперборейских краев, известных лишь финикийцам. В те времена наши серебряные "совы" [44] были единственной монетой, которую признавали по всему свету. На широких улицах можно было увидеть нубийцев с кусками слоновой кости в мочках, оттягивающими уши до самых плеч, длинноволосых мидян в штанах и расшитых золотыми монетами шапках, египтян с накрашенными глазами, одетых только в юбки из жесткого полотна и ожерелья из самоцветов и бус. Воздух был душен от запахов тел иноземцев, пряностей, пеньки и смолы; чужие языки звучали вокруг, словно звери разговаривали с птицами; приходилось догадываться о значении слов, глядя на говорящие руки.
Алкивиаду предъявили обвинение в тот день, когда он предстал перед Собранием, чтобы доложить о готовности флота к отплытию.
Обвинитель, имевший при себе раба, сначала попросил неприкосновенности, а затем – чтобы удалили всех непосвященных. Когда это было сделано, раб громко повторил главные Слова, которые, как он заявил, были осквернены Алкивиадом в его присутствии.
На следующий день после этого я не увидел в палестре Сократа.
Само по себе его отсутствие не показалось бы мне чем-то необычным, ибо он имел обычай разговаривать со всевозможными людьми по всему Городу. Я не беспокоился до тех пор, пока не вышел на беговую дорожку и не увидел среди зрителей группу его друзей, озабоченно переговаривающихся между собой. Мне сразу пришло в голову, что кто-то обвинил его, потому что он учил Алкивиада и отказался пройти посвящение в мистерии. Тут к остальным присоединился лекарь Эриксимах. Я не мог больше оставаться в неведении. На бегу я припал на одну ногу, наклонился, словно повредил ее, и сошел с дорожки. Наставник был занят и не подошел ко мне. Я сел недалеко от друзей Сократа и навострил уши.
По-видимому, Эриксимаха спросили, не заболел ли Сократ, – Критон озабоченно говорил, что прежде тот ничем не хворал. Он закончил словами:
– Нет, Сократ находится дома, приносит жертвы и молится за войско афинян.
А Хайрофонт добавил:
– С ним говорил его демон.
Они переглянулись. А я сидел тихонько, ухватив руками "больную" ногу, и старался быть незаметным, как гнездо на дереве.
И пока я так сидел в задумчивости, не слыша даже шума на беговой дорожке, на меня вдруг упала чья-то тень. Подняв голову, я увидел Лисия, сына Демократа. Когда я уселся там, он находился среди друзей Сократа, но почти сразу ушел.
– Я видел, ты подвернул ногу, – заговорил он. – Сильно болит? Надо перевязать тряпкой, смоченной в холодной воде, пока не распухла.
Я, заикаясь, поблагодарил его, захваченный врасплох и ошеломленный тем, что такой важный человек заговорил со мной. Поднять глаза я не решался. Видя это, он опустился на одно колено; у него в руках была мокрая тряпка, которую он, наверное, только что принес из бань. Он подождал немного, потом спросил:
– Я перевяжу?
И тут я опомнился – ведь на самом деле с моей ногой ничего не случилось. Мне стало страшно стыдно, что он это обнаружит и подумает, будто я сошел с дорожки и сел тут из слабости или боязни, как бы меня не обогнали; я сразу вспыхнул весь – и лицом, и телом, мне стало жарко, и я сидел, не в состоянии ответить что-нибудь. Я думал, моя невоспитанность вызовет у него отвращение, но он, все так же протягивая тряпку, сказал мягко:
– Ну, если предпочитаешь, перевяжи сам.
Все это время Мидас, считая, что под надзором наставника я нахожусь в полной безопасности, предавался безделью. Но тут он углядел, где я, примчался, запыхавшись, чуть ли не силой вырвал тряпку из рук Лисия и сказал, что все сделает сам. Он всего лишь выполнял свои обязанности, но мне его поведение в тот момент показалось просто варварским. Я поднял глаза на Лисия, не находя слов для извинения. Но он, не выказав никакой обиды, улыбнулся мне на прощанье и отошел.
Я был так рассержен и смущен, что оттолкнул от себя Мидаса и проворчал, мол, нога уже не болит и я могу бежать. Мои слова произвели на него очень неприятное впечатление, за что его вряд ли можно винить. По дороге домой он поинтересовался, приму ли я порку от него, или же он должен сообщить отцу. Я мог представить, какую историю он раздует из этого случая, и потому выбрал первое. Хотя он не сдерживал руку, я стерпел все молча; терпел и с ужасом думал: неужели Лисий решил, что я – неженка?
Тем временем Город, в нетерпении вытягивая шеи, дожидался, пока Алкивиада поставят перед судом. Аргивяне и мантинейцы выступили с открытым протестом: они заявляли, что пришли сражаться под началом Алкивиада, и угрожали отправиться домой. Моряки ходили мрачнее ночи, и триерархи [45] опасались бунта. Те, кто громче всех требовал суда, вдруг притихли, и на первый план выступили другие ораторы – хотя никому не было известно, кто их нанял. Объявляя себя друзьями обвиненного, они не сомневались, что он сумеет представить отличную защиту, когда будет призван к ответственности, и клонили к тому, что следует позволить ему отправиться на войну, которую он сам так талантливо подготовил. Люди ожидали, что он ухватится за эту возможность, но он выскочил перед Собранием, со страстью и красноречием требуя, чтобы его подвергли суду немедля. Никто не знал, что делать. В конце концов было поддержано описанное выше предложение.
Флот отплыл через несколько дней.
Некий друг моего отца держал в Пирее большой склад для товаров и разрешил нам, ребятам, забраться на крышу. Глядя сверху вниз на отплытие героев, мы чувствовали себя богами. Все вспомогательные суда с припасами уже ушли, чтобы собраться у Керкиры [46]; в бухте остались только ярко раскрашенные стройные триремы. Свежий летний ветер с моря вздымал их кормовые флаги; орлы и драконы, дельфины, вепри и львы вскидывали головы, когда высокие носы кораблей взбегали на волну.
И вот в Городе начались приветственные крики – они доносились до нас, словно звуки далекого оползня, и постепенно приближались по дороге между Длинными стенами; затем шум охватил Пирей; все громче звучала музыка и ритмичное громыхание щитов о бронзовые нагрудники. Наконец мы разглядели движущиеся между Стенами гребни шлемов, целую реку, длинную змею, сверкающую по весне новой чешуей, бронзой и золотом, пурпурными и алыми красками. Над ней словно плясали искры света, когда утреннее солнце вспыхивало на наконечниках многих тысяч копий; облако пыли светилось, словно истолченное в порошок золото.
На крышах вокруг нас болтали между собой чужеземцы, дивясь красоте и могуществу войска, которое Город еще сумел выслать после стольких лет войны. Двое нубийских рабов закатывали глаза, сверкая белками, и вскрикивали: "Ох! Ох!". Мы орали, пока в глотке не пересохло. Голос Ксенофонта звучал уже почти как у взрослого мужа.
Воины рассыпались вдоль воды и по набережным; они поднимались на корабли по деревянным сходням или грузились на лодки, пока борта не начинали зачерпывать воду, и переправлялись на корабли. Друзья и родственники уходящих в поход спешили проститься с ними в последний раз. Там старик благословлял сына, тут мальчик бежал к отцу с каким-то подарком, который отправила ему мать; здесь разлучались двое любовников, ибо юноша был слишком молод, чтобы отправиться вместе со своим другом. В тот день не все слезы остались дома уделом женщин. Но мне это событие представлялось величайшим из всех празднеств, лучше даже, чем Панафинеи в Великий год [47]. Как говорит пословица, сладка война для тех, кто ее не испытал.
Между стенами вновь раздался шум. Кто-то закричал:
– Да здравствуют стратеги!
Потом мы услышали стук копыт и увидели поднятую лошадьми пыль.
Первым под нами проследовал Ламах на взятой взаймы кляче, высокий и угрюмый; он здоровался со старыми воинами, когда они приветствовали его, и оставался безразличен ко всем прочим. Затем – Никий, мрачно-великолепный, с венком на седых волосах, только что после жертвоприношения; рядом с ним ехал его прорицатель со священным треножником, ножами и большой плоской чашей. Свинцовый оттенок кожи, всегда свойственный Никию, лишь прибавлял ему достоинства. Когда он проезжал мимо, люди напоминали друг другу древнее пророчество, что на Сицилии афиняне завоюют вечную славу.
Затем наступила беспокойная пауза, словно затишье перед морской бурей. А потом накатился многоголосый ропот, он слышался все ближе и напоминал шорох высокой волны, впитывающейся в каменистый пляж и волокущей за собой гальку. И тут какой-то юноша с чистым голосом вскричал, будто боевую песнь-пеан:
– Алкивиад!
Словно солнце вышло из-за облаков. Его броня была усеяна золотыми звездами, а пурпурный плащ свисал так, будто складки уложил скульптор. Рядом с ним ехал слуга и вез его скандально знаменитый щит, предмет возмущения и восторга в Городе, с эмблемой [48] в виде Эрота, размахивающего молнией.
Открытый шлем позволял видеть его лицо – профиль Гермеса и короткую курчавую бородку. Голову он держал высоко; голубые глаза, широко распахнутые и ясные, открывали, казалось, пустоту, требующую, чтобы ее заполнили. Сейчас мне представляется, что они говорили в тот миг:
"Вы хотели меня, афиняне, – я здесь! Не допрашивайте меня, не причиняйте мне вреда; я есть желание, вышедшее из ваших сердец, и если вы раните меня, то кровоточить будут ваши сердца. Ваша любовь создала меня. Не отнимайте же ее, ибо без любви я – храм, покинутый богом, куда придет мрачный Аластор, демон мщения. Это вы, афиняне, вызвали меня, духа-демона, чья пища – любовь. Питайте же меня, и я облеку вас славой и покажу вам вас самих в облике вашего желания. Я голоден, питайте меня! Слишком поздно раскаиваться".
Толпа рокотала, толпа раскачивалась, словно косяк рыбы, влекомый приливом. Потом из какой-то двери высунулась гетера и послала ему воздушный поцелуй. Он помахал в ответ, его затуманенные глаза потеплели, как море весной; и тогда приветственные возгласы зазвучали еще громче, загремели вокруг него. На лице появилась улыбка, словно у отрока, увенчанного на его первых Играх, – молодая, чарующая, охватывающая весь мир. По улице до него прошел Адонис; анемоны, растоптанные лошадиными копытами, запятнали землю, словно кровь.
Стратеги поднялись на свои корабли, сумятица постепенно унялась. Труба разнесла долгий сигнал. Возгласы смолкли, остался лишь замирающий ропот толпы, плеск моря о причалы, крики чаек да лай какого-то пса, которого встревожила наступившая тишина. Едва слышный чистый голос глашатая где-то вдалеке провозгласил обращение к богам. Оно было подхвачено на кораблях и на берегу; звуки наплывали и раскатывались, словно прибой; на корме каждого корабля вспыхивала золотая или серебряная искра, когда триерарх поднимал свою чашу, совершая возлияние. Потом над водой зазвенел пеан, а за ним крики кормчих, отдающих команды к отплытию. Затянули рабочую песню корабельные певцы, задавая ритм гребцам, поползли вверх по мачтам большие паруса, украшенные изображениями солнца, звезд и птиц. И вот так они вышли в море: команды отвечали друг другу песней на песнь, кормчие вызывали один другого на состязание. Я видел трепещущую бороду Никия, когда он воздел руки в молитве; а на корме триремы Алкивиада, уже удалившейся, – маленькую сверкающую фигурку, словно золотую статуэтку размером не больше кукольных Адонисов, которых женщины проносили по улицам.
Паруса наполнились ветром; лопасти весел поднимались и опускались все разом – крылья с ярким оперением; подобно лебедям, корабли полетели с песней к острову. Слезы жгли мне глаза. Я плакал, не в силах вынести эту красоту, как и многие другие вокруг. Счастье афинянам, если слезы, которые придут потом, будут подобны моим.
Глава пятая
Вскорости после этого я услышал новость, что Критий в тюрьме.
Некий доноситель клялся, что в ту ночь, когда были разбиты гермы, видел его – он помогал собрать шайку людей в портике Театра и давал им указания. По словам этого человека, луна светила ярко, и он мог бы назвать большинство предводителей.
Услышав это, я все удивлялся, как же мне сразу не пришло в голову, что это Критий, – ибо по молодости своей полагал, будто он один такой на всем белом свете. Когда я проходил мимо тюрьмы, снаружи клубилась небольшая толпа женщин, причитающих и рыдающих; некоторые из них были с детьми. Но я не мог поверить, что кто-то может плакать из-за Крития.
Однако мое торжество оказалось недолгим, ибо его двоюродный брат Андокид, один из обвиняемых, предложил дать полное признание в обмен на неприкосновенность. Главным в этом признании было, что он знал о заговоре, однако имеет алиби; и Критий невиновен тоже. Затем он назвал виновников, включая некоторых своих родственников. Всех их казнили сразу же – а заодно и первого доносчика, за лжесвидетельство. Некоторые говорили, что Андокид все выложил только ради собственной неприкосновенности, не рискуя предстать перед судом. Но истинной правды никто не знает и по сей день.
Мертвецы едва успели остыть, как пришла весть, что на границе появились фиванцы, готовые вторгнуться на афинскую территорию.
Мы в школе только-только расселись по местам, когда снаружи начали кричать о нападении. На улицах послышался лязг доспехов – это граждане спешили к местам сбора. Внутрь заглянул наш наставник по гимнастике и крикнул учителю, что уходит. Затем прозвучала труба глашатая с крыши Анакейона – храма Близнецов-Диоскуров, – созывая всадников. Тут Миккос, понимая, что больше не сможет управляться с нами, сказал, что ему нужно домой, и распустил нас.
Когда я прибежал, отец уже был в доспехах. Он надевал перевязь с мечом, а наш старый раб Состий тем временем принес ему копья – выбрать, какое он возьмет с собой.
Увидев меня, отец сказал:
– Раз уж ты здесь, Алексий, отправляйся в конюшню и осмотри Феникса. Проверь, почищены ли у него стрелки копыт, и присмотри: пусть на него наденут большой потник, да застегнут как следует, чтобы брюхо было прикрыто.
Когда я вернулся, на голове у него уже был шлем. Теперь он казался еще выше.
– Отец, – спросил я, – могу я сесть на Коракса и поехать тоже?
– Ни в коем случае! Вот если дела пойдут плохо и начнут созывать мальчиков твоего возраста, тогда иди, куда тебе скажут, и подчиняйся приказам. – Тут он положил ладонь мне на плечо и добавил: – Хоть мы можем оказаться в разных местах, но все равно защищать Город будем бок о бок.
Я сказал в ответ, мол, надеюсь, что не заставлю его за меня стыдиться. Он обнял на прощанье матушку, она подала ему мешок с запасом пищи на три дня. Отец наклонился, проходя под притолокой, а потом, опершись на копье, вспрыгнул на Феникса и уехал.
Город бурлил целый день. Все думали, что фиванцы получили сигнал от заговорщиков и что заговор был раскрыт в последний момент. Кое-кто утверждал, что на самом деле это идут спартанцы и предатели собирались раскрыть им ворота. Экклесия [49] проследовала в Верхний город и заседала всю ночь.
Мы с матерью работали по дому и старались поворачиваться побыстрее. Она подбодряла рабов и рассказывала, что помнит, как точно так же суетилась ее мать, когда она сама была еще ребенком. Я пошел вместе с Состием закупить провизию на случай осады. Но когда стемнело, а войска все еще стояли в ожидании, мне надоело сидеть дома, и я сказал:
– Думаю, отец был бы рад выпить вина, раз пока все спокойно.
Мать позволила мне уйти. Я сказал ей, что Мидаса она должна оставить при себе, зажег факел и пошел один к Анакейону. Во дворе храма пахло лошадьми, в темноте слышно было, как они переступают ногами и фыркают. Высоко над линией коновязей я видел Великих Близнецов-Диоскуров, покровителей всадников, – они направляли своих бронзовых скакунов к звездам. Я погасил факел, потому что здесь и без него хватало света от сторожевых костров, и начал спрашивать, где найти отца, называя его по имени, имени его отца и названию его дема [50].
Кто-то сказал, что он сейчас на посту в северо-восточном углу храмового двора. Я отправился туда и увидел отца на стене: он стоял, опираясь на копье, свет костра блестел на доспехах, и он напоминал воина, нарисованного красным на черной вазе. Я поднялся по ступеням и сказал:
– Отец, матушка прислала тебе вина.
Он ответил, что с удовольствием выпьет, только позже. Я поставил кувшин и хотел уже распрощаться, но он сказал:
– Можешь побыть здесь немного и постоять на страже вместе со мной.
Я взобрался на самый верх и остановился рядом с ним. Видно было совсем недалеко, потому что ночь выдалась безлунная. Людей рядом не было; по мере того, как холодало, они стягивались к кострам или внутрь храма. Я чувствовал, надо сказать что-нибудь отцу, но мы с ним никогда не говорили много. Наконец я спросил, ожидает ли он нападения утром.
– Видно будет, – ответил он. – Смятение в городе порождает ложные тревоги. И все же они могут попробовать – понадеются, что у нас осталось слишком мало людей для защиты стен.
Он говорил, не оборачиваясь ко мне, вглядываясь в темноту, – так всегда делают люди в ночном карауле, чтобы огонь костров не притуплял зрение.
Чуть позже я спросил:
– Сколько времени потребуется войску, чтобы завоевать Сицилию?
– Одни боги знают, – вздохнул он.
Я был удивлен его ответом и надолго умолк. Наконец он нарушил тишину:
– Сиракузцы не сделали нам ничего плохого и ничем нам не угрожали. Война у нас была со спартанцами.
– Но, – возразил я, – когда мы побьем сиракузцев и захватим их корабли, гавань и золото, разве не сумеем мы тогда легко покончить со спартанцами?
– Возможно. Но в прежние времена мы сражались только для того, чтобы отбить варваров, или защитить Город, или же ради справедливости.
Услышь я такие слова от кого-то другого, счел бы их проявлением слабодушия, ибо привык к разговорам, что мы сражаемся, дабы возвеличить Город и сделать предводителем всех эллинов. Но сейчас, глядя на него, стоящего в своей броне, я не знал, что и думать.
А он продолжил:
– На третий год войны, когда за тобой еще ходила нянька, лесбийцы, подвластные нам союзники, восстали против нас. Их подавили без особых трудностей, и Собрание, обсуждая их судьбу, сочло разумным покарать их для примера другим: мужей военного возраста предать мечу, а всех прочих продать в рабство. И на Лесбос была послана галера с этим постановлением. Но в ту ночь мы не могли уснуть, а кто уснул – просыпался, ибо нам слышались крики умирающих, женские вопли и детские рыдания; они звучали у нас в ушах не смолкая. Утром мы все вернулись на Собрание; и когда мы отменили первое постановление, то пообещали награду гребцам второй галеры, если они догонят и перехватят первую. Им это удалось, ибо первая двигалась так медленно, словно на веслах ее сидели больные люди, – до того угнетало их порученное дело. Когда их догнали в Митилене, уже на самом Лесбосе, афиняне перевели дух с облегчением так же, как и лесбийцы; они радовались вместе и делили друг с другом вино. Но в прошлом году жители Мелоса, ничем нам не обязанные, ибо они дорийцы, решили платить дань не нам, а своему родному городу. Ты знаешь, что мы с ними сделали.
Я набрался смелости заметить, что он никогда мне об этом не рассказывал. Он ответил:
– Когда будешь совершать жертвоприношение, попроси богов, чтобы такого никогда не выпало на твою долю – ни перенести такое, ни самому сотворить.
Я и не догадывался никогда, что его могут тревожить такие мысли. Кара на Мелос обрушилась по настоянию Алкивиада.
– Боги наказывают человека за гордыню, – сказал отец. – Так почему мы должны думать, что они будут поощрять ее у государства?
Тут явился другой муж – сменить отца на страже. Мы подошли к одному из костров, где отец разделил вино с несколькими друзьями, а потом представил им меня.
– Малыш еще, по рукам и ногам видно, что пока не вырос, – заметил он.
Я чувствовал, он оправдывается за меня, ибо любому было понятно, что я никогда не вырасту таким крупным, как он. Я вспомнил, что он хотел выбросить меня, когда я родился, и потому поспешил распрощаться, как только это позволила вежливость.
Я разжигал свой факел от костра, горящего у статуи Близнецов, и тут ко мне подошел человек, только что спустившийся от храма. Он был без шлема, и когда факел разгорелся, я увидел, что это Лисий. Я обратил на него внимание раньше, когда он упражнялся с другими всадниками; в броне он выглядел прекрасно.
– Нашел ли ты своего отца, сын Мирона? – спросил он.
Я поблагодарил его за заботу и сказал, что нашел. Он постоял еще немного, я даже подумал, уж не подошел ли он специально поговорить со мной, но он лишь сказал: "Хорошо" и пошел обратно вверх по ступеням.
Назавтра вести о противнике не подтвердились, и воины разошлись по домам. Следующая буря, сотрясшая Город, была опять связана с Алкивиадом.
Не успел его парус скрыться за горизонтом, как изо всех щелей полезли доносчики. Историю элевсинского пира рассказывали во всех подробностях. Нашли даже женщину, говорить о роли которой было бы делом нечистым (пусть возрожденные догадываются – они будут правы), и заставили дать показания. Теперь, когда лицо Алкивиада исчезло из виду и голос не звучал рядом, все вдруг прозрели и увидели, что доверять войско такому человеку – просто безумие. Так что вдогонку за ним отправили правительственную галеру "Саламиния" с поручением привезти его и его друга Антиоха, кормчего, который также обвинялся. Однако их не следовало арестовывать, иначе снова начались бы неприятности с аргивянами и моряками. Триерарх "Саламинии" должен был вежливо предложить ему явиться на суд, которого он сам просил, и сопроводить обратно на его собственном корабле.
Я помню, как в день, когда было принято это решение, вошел в дом и увидел отца – он стоял возле полок на стене и держал в руках раскрашенную чашу для вина. Этой чашей он пользовался редко – она была очень ценная, одно из самых лучших изделий мастера Вакхия. Внутри ее украшал рисунок, красные фигуры по черному полю: Эрот, преследующий зайца; на одной стороне было написано "МИРОН", на другой – "АЛКИВИАД". Отец вертел чашу в руках, словно не знал, на что решиться; однако, увидев меня, он поставил ее обратно на полку.
В Городе не говорили ни о чем, кроме Алкивиада. На улицах, в палестрах и на рынках пересказывали старые басни о его дерзости и бесчинствах. Те, что прежде выступали за него, сейчас только диву давались, как он мог стать таким, если его воспитал столь замечательный человек – сам Перикл! Ответ был всегда один и тот же: его испортили софисты. Они взялись за него совсем мальчишкой, увлеченные его красотой и быстрым умом; они наполнили его тщеславием, научили нечестивому свободомыслию (здесь кто-нибудь принимался цитировать аристофановские "Облака"), пока он не осмелился состязаться в логике с самим Периклом. Далее же, получив от них то, что могло ему сослужить службу, осмеял все их разговоры о мудрости и добродетели и ушел.
Я слушал с болью в сердце, ожидая, что вот-вот прозвучит имя, до которого рано или поздно доходил разговор. Общеизвестно, говорили люди, что он еще зеленым юнцом завоевал любовь Сократа, и тот мечтал сделать из него нового, еще более великого Перикла; ходил за ним на его разнузданные пиры, укорял на глазах друзей и утаскивал оттуда, как раба, – из ревности, не желая, чтобы юноша хоть на час исчез из виду… Я воспринимал этот позор, как свой собственный. Не имея возможности остановить мужей, я заговорил с Ксенофонтом. Мы с ним скребли друг другу спины, очищая тело от налипшего после борьбы песка и масла; обрабатывая его деревянным скребком-стригилем, я заметил, что не вижу никакого преступления, если кто-то старается сделать из плохого человека хорошего. Он засмеялся через плечо:
– Скреби покрепче, никогда ты не скребешь как следует. Должен отдать тебе должное, Алексий, ты всегда верен своим. Ладно, будем к нему справедливы: все эти люди сами были без ума от Алкивиада, а теперь ищут козла отпущения. Но человек, подобный Сократу, который бродит целый день по городу, ловит людей на ошибках и поправляет их, не может позволить себе валять дурака. Знаешь ли ты, что еще юношей Алкивиад однажды во время борьбы пустил в ход зубы, когда понял, что проигрывает? Случись такое в Спарте, побили бы не только его, но и его любовника тоже – за то, что не научил быть мужчиной.
Я был настолько подавлен, что даже не клюнул на этих спартанцев. А он продолжал:
– Загляни в лавку, где продают благовония, и увидишь молодых друзей Сократа, болтающихся там часами, пререкающихся из-за словесных тонкостей и толкующих про свои души; вроде Агафона, который, как мне кажется, будет в восторге, если кто-то по ошибке примет его за девушку.
– Он – увенчанный трагик, – заметил я. – Зачем смеяться над человеком, который останется бессмертным, когда меня или тебя никто и не вспомнит? А Сократа ты когда-нибудь видел в лавке благовоний? Я – ни разу.
– Полагаю, пройдет изрядно времени, пока мы снова его увидим хоть где-нибудь. Ставлю десять бабок против одной, что он не покажется в колоннаде по крайней мере неделю. Принимаешь заклад?
– Да.
Тут он заметил, что я перестал скрести, и оглянулся.
– Мир, мир, – сказал он с улыбкой, – а то нам придется очищаться снова.
Кто-то сказал, что в палестре Таврия будет бороться атлет Автолик, и мы спросили у наших педагогов, нельзя ли нам пойти посмотреть. Они согласились пройти через палестру, но не останавливаться. Оказалось, что Автолик свою схватку уже закончил и теперь отдыхает; вокруг толпилось множество людей, восхищающихся его внешностью и ожидающих, пока он снова выйдет бороться. Некий скульптор или, может, художник, сидел рядом и делал с него набросок. Атлет привык ко всему этому и не обращал внимания. Мы протискивались через толчею, как вдруг на другом конце стало тихо, а потом раздался ропот разгневанной толпы. У меня похолодели руки. Я понял, кто появился.
Он был один. Мне не пришло в голову, что он сам избегал обычной компании, я подумал, что они все бросили его. Но Критон, который наблюдал за борьбой, сразу же направился к нему и пошел рядом; и, ко всеобщему удивлению, сам Автолик приветствовал его, но, поскольку был обнажен и весь в песке, не стал покидать борцовской площадки. Все прочие отступали при его приближении или поворачивались спиной; когда он оказался неподалеку, кто-то засмеялся.
Что касается меня, то я не был ни настолько смелым, чтобы выйти вперед, ни настолько трусливым, чтобы отступить. Когда прочие, отойдя назад, оставили меня открытым всем взорам, я едва нашел силы поднять голову. Я надеялся самое большее увидеть, как он взглядом своим заставляет всех прочих опустить глаза – так, говорили, он смотрел на врагов при отступлении под Делием. Но он, проходя мимо меня, говорил, как если бы беседовал у себя дома:
– По его мнению, можно обучить методу, но не истинному пониманию его. Если бы речь шла о математике…
Больше я ничего не услышал. Мидас окликнул меня, я повернулся, чтобы идти – и тут увидел Ксенофонта, который стоял у меня за спиной. Сначала он не заметил меня, потому что провожал Сократа глазами. Я ждал, что он заплатит мне проигранный заклад, при проигрыше он всегда ведет себя честно. Но он, все еще глядя мимо меня, пробормотал:
– В тот день, когда боги пошлют мне беду и опасность, пусть они пошлют мне заодно мужество этого человека.
По дороге домой мы поднялись в Верхний город и посмотрели оттуда на гавань. Какой-то корабль уходил; день был ясный, и мы видели синий рисунок на парусе.
– Это "Саламиния" с ее синей совой, – сказали мы в один голос.
Галера быстро удалялась, торопясь в сторону Сицилии.








