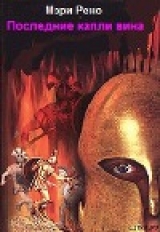
Текст книги "Последние капли вина"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Глава восемнадцатая
Корабли, которые мы обнаружили, направлялись на Хиос; их встретили, разгромили и загнали на берег, но Алкивиад со своим другом, кормчим Антиохом, все равно захватил остров. Истории о его воинском искусстве и отваге доходили до нас каждый день. Среди горячих разговоров на Агоре можно было услышать, что мы, когда изгоняли его, выбросили вон куда большее, чем думали, и что перед отплытием на Сицилию он просил суда, как человек ни в чем не повинный. Ходил также слух, что ныне он очень вовремя отправился в море, ибо ненависть царя Агиса раскалилась докрасна и в Спарте Алкивиад никогда не ложился спать без охраны.
Но вот однажды, когда я заглянул к Лисию, он сказал:
– Входи, Алексий, повидайся с моим отцом и поговори с ним немного. Говори о лошадях, о чем угодно, только не о войне. Сегодняшние новости задели его куда сильнее, чем я мог ожидать, как они ни плохи.
Я уже походил по Городу и заметил то же самое у других стариков. Я зашел в дом и сделал все, что мог. Демократ принял меня приветливо, но выглядел он на пять лет старше и не желал говорить ни о чем, кроме новостей.
– Я чувствую себя сегодня так, – говорил он, – словно увидел, как Персей продает Андромеду дракону за мешок серебра. Спарта заодно с мидянами! И мне пришлось дожить до такого, чтоб узнать, как кровный потомок Леонида вступает в переговоры с Царем Царей и отдает ему Ионию за деньги! Неужели не осталось чести под солнцем?
– Им нужны деньги, чтобы платить гребцам, – отозвался я, словно вызвался защищать спартанцев. – А грести сами они не могут, их слишком мало, даже если бы они пересилили свою гордыню и опустились до такого; и, наконец, они не могут доверить свои жизни илотам.
– Когда мой отец был еще мальчиком, – продолжал старик, – его отец повез его в Фермопилы после битвы, чтобы поучиться у павших, как надлежит умирать мужам. Он часто описывал мне все: друзья лежали рядом там, где живой стоял, защищая тело сраженного, как делалось в гомеровские времена; и те, что бились, пока оружие не сломалось в руках, лежали, вцепившись в мертвых варваров зубами и ногтями. А теперь они докатились до такого! Как спокойно вы, молодые, воспринимаете все!
Я ему посочувствовал, но в то время меня куда больше заботил его сын. Кости Лисия срастались хорошо; кроме шрама на лбу, бой с Состратом не оставил меток на его теле. Но он перестал упражняться в панкратионе. Какое-то время он это от меня скрывал; другим упражнениям он уделял достаточно времени, чтобы поддерживать состояние тела, – но часто он говорил мне, что идет в палестру, а находил я его в колоннаде, а иногда не мог найти вовсе. Когда я разобрался, как обстоит дело, думаю, это меня не очень удивило. Я вспоминал, как он отстранился, когда Полимед и прочие обхаживали меня – он никогда не опускался до низких соперников. А мне он ничего не говорил, чтобы не показалось, будто мой истмийский венок вызывает у него пренебрежение. Он был столь же благороден, как и всегда, но менее открыт, чем раньше. Часто впадал в молчание, и когда я спрашивал о его мыслях, отвечал кратко.
Теперь мы были не так загружены в Страже, потому что война велась в основном на море. Я нашел свободного человека, который согласился работать на усадьбе за небольшую плату и долю в урожае, но высаживали мы только быстрорастущие растения.
Одним прекрасным летним утром в Городе я клал последние мазки на наш дом, который задумал побелить. Я занимался этим по утрам, с рассвета до того времени, когда появлялись люди; ибо хотя теперь каждый знал, что его сосед своими руками делает рабскую работу, никому не хотелось заниматься ею на глазах у посторонних. И все же сейчас, когда дело было завершено, я ощущал удовольствие; и моя мать тоже, ей особенно нравился двор, где я окрасил верхушки колонн красным и синим цветом. Я выкупался, причесал и уложил волосы и надел чистый гиматий; в руках у меня был посох, которым я пользовался, выходя в Город, – красивый, из черного дерева, раньше он принадлежал отцу. После грязной работы мне приятно было чувствовать себя чистым и аккуратным, и я задержался в портике, чтобы кинуть последний взгляд на дело рук своих. А когда потом повернулся к улице, то увидел, как к нашему дому приближается неизвестный.
Этот костлявый старик, видимо, был высокого роста, пока держался прямо; он шел с частыми остановками, опираясь на ветку, срезанную в лесу. Одна нога у него была повреждена и завязана грязной тряпкой. Седые волосы торчали неопрятными клочьями, как будто он подрезал их ножом, а тело прикрывала короткая туника из суровой неотбеленной ткани – в таких ходят бедные ремесленники или рабы. Он был достаточно грязен, чтобы оказаться либо тем, либо другим, но держался не как ремесленник и не как раб.
Он смотрел на наш дом и направлялся прямо к нему; и, видя это, я почувствовал, как пропитывает меня какой-то незнакомый страх; он показался мне вестником, несущим худые новости. Я сделал несколько шагов вперед из портика, ожидая, пока он заговорит, но он, увидев это, лишь впился в меня глазами. Отощавшее костлявое лицо с месячной щетиной обветрилось почти дочерна; и серые глаза, резко выделявшиеся на этом темном лице, казалось, пронизывали насквозь. Я хотел уже окликнуть его и спросить, кого он ищет. Но что-то остановило меня – тогда я не мог понять, что именно, понял только, что не должен ни о чем спрашивать.
Его глаза соскользнули с меня и прошлись по двору. Потом он снова посмотрел мне в лицо. От его молчаливого ожидающего взгляда у меня по телу побежали мурашки.
И наконец он сказал:
– Алексий.
И тогда ноги сами понесли меня на улицу, а голос мой произнес:
– Отец.
Не знаю, как долго мы там стояли, полагаю, всего несколько мгновений. Я проговорил: "Войди!", едва ли сам себя понимая; а потом, немного очнувшись, возблагодарил богов за его спасение. На пороге он зацепился хромой ногой. Я протянул руку, чтобы поддержать его, но он быстро выпрямился сам.
Он стоял во дворе, оглядываясь вокруг. Я вспомнил Лисикла, и теперь мне показалось странным, что я тогда воспринял его рассказ без всяких сомнений, хоть и понимал, что этот человек сломлен, а повествование его путается и блуждает. Вспомнить о нем меня заставил руки отца, огрубевшие и узловатые, с грязью, запекшейся в трещинах и шрамах. Мой разум застыл. Я ощупью искал слова, чтобы заговорить с ним. Мне приходилось чувствовать эту болезненную немоту на войне при виде отважного врага, лежащего передо мной в пыли; но в молодости человек не узнает таких мыслей, да и не должен он понимать их. Я снова повторил, другими словами, то же обращение к богам, что уже произнес раньше. Я говорил, что мы уже отчаялись надеяться на такое счастье. Потом, понемногу приходя в себя, сказал:
– Я войду прежде тебя, отец, и сообщу матери.
– Я сам ей сообщу, – возразил он и похромал к двери. Двигался он довольно быстро. В дверях остановился и снова взглянул на меня. – Не думал, что ты вырастешь таким высоким.
Я что-то пробормотал в ответ. Я действительно заметно вырос, но лишь из-за его согнутой спины глаза наши оказались на одном уровне.
Я дошел до двери вслед за ним – и замер. Сердце у меня колотилось, колени ослабели, а все органы словно обвисли внутри. Я слышал, как он входит в женские комнаты, но не слышал, чтобы кто-нибудь заговорил. Я ушел; наконец, через некоторое время, показавшееся мне уместным, я прошел в общую комнату. Отец сидел в кресле хозяина дома, опустив ногу в миску с водой; поднимающийся от нее пар пахнул травами и гноящейся раной. Перед ним на коленях стояла мать с тряпкой в руках, омывая больное место. Она плакала; слезы стекали по щекам, а руки у нее были заняты, и она не могла вытереть глаза. Только теперь мне пришло в голову, что надо было обнять его.
В руке у меня все еще был посох. Я вспомнил, в каком углу взял его в первый раз, и поставил туда.
Подойдя к ним, я спросил, как он добрался домой. Он сказал, что приплыл из Италии на финикийском корабле. Нога у него распухла вдвое от обычного, из нее сочилось зеленое вещество. Когда мать спросила, согласился ли хозяин корабля везти его в долг, он ответил:
– Им не хватало гребца.
– Алексий, – обратилась мать ко мне, – посмотри, готова ли баня для отца и не забыл ли чего Состий.
Я уже уходил, когда услышал приближающиеся звуки, и у меня перехватило дыхание – это не Состий, это я сам забыл кое о чем.
Вошла маленькая Харита – она пела и щебетала. В руках она несла раскрашенную глиняную куклу, которую я привез ей из Коринфа, и разговаривала с ней, а потому вышла на самую середину комнаты, пока наконец посмотрела вверх. Потом, наверное, учуяла тяжелый запах, ибо глаза у нее стали круглыми, как у птицы. Я подумал: "Сейчас, когда он видит, какая она хорошенькая, наверняка радуется тому, что создал".
Он наклонился вперед в своем кресле; мать сказала:
– Вот наша маленькая Харита, которая слышала столько рассказов о тебе.
Отец сдвинул брови, но не выглядел ни сердитым, ни удивленным, и я перевел дух. Он протянул руку и сказал:
– Иди сюда, Харита.
Сестренка осталась неподвижной, и я шагнул вперед, чтобы подвести ее к нему. Но стоило мне до нее дотронуться, личико покраснело, уголки рта опустились, и она спрятала лицо в подоле моего гиматия, плача от испуга. Я взял ее на руки и понес к отцу, но девочка обхватила меня за шею и заорала. Я не решался взглянуть на него. Мать принялась объяснять, что девочка стеснительная, робкая и плачет, когда видит незнакомое лицо; в первый раз за всю жизнь я слышал ложь из ее уст.
Я унес Хариту и пошел заглянуть в баню. Бедный старый Состий в смятении ничего не сделал толком; я нашел бритвы, гребень и пемзу, принес чистые полотенца и хитон отца, который мать давно спрятала.
Она сказала:
– Я пойду с тобой, Мирон; Состий слишком неуклюж, чтобы услужать тебе сегодня.
Но он ответил, что справится сам. Я уже заметил, что в волосах у него вши. Он вышел, опираясь на палку, которую все время держал рядом с собой. Когда мать убрала тряпки и миску, она быстро заговорила о том, как отец слаб, чем ему надо питаться и какого лекаря пригласить лечить ногу. А я думал о бедности, которую мы переживали, и мне казалось, что у меня сердце из камня, если я не плачу о нем, как плачет она.
– По крайней мере, надеюсь, он позволит мне подстричь ему волосы и бороду, – сказал я. – Думаю, он не захочет, чтобы брадобрей увидел их такими, как сейчас.
Когда я вошел, лицо у отца сделалось таким, словно он собирался выгнать меня; но в конце концов поблагодарил и велел обрить ему голову, ибо никак иначе в порядок ее не приведешь. Взяв бритву, я зашел сзади – и тут увидел его спину. Евмаст, спартанец, склонился бы перед этим зрелищем и признал себя начинающим учеником. Не знаю, чем его били; если плетью, то в нее наверняка было ввязано железо или свинец. Шрамы заходили со спины на бока.
При этом зрелище я ощутил весь гнев, какой может испытать сын.
– Отец, если знаешь имя человека, который сотворил это, назови мне. Я могу когда-нибудь повстречать его.
– Нет, – ответил он, – я не знаю его имени.
Я работал в молчании. Потом он сказал мне, что его забрал из каменоломни надсмотрщик-сиракузец, чтобы продать и что-то заработать. Он менял хозяев несколько раз.
– Но это, – заметил он, – может подождать.
Голова у него была такая грязная и запаршивевшая, что меня мутило; к счастью, я стоял у него за спиной и он этого не видел. Закончив, я умастил его своим благовонным маслом. Это был хороший товар из Коринфа, подаренный мне Лисием; я сам пользовался им только перед пиром.
Он принюхался и проворчал:
– Это еще что? Я не хочу пахнуть как женщина.
Я извинился и отставил масло. Когда он оделся и хитон скрыл торчащие ребра и впалые бока, вид у него стал почти благопристойный; теперь ему можно было дать чуть больше шестидесяти.
Мать наложила ему на ногу сухую повязку и поставила на стол еду. Я видел – он с трудом сдерживается, чтобы не наброситься на пищу как волк, но насытился он скоро. Потом начал задавать мне вопросы об усадьбе. Я старался сводить концы с концами, как мог, но, оказалось, он совсем не представляет себе состояния Аттики; он, похоже, полагал, что я могу отдавать хозяйству все свое время. Я уже собирался объяснить, что имею и другие обязанности, как вдруг, словно в ответ на мои мысли, над Городом разнесся звук трубы.
Я вздохнул и поднялся.
– Прости, отец; я надеялся, что у меня будет возможность дольше побыть с тобой. Вот уже несколько дней набегов не было.
Я выбежал, крикнув Состию, чтобы приготовил лошадь; затем, вернувшись в юбочке для верховой езды, снял со стены доспехи. Я видел, как он следит за мной глазами; надеюсь, после его слов о масле теперь я ему показался больше похожим на мужчину; но одновременно мысли мои были заняты набегом: я думал о путях, по которым могли заявиться спартанцы, о том, где мы можем их обойти. Мать, привыкшая уже к таким тревогам, без лишних просьб вышла приготовить мне пищи с собой. Теперь она вернулась и, заметив, как я вожусь с перекрутившимся плечевым ремнем, подошла помочь. Отец спросил:
– А где Состий? Он должен находиться здесь для этого дела.
– В конюшне, отец, – ответил я. – Мы потеряли конюха.
Рассказывать ему сейчас все по порядку – слишком долгая история. Тут к двери подошел Состий и доложил:
– Твоя лошадь готова, хозяин.
Я кивнул и повернулся к отцу – попрощаться. Он спросил:
– Как Феникс?
И вдруг я вспомнил, как он сам надевал броню по тревоге на том же самом месте, где сейчас стою я. Мне показалось, будто прошло полжизни.
– Боюсь, отец, он переработался, – отвечал я, – но я как мог старался сохранить его для тебя.
Я бы с удовольствием остановился, подумал и сказал еще что-нибудь; но труба звала, а отряду еще никогда не приходилось дожидаться меня. Я поцеловал мать; затем, видя его взгляд и радуясь, что на этот раз не забыл своего долга, обнял его перед уходом. Странный он был на ощупь – костлявый и жесткий. По-моему, я не обнимал его с тех самых пор, как умерла моя бабушка, – только на причале, когда он отправлялся на Сицилию.
Дозор нам достался нелегкий, и мы отсутствовали несколько дней. Стояла палящая жара, холмы выгорели досуха, мухи и оводы окружали лагерь и терзали лошадей. Мы спасли долину с двумя-тремя усадьбами, но в погоне был убит юный Горгион. Тяжко было видеть его, всегдашнего шутника, умирающим в муках; его как будто ошеломило, что с ним случилось такое, от чего нельзя отшутиться. Лисий, долей которого было приносить скорбные вести отцам убитых сыновей, казался угнетенным этой обязанностью еще больше, чем всегда. Из-за зноя мы не могли привезти домой тело, пришлось предать его огню на склоне холма. Было так жарко, что языки пламени стали невидимы только рябил воздух и тело дымилось и трещало. Когда оно догорело, Лисий спросил:
– Был у него любовник?
Я ответил, что нет, только подружка, маленькая флейтистка.
– Я ей отвезу какую-нибудь его вещь на память, – добавил я. – Думаю, ей захочется сохранить что-то.
– Зачем? – возразил Лисий. – Что у них было – то было.
Когда мы вернулись, он зашел выразить почтение моему отцу, и они немного поговорили о войне. Наконец отец спросил:
– Алкивиад, я полагаю, все еще среди спартанцев? Трудная жизнь теперь должна ему казаться легкой.
– Уже нет, – отвечал Лисий. – Он теперь от нее отдыхает – он сейчас в Персии.
Мы получили это известие уже несколько месяцев тому назад, но я не упоминал о нем – не пришлось к слову. Отец спросил, уставясь на Лисия:
– В Персии? Как его захватили? Чем он занимался, что попал в руки к варварам?
– Ну-у, – протянул Лисий с улыбкой, – попал он, как кот в чашу со сливками. В Спарте для него сделалось слишком жарко: царь Агис издал указ о его казни. Но, говорят, сатрап Тиссаферн о нем чрезвычайно высокого мнения, а персидские князья рядом с ним выглядят тускло, как петухи рядом с фазаном.
– Вот как?.. – пробормотал отец и перевел разговор на другую тему.
В тот вечер, проходя через двор, я заметил его там – он бросал какие-то битые черепки в колодец. Назавтра я обнаружил у ограждения колодца маленький осколок. Рисунок на нем выглядел так изящно, что я не поленился нагнуться; там был нарисован бегущий заяц и протянутая рука. Это был обломок чаши для вина работы Вакхия.
Если я и догадывался, что обстановка в доме станет теперь нелегкой, то старался отгонять такие мысли, ибо считал постыдным делом дуться на человека, который столько выстрадал. Но надолго выдержки моей не хватило. Первой причиной неприятностей оказалась маленькая Харита. Будь она на год-другой старше, ей удалось бы что-то объяснить. Но девочку воспитали на историях о красоте ее отца и его доблестных деяниях; я часто видел, как она показывает пальчиком на какого-нибудь героя на вазе или на стене, а то даже на бога, и лепечет: "Дада". А теперь вместо красавца и героя ей показывают уродливого и сурового старика; думаю, никогда потом у нее не восстановилось прежнее доверие к людям. Через добрых четырнадцать лет после этих событий, когда я устроил ей обручение с прекрасным человеком, она невозмутимо слушала все мои рассказы о нем, пока не увидела его своими глазами; я даже изрядно злился на нее – пока не припомнил это время. Отец как будто не сомневался, что его письмо пропало, и наверное отнесся бы к ней снисходительно, если бы она день ото дня не обижала его своим отвращением. Это было плохо само по себе, но дело еще усугубляла радость, с какой она кидалась ко мне. Ее невозможно было заставить сказать ему "Дада", и это тем сильнее бросалось в глаза, что меня она звала "Лала", едва научившись лепетать. Я сразу начал отучать ее – и слышал, как мать делает то же самое.
Я понимал, что по сравнению с матерью могу считать себя счастливцем. Казалось, следовало ожидать, что после стольких мук и лишений простые удобства жизни покажутся ему благословением; но он не мог снести малейших отступлений от обычаев нашего прежнего быта. Мать вынуждена была объяснять ему, в чем дело, почему так не хватает у нас рабочих рук. Он вроде бы и соглашался, но примириться не хотел. Она мне никогда не жаловалась и вообще всего лишь раз затронула эту тему: когда попросила не упоминать, что за время его отсутствия я научил ее читать. Она училась легко и быстро, уроки эти были для меня радостью – и для нее, думаю, тоже. Сейчас она могла даже читать поэзию, хоть и не сложную, и я понемногу начал обучать ее письму. А теперь нам редко предоставлялась возможность хотя бы просто поговорить, потому что он не переносил, если она пропадала из виду, и вечно начинал ее звать, когда она отлучалась надолго.
Я старался гнать от себя эти думы, ибо они причиняли мне боль и я огорчался, что не могу владеть собственными мыслями. Через некоторое время я заметил, что не могу смотреть, как она перевязывает ему ногу вечером, перед тем как лечь спать, и завел привычку уходить из дому и бродить по улицам.
Даже Лисию я не мог рассказать многого. И не только потому, что догадывался, какими недостойными покажутся ему мои чувства. Имелась и другая причина. Последнее время мы с ним были не так счастливы, как прежде. Я мог понять, что после Игр он должен быть в подавленном состоянии; но когда в нем вдруг обнаружилась ревность, меня это просто озадачило. Я был слишком молод и еще не научился понимать такие вещи; я знал лишь, что не давал ему повода для ревности даже в самых мимолетных своих мыслях. Меня до глубины души обижало, что он может подозревать во мне такую низость – будто я переменился к нему из-за его поражения; но упрекнуть его в этом казалось мне еще большей низостью. В прошлые времена никто не умел достойнее него воспринимать поражение, нанесенное ему лучшим; и у меня в голове не укладывалось, почему так глубоко задело его, что он побит худшим. Я ощущал только собственные обиды – как глупый крестьянин, который, когда землетрясение сбросило крышу с храма, жалуется, что у него разбился горшок.
Пойди я со своими тревогами к Сократу, он бы не только помог мне, но нашел способ помочь и Лисию тоже. Но все это у меня в голове перепуталось с другими делами, такими, о которых я не мог сказать никому.
Дед Стримон первый раз навестил отца, когда я был на в дозоре со Стражей. С тех пор как я достиг возраста, он мало тревожил нас, так что я и думать о нем забыл. И только постепенно стало проявляться зло, причиненное им. Сперва отец вытащил все свитки с деловыми записями и счетами по усадьбе – и не нашел к чему придраться в них, кроме разве ошибок. Нетрудно было догадаться, откуда он получил ложные сведения, и вскоре я это дело прояснил, но по-прежнему видел, что он недоволен. И снова, пока меня не было в Городе, к нему заглянул Стримон. Сразу после этого отец обвинил меня, что я общаюсь с дурной компанией. Как только прозвучало имя Федона, я тут же понял, кого надо благодарить.
– Отец, – сказал я, – Федон – с Мелоса. Ты яснее меня понимаешь, что он не сам выбрал себе судьбу. Происхождение и воспитание у него не хуже нашего, и сейчас он живет, как тому подобает. Ведь не станешь ты осуждать пленника за жребий, который выпал ему на войне?
Видно, я задел его за живое. Он рассердился и, упомянув Сократа, сказал о нем такое, чего из уважения к мертвому я не напишу здесь даже через столько лет.
А еще через несколько дней я застал мать за ткацким станком всю в слезах. Рядом никого не было, и я умолял ее рассказать, что случилось. Но она только покачала головой и ничего не ответила. Я подошел к ней ближе, так что одежды наши задевали друг друга, а на лице я ощутил легкое прикосновение ее пышных волос. Мне хотелось обнять ее, но внезапно возникло смущение; я сдержал готовый вырваться вздох и молча застыл. Она не поворачивалась ко мне, пытаясь скрыть слезы. Наконец я промолвил:
– Матушка, что же мы будем делать?
Она снова покачала головой и, чуть повернувшись, положила руку мне на грудь. Я накрыл ее ладонью и через ее пальцы почувствовал удары своего сердца. Она начала было мягко высвобождать руку – и вдруг быстро и резко оттолкнула меня. Тут и я услышал снаружи стук отцовской палки. Я стоял, словно оцепенев; мне невыносимо было оставаться, но и убежать я не мог пока не услышал ее голос: она отсылала меня с каким-то поручением по дому. Выходя, я услышал, как он резким тоном спрашивает, чем она обеспокоена.
После этого я стал все чаще замечать на себе его взгляд – я двигался по комнате, а он следил за мной. Я догадывался: он думает, будто мы с нею им недовольны и что-то затеваем вместе. Дома было плохо, и я почти все время проводил в Городе. Однажды, прогуливаясь по колоннаде, я встретил Хармида. Теперь я уже так далеко ушел от того зеленого юнца, за которым он ухаживал, что мог получить чисто взрослое удовольствие от беседы с ним, ибо за его легкой манерой разговора таился отточенный ум. Мы пару раз прошлись туда и обратно, пока он рассказывал, как Сократ упрекал его, что он тратит свой разум на пустую болтовню, хотя мог бы использовать способности с пользой для забот Города…
К сожалению, Лисий увидел нас с Хармидом вместе и воспринял это очень болезненно. Я с негодованием защищался. Но, должен сказать, к себе я был более чем справедлив, к нему же – менее, ибо мне быстро стало ясно, что Хармид по-прежнему небезразличен к моей персоне и что выискивал он меня не ради разговоров о политике.
А этого мне с головой хватало дома. Нога у отца заживала, он начинал понемногу бывать в Городе и видеться со своими старыми друзьями, а также и с новыми, которые меня немало тревожили. Вся его умеренность пропала начисто; он теперь высказывался о демократах с таким озлоблением, какого я никогда не слышал в стенах нашего дома прежде.
Я понес свои заботы к Лисию, выбрав момент мира между нами. Он ответил:
– Дай время, пройдет. Неужели тебя удивляет, что сейчас ему представляется хорошим только прошлое? Человек, старея, не понимает, что сохранившаяся в его памяти сладость была сладостью молодости и силы.
– Лисий, но ему ведь всего сорок пять лет!
– Дай время, пройдет. Он не может испытывать ничего, кроме злости, когда думает о том, как погибло Войско. Простолюдины позволили Алкивиаду очаровать их и вовлечь в предприятие, в котором лишь он один мог преуспеть. А потом они позволили его врагам запугать себя и отобрали у него командование. Я все еще считаю, что единственный выход – лучше учить людей; но я не заплатил такой ценой, как твой отец.
В тот день мы были счастливы и более обычного нежны друг с другом, как часто случалось у нас в промежутках между ссорами.
Но дома вновь и вновь после дождя возвращались облака. Я, который крепко спал даже в ночь накануне Игр, последнее время подолгу лежал без сна, опасаясь сам не знаю чего, понимая лишь, что дела не стоят на месте, но поворачиваются отнюдь не к лучшему. Я не мог понять сам себя. Как-то даже, после очередной ссоры с Лисием, я отправился в веселый дом, чего никогда не делал, кроме того единственного раза в Коринфе. Но там мне стало тошно сверх всяких разумных причин.
Однажды вечером, уже после ужина, я услышал, как отец во всю глотку зовет Состия, а тот не отвечает. У меня душа оборвалась; я выскользнул из дому, догадываясь, где его искать. Конечно же Состий валялся пьяный в винном погребе. Я тряс его, ругал, но не мог привести в чувство. С тех пор, как он постарел, это стало случаться: когда – раз в два месяца, когда каждый месяц. Конечно, я всегда колотил его после, но, возможно, не так сильно, как следовало. Уж очень он был добросердечный и старательный, и нас любил. Я не знал тогда, что он начал попивать в последнее время, пока я воевал. Он боялся отца, и от этого сделался неуклюжим хуже прежнего; думаю, он пил, чтобы хоть как-то подбодриться. Итак, я пытался поднять его на ноги, но тут нас нашел отец и заявил ему:
– Я предупреждал, что тебя ждет, если снова увижу тебя пьяным. Сам виноват, пеняй на себя.
Он ударил Состия с такой силой, какой я не ожидал в нем, и запер в пустом сарае возле конюшни. Когда настала ночь, я попросил разрешения выпустить его.
– Нет, – отрезал отец. – Он тогда удерет в темноте. Завтра я продам его на рудники, как и предупреждал.
Меня это так ошеломило, что я не смог найти ответ. Состий был у нас, сколько я себя помню. Никто из наших знакомых никогда не продавал домашнего раба на Лаврийские рудники, разве что за какое-то ужасное зверство. Наконец я проговорил:
– Он немолод, отец. На серебряном руднике он недолго протянет.
– Смотря из чего он сделан, – отозвался отец.
Позднее, в ночной тишине, я слышал, как мать умоляет его. Он ответил ей гневно, и она умолкла. Ночь была жаркая и душная; я метался на ложе, думая о старых днях, прошедших не так уж давно, когда мы пошучивали, взвалив на себя все работы по дому, и старый Состий тоже шутил вместе с нами. И о детстве своем я вспоминал, о том, как он меня прятал, когда Родоска хотела сорвать на мне злость. Наконец у меня лопнуло терпение – я не мог уже больше сносить этого. Я тихонько поднялся и взял из кухонной кладовки какую-то пищу. Прокрался украдкой во двор, к дверям сарая – и услышал внутри какую-то странную возню. Я отпер. Лунный свет, проникавший внутрь через маленькое зарешеченное окошко, осветил Состия, повернувшегося к двери. В руках у него был конец веревки, переброшенной через балку наверху.
Наступила короткая тяжелая сцена, оба мы пролили слезы. Не уверен, какие у меня были намерения вначале – может быть, просто дать ему поесть и попрощаться. Но теперь я сказал:
– Состий, если я забуду запереть за собой дверь, ты знаешь, куда идти. В горах тебе могут встретиться всадники. Спрячься, пока не услышишь их речь. Если они будут говорить по-дорийски, объясни им, что ты здесь делаешь, и они тебя пропустят. Ты сможешь найти работу в Мегаре или в Фивах.
Он опустился на колени и облил мне руки слезами.
– Хозяин, что он сделает с тобой за это?
– Неважно, по крайней мере в Лаврий не отошлет. Держись подальше от выпивки – и доброй удачи тебе.
На следующее утро я оделся подчеркнуто тщательно, чтобы сделать хороший вид, и остался дома – ждать. Отец уже ушел; вернулся он, приведя с собой представителя с рудников, чего я не ожидал. Отец открыл дверь сарая в присутствии этого человека, который, перенеся такое разочарование (ибо рабов становилось все меньше), долго ворчал, что понапрасну бил ноги, и говорил дерзко. А отец даже не отвечал – как будто вообще его не слышал. Когда тот человек ушел, я ощутил у себя на ладонях холодный пот.
– Поди в дом, матушка, – сказал я. – Я должен говорить с отцом один.
Я думал, она не догадывается, что я сделал.
– Ох, Алексий! – вздохнула она.
И тут кровь согрела мне сердце, и к нему вернулась отвага.
– Поди в дом, матушка, – повторил я. – Одному проще.
Она еще раз взглянула на меня и ушла.
Вошел отец и повесил ключ от сарая на место, на колышек. Потом, все еще не говоря ни слова, повернулся ко мне. Я посмотрел ему прямо в лицо и сказал:
– Да, отец, это я виноват. Ночью я пошел попрощаться с Состием и, кажется, оказался беззаботным.
Лицо у него словно отяжелело и налилось, глаза расширились.
– Беззаботным! Бесстыдный пес, ты заплатишь за это!
– А я и собирался заплатить, – ответил я и положил на стол заранее приготовленные монеты. – За человека его возраста – которого ты обнаружил бы сегодня утром в петле, если бы не я, – полагаю, тридцати драхм достаточно.
Он уставился на серебро, потом заорал:
– Ты еще смеешь предлагать мне мои же собственные деньги?! Все, больше ты не будешь разыгрывать здесь хозяина!
– Эти деньги подарил мне Город за победу в беге на Истмийских Играх. Можешь назвать этот случай подарком богам.
Он застыл на миг, потом хлопнул по столу ладонью; монеты рассыпались и со звоном покатились по плиткам пола. Мы стояли, не обращая на них внимания, и смотрели друг другу в глаза.
Он втянул в себя воздух; глаза у него были такие, что я подумал: он собирается поднять на меня руку или даже проклясть, – казалось, он совершенно вышел из себя. Но вместо того им овладело спокойствие. В тишине этой мне чудилось, что страх протянул руку и схватил меня за волосы; но лицо страха было спрятано.
Он проговорил:
– Прежде чем ты достиг возраста, твой двоюродный дед Стримон предлагал твоей мачехе защиту своего дома. Почему ты воспротивился этому?
Никогда прежде он не называл ее моей мачехой. От этого слова меня пробил озноб без всякой разумной причины; наверное, я даже побледнел – я видел, как глаза его вперились мне в лицо. Но затем, припомнив, от какого возвращения домой избавил его, я разозлился и сказал:
– Потому что считал – слишком рано примиряться с мыслью о твоей смерти.








