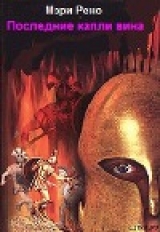
Текст книги "Последние капли вина"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 30 страниц)
– Где твой отряд?
– Не знаю; у меня пала лошадь, я блуждал весь день.
Я надеялся, он поверит, ибо мне было страшно. Но он ухмыльнулся и спросил:
– А где же тогда твои доспехи?
Муж, который поймал меня, заметил:
– У него был меч.
Командир сказал:
– Я не беру пленных, афинянин. Но если скажешь, где твой отряд, я тебя отпущу. Посмотри, как нас мало – нам нужно только самим спастись.
Двое из его людей переглянулись. В стороне, за камнями, слышались какие-то звуки – там находились остальные; виден был отблеск другого костра.
– Скажи, – повторил он, – и сбережешь жизнь.
Я думал: "Если я что-то выдумаю, так они просто потащат меня за собой заложником, а в конце будет только худшая смерть". И я промолчал.
Кто-то предложил:
– Попробуй посадить его в костер.
Командир возразил:
– Мы все здесь эллины. Будешь ты говорить, афинянин?
– Я ничего не знаю.
– Ладно. Кто поймал этого мужа?
Тот гоплит шагнул вперед.
– Закончи свою работу.
Двое схватили меня за плечи, кто-то ударил сзади под коленки древком копья, чтобы у меня подогнулись ноги. Они поставили меня на колени и держали так. Ночь выдалась ясная и холодная, и звезды сверкали в небе, как искры с наковальни, белые и голубые. Никогда не узнаешь, сколь большим мужеством обязан ты желанию сохранить доброе имя среди людей, ощущению следящих за тобой глаз любимого и друзей, пока не очутишься один среди врагов. Если бы я надеялся, что, попросив пощады, смогу разжалобить их, то наверное попросил бы; но я не мог стать для них посмешищем. Я думал о своей матери, остающейся в одиночестве с ребенком. Во рту пересохло, язык чувствовал горечь. Я гадал, долго ли умираешь, когда меч пронзит тебя. Потом подумал о Лисии.
Командир поманил к себе человека, который поймал меня, и сделал жест рукой. Тот кивнул и отошел из моего поля зрения. Я слышал, как скрипнула кожа его доспехов у меня за спиной. Сердце прыгнуло мне прямо в горло, и я сказал:
– Подожди.
Кто-то засмеялся. Один из людей, державших меня за плечи, сплюнул и проговорил:
– Никак ты испугался, афинянин? Мой сын был в Микаллесе, который твой Город захватил с помощью фракийцев. Неужели ты слишком молод, эфеб, чтобы быть храбрым? Ему было восемь лет.
– Дай покой тени ребенка; кровь за кровь оплачивает все. Этот человек, что у меня за спиной, – пусть зайдет спереди.
Гоплит, стоявший сзади, спросил:
– Так тебе будет легче?
– Думаю, да, – отвечал я. – Мне говорили, вы, фиванцы, понимаете такие вещи. А если так, скажи: все ли тебе равно, найдет тебя твой друг убитым ударом в грудь или в спину?
Они замерли, переговариваясь неразборчиво. И вдруг вмешался человек, подошедший откуда-то сбоку:
– Я знаю этот голос. Дайте-ка мне посмотреть на него.
Он поднял горящую ветку и заглянул мне в лицо. Его я не видел, пламя ослепило меня; но что-то как будто зашевелилось в памяти.
– Да, я знаю его, – сказал он. – Мне надо свести счеты с этим человеком. Пусть больше никто не тревожится, отдайте его мне.
Командир ответил:
– Забирай – и на здоровье, если тебе это доставит удовольствие. Но сделай так, как он просил.
Этот человек поднял меня на ноги, показал мне свой меч и бросил:
– Пошли!
Я думал в недоумении, что же такое хочет он сделать со мной, если стыдится, чтобы это увидели другие? Он отвел меня подальше, за скалы и деревья. Звезды вспыхивали и мерцали. Вдалеке от костра было холодно. Наконец он остановился.
Я сказал:
– Твоих друзей здесь нет, фиванец, но боги есть.
– Пусть же они рассудят нас. Ты узнаешь меня?
– Нет. Что плохого я тебе сделал?
– Прошлым летом я был захвачен Пограничной Стражей, вместе с моим другом. Там был юноша по имени Алексий; говорили, что филарх – его любовник.
– Тебе говорили правду. Если у тебя счеты с Лисием, то вот я здесь вместо него. Но он убьет тебя.
– Ночью он прислал нам пищу, а ты ее принес. Мой друг не мог сесть, чтобы напиться, и ты приподнял ему голову.
Тогда я вспомнил.
– Его звали Толмид, – сказал я. – Он хотел собрать войско из любовников и завоевать весь свет. Он тоже здесь?
– Он умер на следующий вечер. Если бы ты обошелся с ним грубо, сегодня я отрубил бы тебе голову.
Он просунул меч под связывающие меня веревки и перерезал их двумя движениями лезвия; меч его был остер, а сам он силен.
– Не тот ли ты Алексий, который был увенчан за бег на дальнее расстояние?
– Я бегун.
– Все афиняне – хвастуны, – сказал он. – Докажи, что говоришь правду.
Когда я вернулся в лагерь, до рассвета оставался всего час. Караульный на посту, которому я назвал условное слово, и говорить со мной не захотел. Буркнул только, что Лисий ждал всю ночь. Я нашел его лежащим на месте, возле составленного оружия и разложенных рядом доспехов. Он лежал, завернувшись в плащ, и когда я подошел, не раскрыл глаз. Я понял, что он не спит, но сердится, и сказал себе: "Если я заговорю сейчас, у нас будет все разорвано. Ладно, просто лягу спать рядом с ним, и пусть сердится утром". Взял свой плащ и устроился возле него. Я устал, но спать не мог, и не знал, спит он или нет. Должно быть, под конец я все же задремал, потому что проснулся в рассветных сумерках и увидел склонившегося надо мной Лисия.
Он спросил тихонько, потому что остальные еще спали:
– Сильно ты ранен?
– Ранен? Нет.
– Ты весь в синяках и покрыт кровью.
Я забыл, как грубо обошлись со мной фиванцы. Мы поднялись и пошли к ручью умыться. Серый туман заполнял долину и висел над водой. Мне было холодно, я весь оцепенел. Рассвет – тот час, когда пламя жизни едва теплится, а больные умирают. Лицо Лисия было серым от усталости. Я понял, что ему хотелось бросить отряд и бежать разыскивать меня.
– У тебя и в волосах кровь, – сказал он; нашел рассеченное место и промыл.
Я думал: "Любовь, которую ощущаешь в такие моменты, должна быть воистину любовью души".
– Если бы этот человек убил тебя, найдя со своей женой, – ворчал он, закон поддержал бы его. Ты замерз?
– Вода была холодная.
Он накинул на меня плащ и обнял за плечи.
– Разве ради этого мы принесли свои клятвы богу? – спросил он.
– Ты прав, Лисий.
Мы стояли у ручья, потому что было слишком холодно и сыро, чтобы сесть, и я рассказал ему все. Проснулись первые птицы, гора напротив показала серое лицо сквозь дымку; темные терновые деревья проливали слезы росы. Наконец над горной вершиной вспыхнуло красное солнце и лагерь зашевелился – просыпались остальные. Мы отправились обратно, чтобы растереть лошадей и приготовиться к новому дню.
Глава шестнадцатая
Весной царь Агис вернулся в Декелею и снова выступил в поход прямо на Аттику. Почти все усадьбы, которые были спасены или пропущены раньше, на этот раз сгорели, и поместье Демократа – одним из первых. Лисий узнал об этом, когда мы были в Городе, и пришел рассказать мне.
– Чем жаловаться, – заключил он, – нам лучше благодарить богов за то, что успели спасти. К слову сказать, отец мог бы мне сказать спасибо за это. Мы обобрали свое хозяйство догола месяц назад, но он все не хотел снимать черепицу с крыш, мне пришлось наседать на него несколько дней. У нас есть коневодческое хозяйство на Эвбее, оно будет приносить кое-какой доход, пока остается возможность вывозить лошадей на кораблях. С голоду не помрем; но все же человеку в его возрасте нелегко воспринять перемену в своем достатке, и он сейчас снова разболелся. Идем ко мне, я хочу показать тебе кое-что.
Я пошел к нему домой, и он отпер одну из конюшен. Скрипнули старые дверные петли. Внутри находилась колесница, вся покрытая запыленной паутиной. Великолепная работа в старом стиле, раскрашенная фигурами из Гомера, с позолоченной резьбой. На ней висела засохшая и поблекшая гирлянда с выгоревшими лентами; Лисий снял ее, во все стороны разбежались пауки.
– Осталась, должно быть, с Пифийских Игр, – сказал он. – Уже прошло лет десять, если не больше, как мы перестали держать упряжку для скачек; а колесница появилась задолго до того. Когда я был мальчиком, наш возничий иногда брал меня на учебные проездки и давал подержаться за вожжи – мне казалось, что я сам правлю четверкой. Я все мечтал когда-нибудь выиграть на ней скачки, как мой дед Лисий. Не хочу, чтобы отец увидел, пока она не будет вычищена. Мы ее продаем завтра.
А вскоре после этого я получил наконец известие о смерти моего отца.
Меня подготовил к тому, что мне предстояло услышать, сам Сократ; он же привел меня в дом Еврипида. Да-да, у него был дом, как у любого другого, в Городе, недалеко от нас, хотя в последнее время можно на каждом шагу услышать, вроде бы он жил в пещере. Думаю, слух этот пошел от того, что у него была на берегу моря небольшая хижина, сложенная из камней, куда он удалялся поработать без помех. А что до того, будто он был мизантроп, то, думаю, на самом деле он печалился за людей так же сильно, как Тимон ненавидел их, и вынужден был иногда от них скрываться, чтобы хоть что-то написать.
Он встретил меня ласково, но немногословно, глядя извиняющимися глазами, как будто я мог упрекнуть его, что ему нечего сказать мне лучшего. Затем отвел меня к человеку, которого я бы принял за отмытого и одетого им нищего, если бы меня не предупредили. У мужа этого кости торчали из-под кожи, ногти на руках и на ногах были изломаны и грязны, глаза провалились в орбиты и все тело покрывали нагноившиеся царапины и язвы. Посреди лба горело у него рабское клеймо в форме лошади, еще красное и шелушащееся. Но Еврипид представил меня ему, а не его мне. Это был Лисикл, который командовал конным отрядом моего отца.
Начал он свой рассказ ясно и внятно, потом потерял нить повествования и долго путался во второстепенных мелочах, пока Еврипид не напомнил ему, кто я такой и кем был мой отец. Чуть позже он снова позабыл о моем присутствии и сидел, молча глядя перед собой. Так что я не стану излагать всю историю так, как он рассказывал мне.
Мой отец, как я узнал, перед смертью своей работал в каменоломне. Именно туда отправили сиракузцы доставшихся городу пленников после битвы, именно там большинство из них закончили свой жизненный путь. Каменоломни Сиракуз глубоки. Наши жили там без всякого укрытия от палящего солнца днем и от холода в осенние ночи. Те, кто мог работать, добывали камень. Все они стали серыми от каменной пыли, которую смывали лишь дожди, иногда проливавшиеся на них. Пыль заполняла их волосы, раны умирающих и открытые рты мертвецов, которых сиракузцы оставляли гнить там, где они упали. Среди скал негде было выкопать для них могилы, даже если бы у кого-то хватило на то сил; но, поскольку лежащий человек занимает больше места, чем стоящий, их складывали стопками, ибо живые едва помещались там, когда укладывались спать, а они в одном месте и жили, и делали все прочее. Со временем от них перестали требовать много работы, ибо никакого надсмотрщика нельзя было заставить выносить вонь. Есть им давали два котиле [78] похлебки в день, а пить – один котиле воды. Стражники не желали находиться в той яме и раздавать пищу, а просто спускали все сразу, чтобы они дрались за еду и воду. Поначалу люди из Сиракуз приходили большим числом глядеть сверху в каменоломню и любоваться их драками, но со временем и это зрелище им надоело, и вонь; только мальчишки еще ходили иногда швыряться камнями. Если снизу видели какого-либо гражданина, те из пленных, кто еще не примирился с мыслью о смерти, начинали взывать к нему, умоляя выкупить в рабство и забрать куда-нибудь. Их больше ничто не страшило, ибо не могло быть ничего хуже, чем то, что они уже перенесли.
Примерно через два месяца сиракузцы отобрали среди них воинов из числа союзников, заклеймили им лбы и продали всех. Афинян же по-прежнему держали в каменоломне, но к тому времени оттуда уже убрали мертвых, среди которых был и мой отец. Его тело, должно быть, пролежало там несколько недель, но Лисикл узнал его, пока оно было еще свежим.
Здесь он замолк и сдвинул брови, словно пытаясь вспомнить что-то пропущенное. Когда он наморщил лоб, ноги лошади, выжженной на коже, словно бы задвигались. Наконец вспомнил – и выразил мне соболезнования по поводу потери отца, какие воспитанный человек высказывает сыну своего друга. Как будто это я ему рассказал печальное известие, а не он мне. Я поблагодарил его, и мы застыли, молча глядя один на другого. Я оживил для него воспоминания, а он – для меня. Вот так мы оба смотрели внутренним зрением, мечтая ослепнуть вновь.
Свою собственную историю он не стал мне рассказывать, но я услышал ее позднее. Он выдал себя за аргивянина, немного владея их дорийским наречием, и вместе с ними был заклеймен и продан. Его купил за невысокую цену злой и грубый хозяин, так что в конце концов он предпочел голодать в лесу и убежал. Со временем он совсем ослаб и не мог идти дальше, но тут его нашел сиракузец, ехавший к себе в усадьбу. Этот человек догадался, что он афинянин, но все же дал ему пищи и питья, и место для сна; а затем, когда он немного оправился, начал спрашивать, не показывали ли в Афинах в последнее время какую-либо новую пьесу Еврипида. Ибо сицилийцы ценят его превыше всех современных поэтов. А поскольку живут они так далеко, все новое доходит до них в последнюю очередь.
Лисикл отвечал, что годом раньше их отплытия Еврипид был увенчан за новую трагедию о взятии Трои и о судьбе плененных женщин [79]. Услышав это сиракузец спросил, не может ли он продекламировать что-либо оттуда.
Эта пьеса была написана сразу после падения Мелоса. Сам я ее не слышал, поскольку мой отец, считая предыдущие работы Еврипида отклоняющимися от истинной веры, меня в театр не взял. Федон как-то рассказывал мне, что слышал ее. Он говорил, что с того момента, как его ранили в битве – несмотря на все, что видел и перенес он на острове и в то время, как был рабом у Гурга, – это был единственный раз, когда он заплакал. И никто не обратил внимания на его слезы, потому что по обе стороны от него плакали афиняне. Лисикл же и слышал эту трагедию, и читал ее; так что он научил сиракузца всему, что помнил сам, тот же в награду дал ему мешок пищи, одежду и указал дорогу. Это был не единственный случай такого рода. Еврипида посетили несколько афинян, которые приходили специально рассказать ему, что получили еду или питье за один из его хоров. Некоторые, кого с самого начала продали в качестве домашних рабов, получали место педагога, если знали его пьесы, и в конце концов сумели снова увидеть свой Город.
Но для моего отца, который предпочитал смеяться вместе с Аристофаном, возврата не было. Я даже не знаю, смог ли кто-то рассыпать над ним горсть земли после смерти, чтобы дать покой его тени. Мы с двоюродным дедом Стримоном совершили жертвоприношение по нему на домашнем алтаре, и я срезал волосы в знак траура. А ведь совсем скоро, когда я стану мужем, мне надо будет принести их в жертву Аполлону. Этого бога отец мой всегда чтил выше всех. Я возлагал на алтарь траурный венок с вплетенными в него моими темными прядками – и вспоминал, как сияли золотом на солнце его волосы. Ко времени отплытия на Сицилию ему исполнилось уже сорок лет, но цвет их только начал блекнуть и тело его было таким же крепким, как у тридцатилетнего атлета.
Стримону я сказал, что отец умер от раны в первые дни плена, потому что доверять языку деда было никак нельзя, а именно такую историю я сообщил матери.
Вскоре мы снова оказались в поле, и это, как я понял, было не худшим утешением, чем любое другое. Ибо, как ни мало в том смысла, рискуя жизнью чувствуешь, что совершаешь приношение богам и что боги, поражающие человека угрызениями совести, умиротворены.
Теперь, когда настала весна, верфи работали круглый день; повсюду стояли на катках оребренные кили; тут и там можно было увидеть готовое судно с горящими полночи факелами, которыми светили себе мастера. Это было прекрасное зрелище, оно возвышало сердце, – пока память не напоминала, для чего корабль готовится выйти в море. Теперь, когда прибывало в порт какое-то судно, мы боялись услышать лишь одну весть – что взбунтовались островные союзники.
Все это время я ожидал момента, когда предстану перед гимнасиархами, отбирающими участников для Истмийских Игр. Если бы я мог выступать в состязаниях юношей, то был бы более уверен, но к тому времени мне исполнится восемнадцать, я стану эфебом, так что придется выступать за мужей. И все же в пробном забеге боги возместили мне быстротой то, чего недоставало моему искусству, и я нашел себя в числе избранных.
Я стоял, переполненный радостью, но тут ко мне подошел городской наставник в беге и сказал:
– Теперь твое тело принадлежит богу; доложи своему филарху, что ты освобожден от воинской службы до конца Игр, и будь здесь завтра утром.
Я вышел на улицу через портик, едва волоча ноги; я подумать не мог, что разлука достанется мне столь тяжко, – и растревожился: мне виделась в этом какая-то чрезмерность, я бы постыдился признаться в подобных чувствах даже самому Лисию. Я шел к его дому, решившись прикрыть свою печаль личиной рассудительности, как вдруг на улице мне встретился Ксенофонт и проговорил со смехом:
– Ну-ну, когда сегодня вечером будете праздновать с Лисием, не забудьте добавлять побольше воды – вы ведь теперь оба должны упражняться вовсю.
Я достиг такого возраста, когда люди выкатывают глаза, если ты бежишь по улице, но мчался без остановки, пока не нашел своего друга. Все оказалось правдой: его выбрали вместе с Автоликом выступать в панкратионе. Из страха, что ничего не получится, он даже не говорил мне, что показывался гимнасиархам. Мы обнялись, смеясь как дети.
На следующий день для нас началась серьезная подготовка: упражнения все утро, прогулка после ужина, всегда две части воды на одну часть вина, а с темнотой – в постель. Вместо Лисия командовать нашим отрядом назначили другого всадника; пока не кончатся Игры, мы могли взять в руки оружие лишь в том случае, если враг полезет на стены Города.
Однажды, когда мы встретились после упражнений, Лисий спросил:
– Ты помнишь двоюродного брата Крития, юного Аристокла, борца? Ты однажды передавал ему от меня совет в Аргивянской палестре.
– О да, сын Аристона, юнец, который говорит тоном властелина. Я его не видел с тех пор.
– Ну так скоро увидишь: он едет на Игры вместе с нами, будет бороться за юношей.
– Значит, ты не ошибался, когда предсказывал, что мы еще услышим о нем!
– Да, и я высоко оцениваю его возможности, если только какой-то другой город не выставит атлета совершенно уж выдающегося. Он был рожден для борьбы, это ведь на нем написано, даже, боюсь, в ущерб изяществу и совершенству тела. Теперь ему дали кличку в палестре – они его зовут Платон [80].
– И как ему это нравится?
Я вспомнил, как этот мальчик смотрел мне в лицо – словно сравнивал его с собственным представлением о красоте, которому я в тот момент соответствовал.
– Даже если у него не самые удачное телосложение, – пояснил я свой вопрос, – он, похоже, не тот парень, которому нужно об этом напоминать.
– Вероятно, нет: он упражняется, бегая в доспехах, чтобы поддерживать хорошие пропорции. Полагаю, легкое поддразнивание его не заденет: хоть он и склонен к серьезности, но шутки воспринимает прекрасно; по крайней мере манерам в этой семье учат хорошо. И это такая приятная перемена – для разнообразия видеть одного из них в палестре, а не на трибуне.
Я собирался пойти взглянуть на этого юношу во время упражнений, если найду время, но вдруг случилось событие, которое вымело у меня из головы всякие пустяки. Я пришел домой и встретил во дворе свою сестренку Хариту она плакала. Вечно она спотыкалась, падала и набивала синяки, ибо только училась бегать. Я подхватил ее на руки; в свои два года она всегда ходила голенькой, если не было слишком холодно, и пахло от нее свежим яблоком. Я ее успокоил, рассмешил, а потом осмотрел – нет ли где сильного ушиба или повреждения, – но ничего не нашел и понес в дом. Там я увидел свою мать, сидящую за разговором с двоюродным дедом Стримоном. Она опустила на лицо газовую завесу. Я подумал, какая она скромница, если помнит об этом, беседуя со столь старым мужем; но что-то в этой картине меня встревожило. Я усадил девочку и вошел внутрь. Мать уронила завесу и повернулась ко мне, как поворачивается женщина к мужчине, под чью защиту поместили ее боги. Я подошел и остановился рядом с ней. А потом, подняв глаза, встретил взгляд Стримона и подумал: "Этот человек – враг". Однако поздоровался с ним как всегда.
Он сообщил:
– Я указывал твоей мачехе, Алексий, и не в первый раз, что теперь, когда твой замечательный отец погиб, не подобает ей оставаться одной в доме, где нет во главе мужчины. Боги дали мне достаточные средства, чтобы выполнить обязанности по ее защите; будь любезен, заверь свою мачеху в этом, поскольку она, сдается мне, боится оказаться обузой в моем доме.
Я обдумал его слова. Мне почти восемнадцать, вскоре я достигну возраста эфеба и стану ее законным защитником. И все же он, до того времени, является главой семьи. Его предложение вполне правильно, хоть и высказано довольно навязчиво. Сначала я был озабочен главным образом тем, чтобы он не пожелал забрать к себе и меня. Но потом заметил, как она отводит глаза под его взглядом, и тогда понял.
Он был в ту пору мужем всего лишь пятидесяти шести лет и при хорошем здоровье. Без сомнения, он предложит ей вступить в брак, и многие женщины на ее месте увидели бы в этом хороший выход для себя. Чрезвычайное отвращение, которое я испытывал к нему, было несомненно следствием моей молодости. И словно человек, лишенный рассудка, я не выдвинул никакого разумного возражения против ее ухода, а просто закричал:
– Она останется здесь, клянусь Зевсом, и хотел бы я посмотреть на того, кто посмеет ее увести!
Он поднялся со стула. Мы стояли, уставясь друг на друга; мне приходилось встречать более добрый взор, глядя над верхним обрезом щита. Никогда не спеши бездумно разоблачать обман и притворство противника – они всегда твое лучшее оружие против него.
Мы уже оба набирали воздуха, чтобы заговорить, но тут моя мать произнесла:
– Молчи, Алексий! Ты забылся.
Мне показалось, будто она ударила меня кинжалом в спину, когда я защищал ее. Однако, повернувшись и увидев ее лицо, я понял, что она испугана. Это было вполне естественно, ибо открытый разрыв с ним сделал бы нашу жизнь очень неприятной. Ее резкость частично привела меня в чувство. Я попросил у него прощения и взялся приводить кое-какие аргументы, с которых следовало бы начать сразу. Он меня оборвал:
– Прошу, не утруждай себя извинениями, Алексий. Я представляю, что в кругу твоих друзей, как мы слышали, не существует ничего неприличного. Когда учитель не почитает даже бессмертных богов, но отодвигает их в сторону ради нового божества, вряд ли можно от его ученика ожидать большого почтения к возрасту и родству, если речь идет о простых смертных.
С детских лет была у меня манера вскидывать голову, когда рассержусь. Так я сделал и сейчас – и ощутил некую странность: не было привычной тяжести волос . И тут мне словно легла на плечо рука, напоминая: "Не забывай, что ты мужчина".
– Вина только моя, дедушка, – произнес я. – Мой учитель упрекнул бы меня скорее, чем ты. Благодарю за твое предложение; но мне не хочется, чтобы моя мать покидала этот дом, где я в скором времени буду полноправным хозяином.
– Через несколько лет, когда ты введешь в этот дом молодую жену, у твоей мачехи останется мало причин благодарить тебя.
– Дедушка, когда я выберу себе жену, это не будет женщина, способная относиться без почтения к моей матери.
Он произнес:
– У тебя нет матери, а эта женщина – жена твоего отца.
Мне пришлось упереть взор в его белую бороду, я чувствовал, что не смогу отвечать за свои поступки. Даже в бою я редко бывал так взбешен. Когда мать заговорила, я сперва едва слышал. Она произнесла тем тоном, каким говорит женщина отшлепанному ребенку:
– Довольно, Алексий. Попрощайся с дедом и уходи.
Я даже не стал отвечать ему. Ее несправедливость уязвила меня – но и привела в чувство. Теперь я смог говорить спокойнее:
– Что же, дедушка, я уверен, что никто из нас не желает выносить семейное дело в суд. Да и к тому времени, как его назначат к слушанию, я уже достигну возраста, и твой иск отпадет сам собой. Мы отняли у тебя слишком много времени от твоих дел; можем ли мы предложить тебе что-то до твоего ухода?
Когда он вышел за калитку, мне не хотелось возвращаться в дом. По-видимому, я чувствовал, что плохо справился с этим делом, и опасался упреков матери. Так что я вышел на улицу, и теперь у меня в голове оставалась лишь одна мысль. У всех встречных знакомцев я спрашивал, не видали ли они Лисия где-нибудь. Кто-то сказал, что он все еще в гимнасии. На борцовской площадке его не оказалось, но я нашел его на песчаной дорожке, где метали диск. Он как раз умостил его в руке и разворачивался назад для замаха, но, неожиданно увидев меня, невольно задержал руку и бросок не удался. Другие начали смеяться над ним, видя причину того; тогда он снова взял диск и метнул хорошо. Вскоре он закончил и ушел очищаться. Мне казалось, что никогда еще не было мне так радостно видеть его; я едва смог поприветствовать его как должно.
Он оделся, мы вышли оттуда, и лишь тогда он спросил:
– Что с тобой? Ты сам на себя не похож, случилось что-то?
– Нет, Лисий. Но иногда я дивлюсь, как жил раньше, пока не знал тебя; мне кажется, я держался за жизнь лишь по невежеству своему, не зная, чего лишен. И если бы ты не отправлялся в Коринф тоже, я бы вообще отказался, лишь бы не разлучаться с тобой на такой долгий срок.
Он посмотрел на меня, наполовину смеясь:
– Отказался бы? От Игр отказался? Ну, это не прибавило бы мне славы в Городе. Теперь я понимаю, в чем дело: ты слишком много упражнялся и стал нервным. Прими мой совет и не трать времени на переживания, что другой город может выставить более быстрого бегуна. Ты этого не сможешь ни угадать, ни изменить. Как сказал мне Сократ много лет назад, единственное, что ты можешь – это сделать свое тело столь угодным богам, как тебе по силам. Если бы мы не знали, что венок достается лучшему, то могли бы избавить себя от трудов и сидеть дома, попивая вино. Так что приди к миру с самим собой, мой дорогой, ибо во всем должна быть мера. Не пойти ли нам поплавать? Или посмотреть конские скачки? Или побеседовать в колоннаде? Он пристально посмотрел на меня, брови его задумчиво сдвинулись. – Автолик говорит, что обычно идет к девушке в середине подготовки. Я знаю, наставники так не считают, но он советует.
– Думаю, я лучше продолжу упражнения и подожду, пока не прибуду в Коринф.
Я знал, чем славится этот город, и думал, что такие слова прозвучат вполне по-мужски. В конце концов мы пошли на скачки. Что бы ни было у меня на душе, когда я искал его, но вечером я вернулся домой, чувствуя себя так, словно оправился от лихорадки.
Через несколько недель мне исполнилось восемнадцать, и я пошел представляться. Дед Стримон, как мой старший родственник, отправился вместе со мной для соблюдения достоинства. Когда был проверен мой возраст и происхождение, стратег привел меня к присяге и сказал с подобающей случаю серьезностью, что, как он полагает, я жажду начать свою воинскую службу; а потом взял мою руку, посмотрел на шрамы и засмеялся.
Вернувшись домой, я увидел, что на моем ложе расстелен плащ мужа, давно уже сотканный матерью для меня; от него пахло ароматными травами, в которых она его хранила. Лисий уже научил меня, как укладывать складки. Я оделся и вышел показаться.
– А теперь, матушка, – сказал я, – дай мне увидеть твою улыбку; с этого момента тебе нечего опасаться.
Она улыбнулась и попыталась ответить, но внезапно на глазах у нее выступили слезы. Для женщины естественно вести себя так в радостных случаях. Я шагнул вперед, раскрыв объятия, чтобы успокоить ее; но она воскликнула, что это будет плохая примета – закапать мужской плащ слезами в первый же день; и, уклонившись таким способом от моих объятий, ушла.








