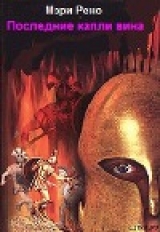
Текст книги "Последние капли вина"
Автор книги: Мэри Рено
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 30 страниц)
Вскоре после возвращения он прошел мимо меня на улице и, наполовину вспомнив – полагаю, в связи с чем-то для себя неприятным, – пристально взглянул, пытаясь сообразить, кто я такой. Не знаю, удалось ли ему это; но даже спартанцы, с которыми я встречался в битве, видевшие только мои глаза в прорезях шлема, смотрели на меня более по-человечески.
Однако, высказав все эти мнения, я должен признаться, что стоят они ровно столько, сколько суждения о вине человека, страдающего лихорадкой. Во время последнего приезда в Город я подхватил болезнь, от которой, как мне казалось, излечился. Но теперь, когда причина ее вновь оказалась рядом, я понял, что она лишь дремала – и вырастала во сне.
Однако в этом деле бог был добр ко мне – с самого начала он ни разу не мучил меня надеждой. И стрел своих не отравлял, ибо то, что с первого взгляда показалось мне благим и прекрасным, таким кажется и по сей день. Достигнув семнадцатилетнего возраста, он покинул школу Миккоса и часто появлялся рядом с Сократом. Там я его избегал – по многим причинам; но где звучала музыка, всегда был и он. И потому мои воспоминания привязаны к кифаре, свирели, согласному звучанию флейт или чистому пению голосов; даже теперь иногда какой-то аккорд или юный дискант заставляют меня почуять запах ароматного масла и листьев лавра, или же травы и горящей смолы, и увидеть отблески факелов в спокойствии его прислушивающихся глаз.
Лишь однажды я оказался в опасности. Как-то вечером в начале зимы я прогуливался по горам Ликабетта, когда пик его уже проступил черным на фоне густо высеянных звезд. Остановившись передохнуть недалеко от вершины, я заметил на террасе святилища его силуэт – подняв голову, он оглядывал небеса. Полагаю, у него имелась склонность к математике и астрономии, которую часто находишь у музыкантов. Пояс Ориона висел над ним, а на плече его – меч.
Я застыл на каменистой тропинке, разрываясь между волей и душой. Я уже сделал первый шаг по тропе, за ним второй, как вдруг увидел, что он не один. Ноги мои были босы, так что они меня не слышали; я мог отойти обратно в лес, где между сосновыми ветвями светили несколько лампад и несколько звезд. В общем, ясно, что бог хорошо заботился обо мне; и чтобы показать, что нет во мне неблагодарности, я в определенный день каждого года приношу ему пару голубей.
Брак Лисия оказался благом для меня, ибо в ту пору ничто не помогло бы мне спастись от самого себя, кроме серьезной заботы о человеке, настолько мне дорогом. Совесть не позволяла мне вылезать сейчас со своей печалью, которую он, заметив, мог отнести на счет ревности, недостойной ни друга, ни мужчины. Вынужденный побороть эту печаль, я исхитрялся даже иногда позабыть о ней и разделить его счастье. Ибо он, казалось, был не менее счастлив, чем человек, дожидающийся настоящей свадебной ночи. Я помог ему найти небольшой домик во Внутреннем Керамике, недалеко от нашего, и обставить кое-какими вещами из дома его отца. Он продал бронзу работы Алкамена, чтобы заплатить за музыку и цветы для пира.
– Мне будет приятно, если это доставит ей радость, – говорил он. – В конце концов, я полагаю, это единственная свадьба, которая у нее будет.
Ксенофонт признался мне, что от всей души одобряет выбор Лисия.
– Когда я сам соберусь жениться, – сказал он, – буду искать невесту примерно такого же возраста: пока они не забили себе голову всякими глупыми убеждениями и еще есть время научить их должному порядку. Я терпеть не могу, когда все разбросано как попало и ничего не найдешь на месте. Порядок – это первая половина достойной жизни.
А потом вдруг оказалось, что мы только что говорили "Всего через неделю, Лисий", а спустя мгновение настало утро свадебного дня.
Ночью выпал снег. Он лежал на крышах под ярким чистым небом, мелкий, твердый и сверкающий, белее паросского мрамора, белее наших свадебных одежд. Львиные головы на водостоках храмовых крыш обзавелись хрустальными бородами в локоть длиной; красный цвет обожженной глины выглядел темным и теплым, а белизна штукатурки – сбитыми сливками. Гелиос сиял далеко и высоко, не посылая нам тепла с бледного неба, а только лишь блеск своих серебряных волос. Когда мы вели жениха к дому невесты, струны лир лопались от холода, а голоса флейт звучали глухо, но мы перекрывали все своим пением. Наше дыхание поднималось в морозном воздухе маленькими облачками в такте песне.
Не могу вспомнить, чтобы Лисий когда-нибудь выглядел лучше. Его свадебную мантию из белой милетской шерсти украшала кайма шириною в две пяди из чистого золотого шитья – в этой мантии до него женились его отец и дед. Мы принесли ему ленты, красные, синие и золотые, и надели на него венок из мирта и фиалок, которые можно найти по запаху под свежевыпавшим снегом. Он вошел в дом невесты смеясь, раскрасневшийся от холода. Его туника была заколота на плече большой золотой брошью старинной работы из Микен, подаренной какому-то его предку Агамемноном, как гласило семейное предание. Волосы, и венок, и ленты на руке сверкали снежной пылью, сдутой ветром с крыш. Когда мы вошли в комнату для гостей, там сидела невеста рядом со стариком, и все ее личико, обрамленное шафрановым покрывалом, на глазах у нас обратилось в огромные глаза.
Женщины облепили ее, принялись обцеловывать и шептаться. У нее были хорошие манеры, как и говорил Лисий, но каждый свободный миг ее глаза, словно позабыв все уроки, поворачивались к нему. Он заметил это и улыбнулся ей через всю комнату, и все женщины завздыхали и забормотали: "Очаровательно!" Только невестка наклонилась и зашипела что-то ей на ухо. Она залилась краской и съежилась, будто роза, пытающаяся врасти обратно и свернуться в бутон. По-моему, в глазах у нее показались слезы. На мгновение у Лисия на лице промелькнул такой гнев, что я испугался, как бы он не свалял дурака и не смутил всех. Я дернул его за мантию, чтобы напомнить, где он находится.
Потом позвали на пир, и они уселись рядышком между женщинами и мужчинами. Он говорил с ней, улыбаясь, но она отвечала замирающим шепотом и только возила пищу по тарелке. Он смешал ей вина, и она пила, когда он велел, как ребенок, когда лекарь приказывает; но лекарство, кажется, и в самом деле пошло ей на пользу.
Раб-эконом поманил меня к дверям; я вышел – там уже ожидала свадебная повозка. Все было в порядке, рога волов вызолочены, венки и ленты размещены как подобает, балдахин закреплен. Снова шел снег, но не подобный муке, как прежде, а напоминающий большие перья.
Нас выпроводили музыкой, выкрикивая обычные глупости; я взобрался на повозку, Лисий подал мне наверх невесту и поднялся сам. Мы двинулись – он, я и девочка между нами. Она вздрогнула от холода; он подтянул повыше овчины и накрыл ее полой плаща, придерживая на плече. Я почувствовал, как внезапно нахлынуло на меня прошлое; на миг горе охватило меня, словно зимняя ночь, но это было подобно старой печали, которую я пережил давным-давно и которая для меня теперь в прошлом. Все меняется, и ты не можешь дважды войти в одну и ту же реку.
Холод был мягким и приятным, не таким, как утром; до рассвета все растает.
– Ну, Талия, – сказал Лисий, – ты очень хорошая девочка, и я тобой горжусь.
Она подняла к нему голову, но ее лица я не видел. Лисий продолжал:
– А это – мой лучший друг Алексий.
Вместо того, чтобы, как предписано приличиями, пробормотать приветствие с опущенной головой, она подняла покрывало и улыбнулась. В свете факела ее глаза и щеки ярко горели. Я уже раньше думал, разумно ли было со стороны Лисия давать ей второй кубок вина.
– О да, Лисий, – сказала она, – ты был прав, он действительно прекраснее, чем Клеанор.
Думаю, это так подействовал свежий воздух после тепла внутри. Я видел, как Лисий заморгал; но потом он весело произнес:
– Ну да, я всегда так говорил, верно ведь?
Он посмотрел мне в глаза, взглядом умоляя о пощаде. Я засмеялся и сказал:
– Ну, вы двое сделаете меня тщеславным.
Она обратилась ко мне тем тоном, каким, полагаю, ее мать разговаривала с пришедшими в гости женщинами:
– Я много раз слышала, как Лисий говорит о тебе. Еще до того, как он ушел в море, когда я была совсем маленькая. Каждый раз, когда он приходил, мой брат Неон всегда спрашивал его, как ты. Лисий говорил: "Как Клеанор?" или кто тогда был его лучшим другом. Но Неон всегда спрашивал у Лисия: "Как прекрасный Алексий?" – а Лисий отвечал: "Все так же прекрасен".
– Ну что ж, – сказал Лисий, – теперь ты видишь его. Вот он. Но с этих пор тебе положено разговаривать со мной, или мы с ним рассоримся.
Она повернулась, но не слишком торопливо. Хорошо, что мы были под балдахином, вряд ли кто-то видел.
– О нет! Ты не должен ссориться с Алексием после такой долгой дружбы.
Повозка тряслась на разъезженной колесами слякоти, в свете факелов снег проплывал, словно крупные клочья пламени. Люди на улицах отпускали вековые шуточки насчет месяца долгих ночей и тому подобные; я время от времени поднимался в повозке и выкрикивал такие же вековые ответы. Когда мы приблизились к дому, он наклонился к ней и шепотом сказал, чтобы она не боялась. Она кивнула и прошептала в ответ:
– Мелитта сказала, что я должна закричать. – И добавила твердо: – А я ей сказала, что не буду.
– И я говорю, что не надо. Что за вульгарный обычай!
– А кроме того, сказала я ей, я – дочь воина.
– И жена воина.
– О да, Лисий. Да, я знаю.
Когда пришло время, и он в конце свадебной песни поднял ее на руки, она с улыбкой обняла его за шею. Я бросился вперед, чтобы открыть дверь перед ними, и слышал, как пара старых куриц цокала языками, осуждая ее бесстыдство.
На следующий день я зашел к ним. Казалось, не было мне никаких причин дожидаться позднего часа, как предписывает обычай, так что я побежал туда совсем рано, еще перед рыночным временем [105], чтобы опередить остальных. После некоторой задержки появился Лисий – наполовину проснувшийся, в точности как должен выглядеть жених наутро после свадьбы. Когда я извинился, что потревожил его, он сказал:
– Ничего, мне уже пора подниматься. Но знаешь, я проговорил с Талией почти всю ночь. Я и понятия не имел, Алексий, сколько в ней здравого смысла и изящества разума. Да, из нее получится женщина – одна на десять тысяч. Говори потише, она еще спит.
– Разве не следует ей заниматься своей работой в этот час? – спросил я.
Он, заметив на себе мой взгляд, рассмеялся чуть пристыженно:
– Да ладно, она поздно легла. Она выглядела такой маленькой, я присел возле нее поговорить – забаюкать, думал, ей будет страшно одной; только в конце концов, видно, я первый уснул, потому что, когда проснулся, увидел, что она вытащила из сундука с приданым новое одеяло и укрыла меня.
Я ничего не сказал, не мое это было дело. Но он сам пояснил с улыбкой:
– О да, я смогу удержать своих лошадей до нужного часа. По-моему, отпраздновать ритуал Афродиты двое должны вместе; да я скорее лягу с Афиной Предводительницей, вместе с ее щитом и всем прочим, чем с женщиной, которой не смогу принести радость. Я знаю, что сейчас нужно этой девочке от меня, лучше знаю, чем она сама. Полагаю, это не продлится долго.
Конечно, по мере того, как шло время, он выглядел довольным и счастливым; и однажды, в том же году, но позже, когда он пригласил меня на ужин, я, остановившись в маленьком портике, услышал изнутри звук молодого голоса – она пела за какой-то работой, словно ручей звенел в тенистом месте.
Лисий сказал негромко:
– Прости девочку. Я знаю, скромная женщина не должна выдавать своего присутствия гостям; но когда я вижу ее веселой, мне духу не хватает тревожить ее такими разговорами. Достаточно она уже их натерпелась от жены своего брата. Я сделал хороший подарок этой стерве и запретил входить в наш дом. А ее скромность – у нее в душе. Времени впереди много. О внешних проявлениях позаботимся позже.
Был великолепный золотой вечер. Маленькая комната для ужинов вмещала четыре застольных ложа, но выглядела лучше с двумя. Там были разложены венки из виноградных побегов и роз.
– Талия сама сплела, – сказал он. – Она на меня дуется, если я покупаю на рынке готовые венки.
На ужин была подана разделанная меч-рыба. Я был не очень голоден, но старался как мог, потому что видел – он гордится искусством жены. Мы говорили о войне, в которой снова наступило затишье. Спартанцы, вопреки своему обычаю, опять назначили Лисандра командующим, и он опять брал деньги у Кира.
– Тебе не нравится рыба? – спросил он. – Она сказала, чтобы я спросил у тебя, достаточно ли остроты в соусе.
– Никогда не пробовал лучшей. Просто я услышал по дороге кое-какие новости, которые отбили мне охоту к еде. Насчет этих двух трирем, которые самосский флот захватил на днях; знаешь, что стало с гребцами? Их сбросили со скалы в море. Это, мол, научит их, как работать на ту сторону, которая в состоянии платить.
Он молча уставился на меня, потом проговорил:
– О Зевс! И вспомнить только, что говорилось в начале войны, когда так поступали спартанцы… Думаю, ты не помнишь. Мы совершенствовались день ото дня; последнее предложение было – отрезать пойманным вражеским гребцам правую руку… или, может, оба больших пальца? В Собрании кое-кто на меня волком глядел, за то что голосовал против… Я рад, что мы больше не служим на флоте, Алексий. Что ни услышишь с Самоса – все плохо.
Уже много месяцев флот ничего не делал. Навархи не доверяли один другому, а люди не доверяли навархам; домой постоянно доходили слухи, что то один, то другой берет взятки, – разговоры того сорта, которые лишали покоя спартанцев в Милете. Для них отравой было само знание, что там есть золото.
– Конон честен, – сказал я.
– Да. Один из дюжины. Хотел бы я знать, что думает Алкивиад у себя в крепости на горе. Говорят, оттуда видна половина Геллеспонта. Должно быть, временами он смеется, глядя со стены.
– Сегодня – День Саламина, – вспомнил я. – Семьдесят пять лет со дня битвы. Помнишь, как он устраивал праздники в день открывания бочек с новым вином? Как раз в День Саламина он рассказывал историю о персидском евнухе.
Мы посмеялись, а потом умолкли оба. В тишине я снова услышал, как она поет в глубине дома, только теперь потише – видно, сама вспомнила, что в доме чужой.
– Ты не пьешь, – заметил Лисий.
Мальчик-раб прибрал со стола и ушел.
– Пока не хочу больше, Лисий. Я и без того весел настолько, насколько меня развеселит вино.
И тут я заметил, что он смотрит на меня.
– Глубока печаль, которая доводит до страха перед вином, – произнес он.
– Ты идешь завтра на скачки? Каллий говорит, что победит гнедой.
– Похоже, так устроен мир. Если есть человек, которому хочешь сделать добро больше, чем любому другому, то обязательно увидишь, что этот человек терзает себе душу из-за того, чего ты дать ему не в силах.
– Ты давно знаешь? – спросил я.
– Неважно. Больше никто не знает. Не можешь ли ты снова найти себе женщину, вроде той, что была у тебя на Самосе?
– Поищу, пожалуй, на днях. Не суши себе голову, Лисий. Это безумие. Оно пройдет.
– Тебе надо жениться, Алексий. Да, я знаю, совет недорого стоит, но не сердись на меня. Если человек…
Его голос оборвался. Мы оба поставили кубки, вскочили со своих лож и бросились к двери.
Улица была пуста. Но гул все приближался, накатывался, словно дым, летящий большими клубами под ветром.
Это был не вопль, не стон, не причитания, какими женщины провожают покойника. И все же и то, и другое, и третье звучало в том шуме. Зевс дает человеку и доброе, и дурное, но больше дурного; и нет ничего нового в звуках горя. Но это не было горе одного, двоих или даже целой семьи. Это был голос Города, рыдающего в отчаянии.
Мы переглянулись. Лисий сказал:
– Мне надо поговорить с девочкой. Спроси пока у кого-нибудь, в чем дело.
Я стоял в портике, но никто не проходил мимо. Он что-то негромко говорил в доме. Уже в дверях он закончил:
– Доедай ужин, займись работой и жди меня.
Она ответила ровным голосом:
– Да, Лисий. Я буду ждать.
Какой-то человек кричал чуть дальше по улице. Я сказал Лисию:
– Не пойму толком. Он вроде бы кричит "все пропало" и что-то про Козью речку.
– Козья речка? Эгоспотамы? Мы как-то высаживались там, когда у нас треснула доска в обшивке. Примерно на половине пути через Геллеспонт, чуть севернее Сеста. Деревушка из глиняных хижин да песчаный берег. Козья речка? Ты, наверное, ослышался. Там ничего нет.
На улицах никого не было видно, только кое-где выглядывали из дверей женщины. Одна, от страха забыв приличия, окликнула нас:
– Что случилось, скажите, что случилось?
Мы покачали головой и пошли дальше. Шум шел с Агоры – такой, словно там проходило маршем войско. Эхо как будто неслось с далекого расстояния. Это был звук плача, начинающегося где-то у Длинных стен и расползающегося между Пиреем и Городом, точно боль вдоль руки.
Нам встретился человек, бегущий с Агоры. На бегу он бил себя кулаком в грудь. Когда я поймал его за руку, он вскинул глаза – это был взгляд попавшего в ловушку зверя.
– Что случилось? – спросили мы. – Что за вести?
Он покачал головой, как будто не умел говорить по-гречески.
– Я был на Мелосе, – пробормотал он. – О Зевс, я был на Мелосе! А теперь мы увидим это здесь!
Он вырвал руку и понесся к своему дому.
Там, где улица выходила на Агору, в самом узком месте она была забита людьми, пытающимися протолкаться вперед. Когда мы полезли в толчею, человек, пробивавшийся в обратном направлении, кое-как вырвался из толпы прямо перед нами. Он остановился на миг, шатаясь, и упал.
– Что случилось? – закричали мы.
Он оперся на локоть и вырвал прокисшим вином. Потом голова его качнулась к нам.
– Долгой жизни тебе, триерарх!.. По этой улице идти к бабам?
Лисий объяснил:
– Этот человек – гребец с "Парала". – И принялся трясти его обеими руками, крича прямо в ухо: – А ну отвечай, будь ты проклят!
Тот кое-как поднялся на ноги, бормоча:
– Сейчас, сейчас, начальник…
Вытер рот тыльной стороной ладони и объявил:
– Спартанцы идут.
И начал блевать снова. Когда он избавился от всего выпитого, мы поволокли его к общественному фонтану и сунули голову под струю воды. Он сел на камень, свесив руки.
– Я был пьян, – жаловался он. – Я истратил последний обол, а вы меня протрезвили…
Спрятал лицо в ладони и зарыдал.
Наконец он немножко пришел в себя и заговорил толком:
– Простите меня. Мы не выпускали из рук весла три дня, спешили принести весть… Флот уничтожен. Мы так думаем, кто-то продал нас Лисандру. Весь флот захвачен врасплох на берегу у Козьей речки; ни помощи, ни укрытия, ничего. Стерт с лица земли, прикончен, скатан как книга.
– Но что вы там делали? – воскликнул Лисий. – Это ведь добрых два десятка стадиев от Сеста, там ни гавани, ни припасов. Вас что, загнали на берег?
– Нет, мы стояли там лагерем.
– У Козьей речки? Лагерем? Ты что, все еще пьян?
– Хотел бы я быть пьяным… Но это чистая правда.
Он ополоснул лицо в фонтане, выкрутил воду из бороды и продолжил:
– До нас дошла весть, что Лисандр захватил Лампсак. Мы пошли за ним в Геллеспонт, мимо Сеста, к самому узкому месту пролива. Потом стали лагерем у Козьей речки. Оттуда Лампсак простым глазом видно.
– О великий Посейдон! – воскликнул Лисий. – Но ведь и вас было видно из Лампсака!
– Мы вышли утром в боевом порядке навстречу Лисандру. Но старый лис вцепился в берег. На следующий день – то же самое. Потом у нас кончились припасы. Пришлось нам отправиться в Сест на рынок, а после мы вытащили корабли на песок. Вот так прошли четыре дня. На четвертый вечер стали мы снова вытаскивать корабли и тут услышали окрик. Какой-то верховой спускался с холма – не деревенский парень: конь хороший, а на нем – словно сама ночь сидит. У него солнце садилось за спиной, но я подумал: "А я ведь тебя видел раньше". Тут еще какие-то молодые начальники были, тоже на него глядели, а потом вдруг, словно обезумели, кинулись к нему бегом и кричат: "Это Алкивиад!"
Ну, принялись они хватать его – кто за ногу, кто коня за уздечку, за что только держаться можно. Один-двое, я думал, сейчас разрыдаются. Ну, а для него ведь всегда было главней мяса и вина, чтоб перед ним преклонялись. Он, значит, у одного спрашивает, как, мол, отец, у другого – как друг; сами знаете, он ведь лиц никогда не забывает… А после и говорит: "Кто тут за главного?"
Они ему и назвали имена навархов. "А где они? – говорит. – Ведите меня к ним. Им сегодня же до ночи надо убраться с этого пляжа. Флот что, с ума сошел? Четыре дня уже, – говорит, – я смотрю, как вы тут торчите, выставили задницу прямо Лисандру под башмак, и я просто вытерпеть не смог. Выбрать такую позицию перед носом у неприятеля! А лагерь – поглядите только, ни часовых, ни рва. А на людей гляньте, расползлись отсюда до самого Сеста. Можно подумать, это неделя Игр в Олимпии!"
Кто-то взял его лошадь, и он пошел к шатрам стратегов. Те вышли поглядеть, что за шум. С виду они вовсе не так радовались, как молодые, и вполовину не так. Вряд ли они с ним поздоровались, даже напиться не предложили. И знаешь, что меня самое первое поразило? Какой он был вежливый с ними. Он никогда не был из тех, кто терпит пренебрежительное отношение, всегда мог отплатить вдвое. Но тут он им растолковал насчет лагеря, очень спокойно и серьезно. "Разве вы не видели сегодня, – говорит, – спартанских сторожевых кораблей, что наблюдали за вашим берегом? Лисандр сажает своих людей на корабли каждое утро и держит там дотемна. Если он ждет до сих пор, так потому лишь, что поверить не может. Он боится ловушки. Но когда до него дойдет весточка, что по ночам лагерь никем не охраняется, вы что думаете, станет он ждать дольше? Только не он, я этого парня знаю. Каждую минуту, что вы тут сидите, вы ставите на кон флот, а вместе с ним – и Город. Собирайтесь, вы к ночи можете уже быть в Сесте".
Они его внутрь не впустили, снаружи держали, так что там было чего послушать. Я слышал, как наварх Конон бурчит себе в бороду: "Точно то самое, что я им говорил". А после выходит вперед Тидей, один из новых стратегов. "Спасибо тебе, – говорит, – пребольшое, Алкивиад, что учишь нас нашему делу. Ты для этого самый подходящий человек, мы все знаем. Может, тебе по нраву пришлось бы снова покомандовать флотом, а может, есть у тебя другой приятель по чаше, которому ты захочешь этот флот оставить, пока сам будешь бегать по Ионии за бабами. Интересно мне знать, что про это думали афиняне, когда поставили нас командовать вместо тебя? И все ж таки поставили. Ты свой удар по мячу [106] сделал. Теперь наша очередь, так что всего тебе хорошего".
Тут он покраснел, но, несмотря на такой прием, голову держит высоко. И говорит – хладнокровно, медленно, с этой своей растяжечкой: "Вижу, говорит, – я зря потратил свое время, да и ваше тоже. А Лисандра я уважаю за две вещи: он знает, как добыть деньги и где их потратить". Повернулся и ушел, пока они чесались, чего бы ответить.
К нему было не пробиться, как толпа увидела, что он уезжает. Когда подвели к нему лошадь, он сказал: "Больше я ничего не могу сделать, да если б и мог, так сперва хотел бы увидеть их в Гадесе. Они – неудачники, им на роду написано потерпеть поражение, – вот так он сказал. – У меня все еще есть дружок-другой по ту сторону пролива. Я б мог устроить Лисандру всякие хлопоты в Лампсаке. Мне стоит только в трубу затрубить из своей крепости, как тут же поднимутся три тысячи фракийцев. Раньше они никого хозяином не звали, но за меня в бой пойдут. Я в здешних местах царь, – говорит. – По всему царь, кроме разве что названия".
Залез он на свою лошадь, глядя в море этими своими голубыми глазами, а после крутнул коня и ускакал к себе в горы, где у него крепость.
В ту ночь наш старик на "Парале" ни одного человека на берег не отпустил. И наварх Конон на своих восьми кораблях тоже. А остальные продолжали все как прежде. И вот на следующую ночь пришли спартанцы…
Пока наши мысли, словно обессилевшие бегуны, поспевали, хромая, за его рассказом, он поведал нам о битве – или, вернее сказать, о побоище: как флот Лисандра с его отборными гребцами несся в сумерках; как Конон, единственный из всех навархов не потерявший головы и чести, пытался успеть везде сразу; рассказал о кораблях, на которых была половина воинов и ни одного гребца, о кораблях, где набралось бы гребцов на один ярус, зато ни одного воина. Конон видел неизбежный конец и увел свою маленькую группу кораблей вместе с "Паралом"; что не потонуло, уже выигрыш, как говорят старые морские волки. Спартанцы не стали утруждаться погоней за ним. Их вполне устроил собранный урожай: сто восемьдесят парусов, все морские силы афинян, стояли на берегу у Козьей речки, как ячмень, дожидающийся серпа.
Наконец рассказ завершился; человек этот продолжал говорить, как водится в таких случаях, но мне казалось, что наступила мертвая тишина. Потом Лисий проговорил:
– Мне жаль, что я выгнал из тебя хмель. На, держи, и начни снова.
Молча шли мы бок о бок по улицам между домами, которые плакали и шептались. Опускалась ночь. Я поднял глаза к Верхнему городу. Храмы стояли черные, без огонька, и медленно таяли в черноте неба. Хранители забыли об алтарях. Как будто сами боги умирали.
Лисий положил руку мне на плечо со словами:
– Мидяне взяли этот город и предали огню. Но олива Афины на следующий день выбросила зеленый побег.
И мы с ним соединили руки в знак того, что мы – мужи, которые знают, что пришло время страданий. А потом разошлись – он пошел к своей жене, а я – к отцу, ибо в такое время положено человеку быть вместе со своими домашними. Всю ночь можно было видеть на улицах освещенные окна там, где бессонные люди вновь зажигали лампады; но на Акрополе – только ночь, и тишина, и медленное вращение звезд.








