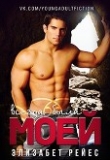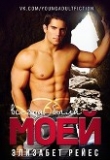Текст книги "Братья"
Автор книги: Майкл (Микаэль) Бар-Зохар
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 36 страниц)
Ближе к вечеру начали прибывать первые крытые грузовики с польскими военнопленными в сопровождении красноармейцев. Поляки были одеты в грязную полевую форму, в которой они были захвачены. Операция проходила с высокой эффективностью. Катынский лес был разбит на участки, и каждому взводу НКВД досталось по нескольку таких делянок. Как только грузовик останавливался на поляне, пленники поступали в распоряжение офицеров НКВД. Они связывали полякам руки за спиной и гнали их на одну из делянок. Затем стрелки выстраивались за спинами приговоренных, держа оружие наготове и ожидая назначенного времени.
Через каждый час в начале следующего они должны были расстреливать пленных из автоматического оружия, а затем приканчивать их из револьверов. В эти минуты от автоматных очередей и пистолетных выстрелов на деревьях дрожал каждый листок, словно в лесу шел нешуточный бой. Строгий приказ запрещал стрельбу в иное время, кроме указанных промежутков, чтобы предотвратить попытку восстания среди остальных пленников, которые пока не догадывались об ожидающей их судьбе. Им только сообщили, что их перевозят в другой лагерь. Тела расстрелянных оставляли там, где их настигли пули. Похоронами должны были заниматься другие подразделения. Закончив работу, взвод возвращался на поляну и встречал следующий грузовик.
Операция беспрерывно продолжалась трое суток. Морозов старался изо всех сил. В самый первый раз он немного колебался – всего какую-то долю секунды, потому что ему не приходилось прежде стрелять в живого человека. Однако он быстро справился с собой и пристрелил своего первого поляка молодого парня с растрепанными пшеничными волосами. Лица его Морозов видеть не мог, но плечи паренька слегка вздрагивали: он догадался, что сейчас умрет. Борис же очень надеялся, что никто но заметил его секундного колебания. Потом ему было гораздо легче.
На протяжении трех этих дней он действовал совершенно автоматически, словно заведенный: конвоировал пленных от грузовиков к очередной поляне, перезаряжал оружие и стрелял, стрелял без конца. Он знал только одно – он поступает правильно. Еще в училище НКВД до него дошли слухи о массовых казнях врагов революции, и не только иностранцев, но и русских. Это было неизбежным злом; красный террор был ответной реакцией, революция защищалась. Еще Ленин указывал, что классовый враг должен быть уничтожен без всякой пощады.
И все же ему было немного не по себе. Он никак не ожидал, что польских офицеров окажется так много. Счет шел уже на тысячи. Большинство пленных были очень молоды; почти мальчишки, они были совсем непохожи на врагов революции. Однако Борис держал свои мысли при себе. Один из офицеров третьей роты, осмелившийся оспорить приказ, попал под трибунал и был расстрелян перед строем лично комбатом Григорьевым.
На второй день они получили новый приказ. Следы расправы стало уже невозможно скрывать от прибывающих партий польских офицеров: мертвые тела валялись по всему лесу. Теперь пленных под дулом автомата гнали на ближайший участок и там торопливо расстреливали.
Утром третьего дня, когда весь лес дрожал от выстрелов и отчаянных криков, рядом с Морозовым вырос поджарый смуглолицый офицер.
– Это ты Морозов?
Борис кивнул.
– Пошли со мной, там тебя кто-то спрашивает.
Они бегом пересекли лес, петляя между грудами наваленных как попало тел. Мощные бульдозеры копали могилы и сгребали трупы в яму. Бойцы из вспомогательного подразделения обрабатывали ямы негашеной известью: стояло лето, и мертвых необходимо было похоронить как можно скорее, чтобы избежать вспышки инфекции.
– Ну вот и пришли, – сказал офицер, слегка задыхаясь от быстрого бега. И он, и Борис вспотели.
На небольшой полянке распростерлось в траве около двух десятков недавно расстрелянных поляков. Один из пленных, судя по нашивкам – майор, сидел на корточках под деревом под присмотром двух чекистов.
– Вот он, – сказал сопровождающий.
Один из русских, огромный и тучный, повернулся к Борису. К его нижней губе прилипла папироса.
– Это ты Морозов? А у нас для тебя сюрприз. Этот человек все время выкрикивал твое имя, вот мы и решили оставить его для тебя.
– Мое имя? – Морозов ответил изумленным взглядом. – Как он узнал...
– А он и не узнавал, – пояснил толстый. – Он все кричал: "Морозов, Морозов, Борис Морозов! Знает кто-нибудь Морозова?" Вынь да положь ему Морозова. Вот Сашка сказал, что знает одного Морозова в седьмом взводе, он кивнул на своего товарища, – вот мы и решили послать за тобой. Знаешь этого типа?
Он приблизился к поляку и сильно пнул его ногой, заставляя повернуться. Пленник поднял голову. Его щеки заросли щетиной, от угла глаза до подбородка спускался толстый багровый рубец, а губы были разбиты. В его глазах застыл ужас, но при виде Морозова они вдруг вспыхнули радостью.
– Борис! – простонал он по-русски. – Борька! Слава богу, это ты...
Морозов застыл как громом пораженный. Это был Хенрик Лещинский, дядя его жены.
– Борька, милый, скажи им, кто я такой! – Хенрик попытался подняться, но толстый чекист снова ударил его, и он упал навзничь. Изо рта его сочилась кровь.
– Итак, кто он такой? – спросил толстяк уже у Морозова, подозрительно нахмурившись.
Борис уставился на родственника, не в силах выдавить из себя ни слова. Он вспомнил его теплые дружеские объятия во время их с Мариной свадьбы, вспомнил прекрасную вазу из тонкого дрезденского фарфора, привезенную им в подарок. Они вместе пили часами за столом, вместе плясали гопака, положив руки на плечи друг другу. Словно наяву перед его глазами предстала и Марина в белом платье и в венке из лент и цветов. Марина хлопала в ладоши и смеялась.
– Помоги мне, Борька, – взмолился Хенрик дрожащим голосом. – Ради Марийки. Пожалуйста, Бог тебя благословит!
В мозгу Бориса мчались, обгоняя одна другую, бессвязные мысли. Хенрик был дядей Марины, его родственником, он не мог быть врагом Советского Союза! Но он видел все, что творилось здесь, в Катыни. Он должен умереть. Теперь его никто уже не мог спасти.
"А что же будет со мной? – подумал Борис. – Что будет с Мариной и детьми?" Если станет известно, что среди его родственников есть офицер польской армии, он очень быстро окажется в лагере. Может быть, его даже пристрелят из соображений безопасности. И Марину, его Марину тоже отправят так далеко, что он никогда больше ее не увидит. Он прекрасно знал, как все это делается.
При мысли об этом он почувствовал прилив ненависти к этому чертову поляку, который своим неожиданным появлением поставил под удар его карьеру, семью и саму его жизнь.
"Проклятый сукин сын, – пробормотал он про себя. – Сам виноват, тебе не нужно было вообще вступать в польскую армию".
И он потянулся за своим пистолетом.
– Так кем он тебе приходится? – снова повторил толстый офицер, подозрительно сверля Морозова крошечными свиными глазками.
Хенрик понял, что сейчас произойдет.
– Ради Христа, Борис, не делай этого! – Он молитвенно сложил на груди руки, и слезы потекли по его избитому лицу. – Бог не простит тебя, Борька, умоляю тебя...
Морозов нацелил пистолет в исказившееся лицо Хенрика и нажал на спусковой крючок.
В тот же день поздно ночью они закончили свою страшную работу. В лагере их ожидала колонна грузовиков. Прежде чем погрузиться в машины, они по очереди подходили к длинному столу в центре поляны и в мигающем свете керосиновой лампы давали подписку о неразглашении секретных сведений. По мнению товарищей Бориса, ими было расстреляно от двенадцати до пятнадцати тысяч поляков.
Когда колонна машин выезжала с поляны, бульдозеры еще работали, сталкивая тела в ямы и слой за слоем засыпая их плодородной белорусской землей.
В темном кузове грузовика царило оживление. Друзья Морозова шутили, стараясь стряхнуть с себя страшное напряжение, накопившееся внутри у каждого за последние дни. Борис не принимал участия в общем веселье. Отчаянные мольбы Хенрика все еще звучали в ушах, а исполненные страдания глаза виделись как наяву, стоило только смежить веки. "Бог никогда не простит тебя..." Припоминая последние слова Хенрика, Борис вздрагивал. Хотя его старушка мать верила в Бога, сам он, конечно же, был атеистом. И все же он никак не мог справиться с собой и избавиться от угрызений совести. Он убил дядю жены, человека, который не причинил ему никакого зла. А все остальные, кого он расстреливал, – неужели все они были врагами? Что такого сделали эти вчерашние мальчишки? И Морозов вдруг подумал, что если Бог есть на свете, то божья кара за эти преступления рано или поздно настигнет его.
Эта сводящая с ума мысль преследовала его на протяжении нескольких долгих и трудных лет, пока шла война. Он не знал покоя, ни когда служил в Латвии, где НКВД организовывал широкую сеть резидентуры; ни когда уже во время войны с Германией оказался прикомандирован к армии Конева в качестве специалиста по контрразведке; ни когда после разгрома советских войск под Вязьмой возглавил разведку автономного партизанского соединения под Смоленском; ни даже тогда, когда весной 1944 года вместе освобождал от фашистов развалины родной Шепетовки.
Украина была оккупирована германскими войсками уже летом 1941 года, и Морозов не видел свою семью целых пять лет. Лишь только ему представилась такая возможность, он сел на штабной джип американского производства и поехал к своим. Город лежал в руинах, большинство домов было уничтожено пожарами или прямыми попаданиями снарядов. Мрачные предчувствия терзали его. Станция и депо, конечно, превратились в развалины, а ближайшие дома были разрушены до основания, однако их ветхий домик чудом уцелел. Он подбежал к нему, но остановился на крыльце, встревоженный тишиной. Дом, в котором живут дети, не мог быть таким безмолвным.
– Боря! Боренька, это ты?
На крыльце появилась его мать. Она постарела, согнулась и была одета в какое-то грязное тряпье, но она была жива! Однако одного лишь взгляда на ее лицо оказалось достаточно, чтобы Борис понял: сбылись его самые страшные предположения.
Той же ночью мать рассказала Борису, что Марину повесили через несколько недель после того, как немцы заняли Шепетовку. Нашелся предатель, который донес в комендатуру, что ее муж был офицером НКВД. Его маленьких дочерей застрелили. Вытирая катящиеся по лицу слезы, Варвара Морозова сообщила сыну, что не осталось даже могилки, на которую он мог бы отнести цветы. Всех гражданских, казненных фашистами, зарыли в общих могилах за городом.
Борис в ужасе слушал ее страшный рассказ. Все услышанное той ночью лишь подтверждало то, что он подсознательно чувствовал все это время. Он и не надеялся застать свою семью целой и невредимой. О том, что произошло в Катыни, он рассказать матери не мог – это были секретные сведения, однако в глубине души он понимал, что гибель жены и дочерей стала карой ему за смерть Хенрика Лещинского. От этого ощущения Борис не мог отделаться, несмотря на весь свой атеизм. И еще он чувствовал, что воспоминания об этом преступлении будут преследовать его всю оставшуюся жизнь.
Ему понадобилось всего три недели, чтобы найти человека, выдавшего Марину немцам. Им оказался Геннадий Архипенко, один из украинских националистов, которые надеялись с помощью немцев создать независимое украинское государство. Морозов отыскал его прячущимся в хлеву неподалеку от деревни Полянка. Свои счеты с Архипенко он свел при помощи длинного штыка, снятого с убитого немецкого солдата.
Вскоре Морозов покинул Шепетовку, решив никогда больше сюда не возвращаться. Он надеялся полностью стереть в памяти эту главу своей жизни. Очутившись в штабе армии он подал рапорте просьбой о переводе в "Смерш" секретное подразделение армейской контрразведки, которое было создано генералом Абакумовым: Название этого подразделения было образовано в результате сокращения слов "Смерть шпионам", и его сотрудники занимались тем, что выслеживали вражеских разведчиков, предателей и тех, кто сотрудничал с оккупационными властями во время войны. Всех их безжалостно ликвидировали.
Борис, получивший к этому времени звание капитана, с фанатическим самоотречением погрузился в работу. Его отдел, продвигаясь вместе с войсками сначала по территории СССР, потом по территории Польши и, наконец, Германии, выискивал и обезвреживал предателей Родины, польских фашистов, скрывающихся от возмездия офицеров СС. С особым рвением Борис выслеживал украинцев, стремясь отомстить за смерть Марины всем тем, кто пособничал врагу на оккупированных территориях. Память о погибшей жене стала для него святыней: он ни разу не прикоснулся ни к одной женщине.
После окончания войны Морозов некоторое время работал в Берлине, выслеживая семьи украинских националистов, переправленных гитлеровцами на Запад, и распределяя их жен и детей по лагерям в Сибири. По возвращении в Россию он получил звание майора и продолжил свою борьбу против украинских контрреволюционеров и националистов.
После краткого курса английского языка его направили в Западную Европу для работы против украинских политэмигрантов, вынашивавших планы создания на родине подрывной националистической организации. Он лично задержал двух лидеров украинского националистического движения, направлявшихся в США для создания там координационного центра на деньги ЦРУ. Борис сел вместе с ними на поезд Париж – Гавр и пристрелил обоих прямо в купе.
Следующим его заданием была подготовка надежных маршрутов внедрения и системы связи для советских агентов, выслеживающих на Западе украинских беженцев. В 1948 году он вовсю действовал в Нью-Йорке, официально числясь шофером советского консула. Вскоре, однако, он вынужден был завершить и эту главу своей карьеры, так как его разоблачил Юрий Соснов – один из первых сотрудников НКВД, бежавших на Запад. Морозову с трудом удалось бежать в Мексику.
После возвращения в Москву его вызвали в штаб-квартиру НКВД на Лубянку к генералу Ткаченко. Сам Ткаченко, старый чекист с обвислыми усами и впалой грудью, руководил Вторым Главным управлением НКВД.
– Мы создаем отдел по еврейским делам, – сказал генерал и так закашлялся, что все его высохшее тело затряслось от страшного приступа. Товарищ Берия ожидает неприятностей с этой стороны, – продолжил генерал, не уточнив, однако, что это за неприятности. – Мы хотим, чтобы вы возглавили этот отдел.
Морозов воспринял новое назначение без всякого энтузиазма. Евреи были ему ничуть не интересны, к тому же в прошлом он никак не сталкивался с ними. Только в далеком детстве, в Шепетовке, они с пацанами стайками носились по улочкам, на которых жили эти самые евреи. Бывало, что они били камнями стекла в окнах еврейских домов или дразнили на улицах бородатых мужчин в смешных шапочках. Иногда они таскали за пейсы еврейских детишек, которые с плачем разбегались, крича что-то на непонятном языке. Но дальше этого его знакомство с евреями не заходило.
Одним из первых заданий его отдела стало расследование деятельности Антифашистского комитета. Инструкции и пухлое досье поступили непосредственно из канцелярии Берии. На самом деле никакого расследования и не требовалось, так как все свидетельства и улики уже были тщательно подобраны. И все же Морозову пришлось занять своих людей этой работой. Сам он, будучи оперативным работником, лично руководил расследованием.
Однажды вечером на одном из открытых заседаний Комитета ему показалось, что он увидел призрак, призрак своей Марины. Это была молодая женщина с такими же золотистыми волосами, с такой же озорной улыбкой и такой же гибкой изящной фигурой. Вот уже несколько лет, как Морозову казалось, что какая-то часть его души умерла и он никогда уже не почувствует влечения к женщине, но в ту ночь он так и не мог уснуть. Старые раны снова открылись, забытая было боль пронзила его словно ножом, но впервые за это время он обнаружил в своей душе слабый огонек надежды.
Женщина, которая так поразила его, была еврейской поэтессой, и звали ее Тоня Гордон-Вульф.
На следующий день Морозов послал своего помощника в книжный магазин за книгами Тони Гордон. Потом он допоздна сидел в своем кабинете и читал, склонившись над маленькими книжицами. Стихи ему понравились, но чтение их превратилось для него в пытку, потому что со страниц вставало перед ним лицо Марины. Ее голос, декламирующий эти стихи, эхом звучал у него в ушах.
Когда он читал стихотворение, посвященное героям Великой Отечественной войны, голос Марины был исполнен торжественности; когда он натыкался на любовную лирику, тот же голос страстно нашептывал ему мелодичные строки; если ему попадались веселые детские сказки, Борису казалось, что голосу матери вторит беззаботный смех его маленьких дочерей.
В последующие дни он разыскивал и с жадностью поглощал все написанное рукой Тони Гордон. Он послал фотографа со скрытой камерой к ее дому и заставил прождать его на улице несколько часов, пока тому не удалось сделать несколько снимков. Когда из лаборатории принесли ему пачку глянцевых фотографий, он подолгу рассматривал каждую, впитывая малейшие черточки ставшего родным лица. Большую часть фотографий он положил в правый верхний ящик своего рабочего стола, но четыре из них постоянно лежали на столешнице перед ним. На одном из снимков – самом его любимом – Тоня улыбалась кому-то, поправляя рукой длинные волосы, которые шаловливый ветер бросал ей в лицо. Для него это была Марина, которая снова улыбалась ему и отводила от лица свои длинные золотистые волосы.
Из архива управления он запросил ее досье и вскоре знал о ней почти все. Он узнал о ее киевском детстве, об отъезде сестры сначала в Палестину, а потом в Америку, узнал о том, что ее брат изучал медицину и теперь работает в Васильевском госпитале в Ленинграде. Узнал он и о ее побеге из дома с Виктором Вульфом, и об их переезде в Москву, который, по всей вероятности, спас им жизнь. Через два месяца после их отъезда Киев был захвачен фашистами, которые с невиданной жестокостью уничтожали все еврейское население.
Наконец он понял, что без памяти влюблен в Тоню Гордон. Он поймал себя на том, что выдумывает предлоги, чтобы каждый день ходить мимо ее дома на улице Кирова. На собраниях Антифашистского комитета он слушал, как Тоня читает свои новые стихи, и однажды даже осмелился попросить у нее автограф. Она улыбнулась и надписала ему книгу. Нет, у нее не было на щеках таких же ямочек, как у Марины, и смех ее не был таким звонким и серебристым. И все же она была невыразимо прекрасна, а в ее глазах, в ее голосе и ее стихах он обнаружил романтическую жилку и проницательный ум, которыми не обладала его Марина.
Ему было ясно, что он не остановится ни перед чем, лишь бы завоевать эту женщину.
Стоя у зарешеченного окна, полковник Морозов нервно провел рукой по волосам. Он добился ее, используя все известные ему приемы своей профессии. Сначала, стремясь завоевать доверие начальства, он вызвался провести ликвидацию Михоэлса в Минске. Именно он сидел за рулем тяжелого грузовика, сбившего Михоэлса на Октябрьской улице, когда старик шел к своей двоюродной сестре. Именно после того, как он доставил тело Михоэлса в городское управление НКВД, ему предоставили полную свободу действий в отношении Антифашистского комитета. Разумеется, он никогда не говорил Тоне, что убил Михоэлса.
Однако самым страшным секретом, который он тщательно от нее хранил, была его собственная роль в судьбе ее мужа.
Виктор Вульф был чист, как свежевыпавший снег. В досье, которые Морозов получил из канцелярии Берии, ни одна ниточка не вела к Виктору и Антонине Вульф, против них не было ни одной улики, ни одного свидетельства. Их имена даже не были включены в список еврейских писателей, подозревавшихся в измене родине. Морозова это не устраивало. До тех пор, пока Виктор Вульф оставался на свободе, он не мог и мечтать о том, чтобы сделать своей Тоню Гордон. Если он хотел обладать ею, мужа необходимо было устранить.
Несколько ночей Морозов провел без сна, разрабатывая план и фабрикуя ложные свидетельства против Виктора. Так в досье еврейских писателей появились подложные рапорты о контактах Виктора с западными дипломатами, письма, которыми якобы обменивались Виктор и еврейские лидеры в Америке. Фальшивки он получил от умельцев службы "А" Первого Главного управления. Это было легко. Ему нужно было только объяснить им, чего он хочет, и вскоре он уже держал в руках необходимые документы. Приказы столь высокопоставленного офицера НКВД никто и не думал подвергать сомнению.
Меньше чем за две недели он состряпал на Виктора Вульфа "железное" дело. Канва этого дела была безупречной, и, когда досье попало в руки генерального прокурора, Виктора обвинили в измене родине и арестовали. Морозов же был слишком окрылен своим успехом, чтобы задуматься над моральной стороной своего поступка. Виктор Вульф сошел со сцены, а Тоня, испуганная, беременная и одинокая, сама упала в его подставленные руки как перезрелый плод.
Но Морозов был уже не молод. Возраст, война, потеря семьи заставили его ожесточиться. Даже назначение на должность заместителя начальника ВГУ не смогло рассеять его-"подавленного настроения. Он способен был чувствовать радость, только когда Тоня была рядом с ним, хотя он знал, что она не любит его. К маленькому Саше он относился как к родному сыну, может быть, отчасти потому, что его отца он упек в воркутинские лагеря. Возвращаясь вечерами с работы, он часто и с удовольствием играл с малышом, а когда родился Дмитрий, его собственный сын, радости его не было предела.
Ему удалось сделать невозможное – склеить из кусочков свою разбитую жизнь. У него снова была семья – прелестная жена и маленький сын. Когда Дмитрию исполнилось два года, они съездили в Шепетовку, чтобы навестить его старую мать, которая хотела посмотреть на внука. Эту поездку он предвкушал одновременно и с радостью, и со скрытым страхом, так как боялся, что в памяти снова оживут болезненные воспоминания прошлого. Ему казалось невыносимо тяжелым снова увидеть места, столь тесно связанные с памятью Марины.
К его большому удивлению, ничего подобного не произошло. Когда он увидел свой старенький домик в конце Козьего переулка, впоследствии переименованного в улицу Красных кавалеристов, он лишь почувствовал в груди короткий болезненный укол, и это было все. Морозов понял, что Тоня вытеснила Марину из его сердца.
Но как раз в тот момент, когда он решил, что страдания его остались позади, неприятности посыпались одна за одной. Словно далекий гром предвестник надвигающейся грозы, первые признаки грозящей ему беды появились в Чехословакии. Министр иностранных дел республики Рудольф Сланский и вместе с ним еще два десятка высокопоставленных чиновников, евреев по национальности, были арестованы, предстали перед судом и были признаны виновными в разведывательной деятельности в пользу Великобритании. Большинство из них было повешено. В распространенном правительством Чехословакии заявлении особенно подчеркивалось их еврейское происхождение. Полковник Зорин, отвечавший в НКВД за координацию деятельности с чешскими товарищами, сказал Морозову, что ходом судебного заседания руководили из Кремля.
Через несколько недель волна антисемитизма докатилась и до Москвы. Придя однажды утром на службу, Морозов узнал, что все высокопоставленные сотрудники НКВД еврейской национальности были накануне арестованы. Среди арестованных были шеф контрразведки генерал Райхман, заместитель начальника Пятого Главного управления генерал Грауэр, а также полковник Горский, который напрямую руководил в Лондоне знаменитым Кимом Филби. В тот же день в тюрьме оказался и Михаил Бородин, соратник Ленина и военный советник Чан Кайши. Там ему и суждено было умереть. Его сын тоже оказался в тюрьме на Лубянке.
– Похоже, Борис Артемьевич, – сказал Морозову в перерыве между двумя приступами кашля генерал Ткаченко, – что кто-то, – он посмотрел куда-то вверх, потом опустил глаза, – объявил евреям настоящую войну.
Морозов кивнул в знак того, что намек на Сталина он понял.
– Я не знал... – начал он.
– Конечно же, нет, – перебил его похожий на мумию генерал и странно посмотрел на него. – И это меня тревожит больше всего, сынок.
– Мы должны были бы первыми узнать об этом, – упрямо повторил Морозов. – В конце концов, именно я занимаюсь еврейским вопросом.
– Это дело не передали в твой отдел, – снова последовал странный, многозначительный взгляд. – Возможно, что кое-кто перестал ему доверять.
Смысл намеков Ткаченко дошел до него, только когда он возвратился в свой кабинет. Он впал в немилость из-за своей женитьбы на еврейке, которая когда-то была членом Антифашистского комитета.
Кроме этого, как и у каждого руководящего сотрудника НКВД, у него были свои враги: офицеры, имевшие на него зуб за какие-то его действия, или просто карьеристы, метившие на его место. Достаточно было хоть малейшего проявления его слабости и уязвимости, чтобы они бросились на него словно стая волков. А признаки эти были, и первый, самый главный из них состоял в том, что он лишился доверия начальства. Теперь враги разорвут его в клочья.
В последующие несколько недель его подозрения превратились в уверенность. По стране прокатилась настоящая антисемитская кампания, однако о принятых мерах Морозов и его отдел узнавали одними из последних. В Москве закрылся Еврейский театр, перестали выходить еврейские газеты, один за другим исчезали еврейские ресторанчики. Арестованы были даже жены руководящих работников наркоматов, которые были еврейками по национальности, в том числе и Жемчужина-Молотова, супруга бывшего наркома иностранных дел в правительстве Сталина.
Все это Морозов узнал из обрывков слухов и проверенных сведений, которые случайным образом достигали его кабинета. В этой широкомасштабной операции он не принимал никакого участия. Все аресты и смещения с постов производились сотрудниками Первого Главного управления, которое обычно занималось разведывательной деятельностью и секретными операциями за рубежом и не имело никакого отношения к еврейским делам.
Впервые в жизни Морозов ощутил страх. В НКВД отсутствие доверия со стороны начальства означало первый шаг к эшафоту.
Он постоянно спрашивал себя: что он мог бы сделать, чтобы спасти Тоню и детей? Что ему делать, чтобы спасти себя? Ему некуда и не к кому было обратиться, единственным возможным выходом для опального сотрудника НКВД было бежать на Запад, но Морозов знал, что никогда не сможет стать предателем Родины.
Пока он беспомощно раздумывал, откуда будет нанесен следующий удар, началось "дело врачей". Затем настала очередь Тони.
В отчаянии он потребовал приема у Берии. Берия отказал ему без объяснения причин, но Морозов прекрасно знал, что это означает – вскоре после смерти Тони настанет и его черед.
Вчера, после того как Тоня и дети встретились в последний раз, он отвез их домой, асам вернулся на Лубянку. Всю ночь он просидел в своем кабинете, скорчившись за столом и глотая стакан за стаканом обжигающую внутренности водку. Когда в комнату вполз серый рассвет, он деревянными шагами приблизился к окну. Сегодня на рассвете Тоня должна была умереть.
Морозов попытался отвернуться, но его взгляд снова и снова возвращался к окну. Когда он получал ключи от этого кабинета, офицер-администратор пошутил, что отсюда он время от времени сможет наблюдать "веселые комедии". Но ничей, даже самый извращенный ум не мог бы предвидеть, что "комедия" может превратиться в самую мучительную пытку, которой когда-либо подвергался человек. Морозов должен был стать свидетелем смерти своей единственной и любимой.
Конечно, он мог отвернуться от окна, мог и вовсе не приходить в свой кабинет, однако разворачивающееся внизу действо с непреодолимой силой влекло его к себе точно так же, как взгляд змеи гипнотизирует кролика, заставляя его самого идти навстречу гибели.
На мгновение Морозов закрыл глаза, потом снова посмотрел вниз. Внутренний двор тюрьмы, где обычно приводились в исполнение приговоры, был мал и укутан густой тенью. Несколько сотрудников НКВД выстраивались за спинами стоявших у стены узников, оставляя в снегу глубокие следы. Из караульного помещения появился человек в полковничьих погонах и остановился посередине двора. Должно быть, он что-то сказал, так как стрелки зашевелились. Один из них – коренастый, плотный грузин подошел к крайнему справа заключенному и вытащил пистолет.
Борис наклонился вперед, не чувствуя, что упирается своим пылающим лбом в холодное стекло. Там, внизу, стояла в снегу женщина, которую он любил так страстно и сильно. Он уже ничего не мог предпринять, чтобы спасти ее. Глядя на то, как она стоит, повернувшись лицом к стене, покорно ожидая выстрела в затылок, он чувствовал себя бессильным и жалким. Ее взяли только потому, что не осмелились тронуть его. Пока не осмеливались. Скоро за ним тоже придут.
Он снова посмотрел вниз. Несколько тел в нелепых, неестественных позах застыли в глубоком снегу. В слабом утреннем свете пятна алой крови вокруг их голов казались черными. Палач, неуклюже переваливаясь, остановился как раз за спиной Тони. Должно быть, она услышала его шаги и хруст снега за спиной, так как Борис увидел, как она выпрямилась, с вызовом отбросив назад свои дивные волосы. Грузин поднял пистолет.
Морозов с трудом сглотнул. Он был словно парализован, не в силах пошевелиться, не в силах закричать. Выстрела он не слышал: двойные рамы отлично поглощали звук.
Он видел, как Тоня вздрогнула, а потом медленно, даже изящно повалилась вперед. Золотистые волосы рассыпались по снегу, а кровь медленно сочилась из раны на голове.
Не оборачиваясь, Морозов нашарил за спиной крышку стола и вцепился в нее мертвой хваткой. "Тоня умерла, – сказал он самому себе. – Тони больше нет. Это не кошмар, это все происходит на самом деле. Тоня умерла".
Он знал, что скоро последует за ней, быть может, точно так же убитый выстрелом в затылок таким же серым утром во внутреннем дворе тюрьмы на Лубянке.
Несколько часов спустя нерешительный стук в дверь заставил его вздрогнуть. Все это время он провел в своем кресле, ссутулившись и глядя перед собой невидящим взглядом, погрузившись в пучину тупого безразличия и апатии. Теперь он с трудом поднялся, чувствуя себя так, как будто все силы капля за каплей ушли из его тела.
– Войдите... – почти шепотом проговорил он, отворачиваясь к окну.
Вымощенный камнями внутренний двор был пуст: тела убрали, а снег смели. Ничто не напоминало о кровавой расправе, которая произошла здесь всего каких-нибудь два часа назад. Безумная мысль пронеслась в голове Бориса: может быть, все это был просто страшный сон, может быть, Тоня жива?