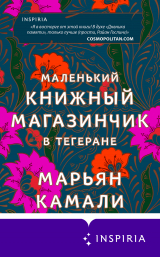
Текст книги "Маленький книжный магазинчик в Тегеране"
Автор книги: Марьян Камали
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 17 страниц)
– Ты плохо помнишь, что тогда было. Но ничего-ничего, – пробормотала она.
– Письма…
Его слова прервало цоканье каблуков. В холл вошла Клэр с пластиковым овальным подносом.
– Мистер Бэтмен, вам пора принимать лекарства! – Подойдя ближе, она увидела слезы в глазах Бахмана и покраснела от смущения. – Простите, если я помешала вам. Я могу прийти через несколько…
Ройя встала.
– Мне все равно пора идти. Давно пора. Меня ждет муж.
– Останься, – сказал Бахман. – Не уходи.
– Я скоро вернусь, – сказала Клэр.
– Нет, Ройя. Ты. Пожалуйста. Останься. Нам нужно многое обсудить.
– Меня ждет муж.
– Я уже начинаю понимать, – прошептал он.
– Вы хотите ланч? – спросила его Клэр.
Ройя стояла в своих серых туфлях на толстой подошве. У нее разрывалось сердце при виде плачевного состояния Бахмана – паркинсон плюс деменция, путаные воспоминания, затуманенное сознание. А ей хотелось увидеть того прежнего парня, который хотел спасти мир. Подумать только – ведь она когда-то любила его. Внезапно она ощутила страшную усталость.
– Снег, – сказала она наконец. – Он валит и валит, да так сильно. Нам долго ехать до дома. Я больше не могу задерживаться. Иначе дорога станет опасной.
В присутствии Клэр они перешли на английский. Ей было странно слышать, как Бахман говорил на чужом языке. Она хотела обнять его на прощанье, чтобы он хотя бы немного вспомнил то, что помнила она, и забыл плохое. Да просто хотела обнять его еще раз.
– Кто нас обманул, Ройя? Ведь кто-то это сделал. Я просил тебя прийти на площадь Бахарестан. Кто подменил наши письма?
Клэр взглянула на Ройю, потом на Бахмана. Пластиковый поднос накренился, и лекарства грозили упасть.
– Может, твоя сестра? Она никогда не любила меня. Или Джахангир? Знаешь, Ройя-джан, позже он признался мне, что был влюблен. – Он смущенно посмотрел на свои руки. – В меня. – Тут он снова поднял лицо. – Кто сделал нам такую пакость? Шахла никогда бы не смогла так поступить. Ты согласна? Может, господин Фахри? Но уж точно не моя мать.
У Ройи учащенно забилось сердце, когда на нее нахлынуло прошлое, когда люди, бывшие рядом с ними в то лето, проплыли у нее перед глазами. Она слушала мужчину, которого когда-то любила. Он так много потерял за свою жизнь, в том числе и рассудок.
– Прощай, Бахман.
– Приезжай ко мне. Когда сможешь. Ты так многого еще не знаешь.
28. 2013. Подсобка
Письмо Бахмана пришло по почте. Неужели так легко узнать адрес мистера и миссис Уолтера и Ройи Арчер? Достаточно лишь внимательно поискать в Сети? Ройя вскрыла конверт со странным чувством дежавю: она испытала такой же, как в те давние ушедшие годы, восторг, когда села на кухне – и это в семьдесят семь лет! – дожидаясь, когда из магазина вернется Уолтер.
«Дорогая Ройя-джан!
После нашей помолвки я хотел загладить свою вину перед тобой. Меня бесконечно огорчало, что моя мать пыталась испортить наш радостный праздник. Как мне хотелось, чтобы у меня была нормальная мать, добрая, которая не стала бы корежить мне жизнь своими стратегиями, расчетами и бесконечными планами устроить мою судьбу так, как хотела она. А ей хотелось, чтобы я сделал карьеру в этом лживом буржуазном мире, ее идеале. Ее бесконтрольные вспышки ярости приводили в отчаяние нас с отцом, лишали нас сил. Они накатывали подобно силам стихии, урагану, и тогда в нашем доме пропадала всякая видимость мира и покоя. Моя мать была больна. Она нуждалась в помощи. Но мы не знали, как ей помочь.
Несколько дней после нашей помолвки она чувствовала сильное возбуждение, не находила себе места. Отец посоветовал ей заняться каллиграфией. Он научил ее этому в надежде на успокаивающий эффект – чтобы ей было чем заняться, направить свою нервную энергию на что-то позитивное. Что удивительно – ей нравилось. Но ей никак не удавалось добиться мастерства и писать так же, как те, кто с детства учился этому искусству.
Навыками каллиграфии владели лучшие студенты того поколения. В элитарных школах их учили, как правильно держать перо, контролировать руку и проводить линии.
И конечно, потом я обнаружил, какой вред мог причинить этот навык, оценил ту пропасть, которую он создал между нами. Когда несколько дней назад ты пришла сюда, в Дакстонский пансионат, мне пришлось признать реальность своих худших опасений. Моя мать подменила наши письма. Вернее, она их переделала так, чтобы ты пришла на одну площадь, а я на другую. Никому это было не нужно, кроме моей матери, Ройя-джан. Она считала, что ее мир рухнет, если ее сын не возьмет себе в жены девушку, какую она выбрала для него. Но как моя мать добралась до тех писем? Ой, Ройя. Ответом на этот вопрос станет некая история. Позволь мне, сидящему в сумерках жизни в этом доме престарелых, рассказать тебе, что произошло в то лето.
Через две недели после нашей помолвки, в пятницу, матери не сиделось на месте. Она вскакивала, ходила по комнате. Жаловалась, что у нее горит все внутри, что она не может заснуть и слышит голоса. Она требовала холодную огуречную кожуру для глаз. Я чистил огурцы, что мне оставалось? Я клал их ей на веки. Я обмахивал ее бамбуковым веером, как ей всегда нравилось. У меня внутри все кипело, но я суетился вокруг матери в надежде, что она вот-вот успокоится, расслабится, утихомирит своих демонов.
Ничего не помогало. Она швыряла на пол огуречную кожуру. Говорила, что я даже не подозреваю, какую боль ей причиняю, что она хочет лишь одного – чтобы ее единственный сын общался с правильными людьми в высших кругах, чтобы у него была успешная жизнь, а все это принесет женитьба на Шахле. Она бубнила, как выбрала для меня Шахлу, говорила с ее родителями, все распланировала. Я хоть понимаю, от чего отказываюсь и что вообще делаю? Сама она была дочерью торговца дынями, и ее спасло то, что она вышла замуж за инженера, доброго и порядочного, а самое главное – из высшего общества. Разве я понимаю, продолжала она, что такое оказаться на обочине жизни, не иметь ни положения, ни перспектив, стремиться к хорошей жизни, но застрять среди бедняков из-за того, что твой отец неграмотный, из-за того, что ты родился не в том сословии? Я страшно злился. Сама она выскочила из бедности благодаря замужеству, а теперь, вместо того чтобы позволить мне жениться по любви, настаивала, чтобы я схватил ее эстафетную палочку и мчался дальше. Мне нельзя остановиться, повернуться, как будто моя женитьба на любимой девушке как-то испортит ее «успех», которого она добилась, бросив вызов судьбе.
Я поднял с пола увядшую огуречную кожуру, теплую от контакта с ее кожей. Мне было неприятно прикасаться к ней. Я спорил с матерью. Я сказал ей, какая ты умная, что у тебя высокие оценки, что ты усердно училась в школе. Я даже подчеркнул, что твой отец работает правительственным чиновником. И когда я сижу здесь в сумерках и пишу это письмо, мне больно думать, что я говорил те слова. Как будто был обязан убедить ее. Как будто недостаточно одной лишь нашей любви. Я поражаюсь своей бесхарактерности.
Мой отец принес свежий пузырек чернил, подвинул к матери ручку для каллиграфии и умолял ее, чтобы она написала несколько строк любимого стихотворения. Любых, только чтобы она переключилась со своей ярости на что-то другое.
– Если Бахман женится на той девице, я потеряю его. Я это знаю. Ройя не такая, как Шахла. Она не позволит мне сохранить наши прежние отношения. Словно мне мало того, что я потеряла других детей.
Отец сгорбился, услышав это, схватился за голову и замер.
Она выскочила из комнаты. Мы услышали, как она выдвигала на кухне ящики. Потом громко хлопнула дверь ее спальни. Все как всегда.
Мы с отцом сидели и настороженно молчали; ждали, когда рассеется ее гнев и пройдет буря. Я закрыл глаза и мысленно читал стихотворение Руми, чтобы как-то отвлечься. Потом мой нос уловил какой-то сладкий запах. Я открыл глаза. Пахло увядшими розами. Мать вернулась в гостиную, одетая и в макияже. Она вылила на себя слишком много духов. На щеках толстый слой румян. Она держала свою сумочку. Не успели мы с отцом сказать хоть одно слово, как она выскочила из дома.
Иногда, когда она выходила на улицу, мне казалось, будто в нашем доме исчезал удушающий слой сажи. Но на этот раз ничего подобного не произошло. Я не мог пошевелиться. Долго не мог. Я ждал, когда ко мне вернется энергия, чтобы встать и пойти за ней. Отец молчал. Он приуныл. Конечно, мы должны были пойти следом за ней. Кто знает, какие неприятности она может навлечь на себя в таком состоянии? Меня беспокоили ее безопасность и даже выражение лиц людей, мимо которых она пройдет по улице. Мать умела устраивать спектакли.
– Я пойду, – сказал я. – Приведу ее домой.
Я вышел из ворот. Я не знал, куда мне идти. Я проклинал себя за то, что слишком долго сидел на диване, что не побежал за ней сразу. Я не знал, куда она пошла, по какой улице. Потому что была пятница, священный день, люди отдыхали дома или молились в мечети, так что прохожих почти не было видно. Да и что я мог спросить у них? Видели ли они сердитую нарумяненную женщину?
Больше всего я хотел быть рядом с тобой. Хотел увидеть тебя, обнять, почувствовать, что ты рядом. Ноги сами несли меня к твоему дому. Но я должен был найти мать. Как-то раз она зашла к зеленщику и откусила верхушки у нескольких баклажанов, потому что, по ее словам, продавец обращался с ней как с простой крестьянкой-дахати. «Ты обращаешься со мной как со скотиной, вот я и буду вести себя так в твоей лавке!» – заявила она. Я готов был сгореть со стыда. В другой раз она пристала к торговцу свеклой и его юной дочке, когда они везли по улице свою тележку, и сказала ему, чтобы он не спускал глаз с дочери, потому что она может стать проституткой, шлюхой, потаскухой и забеременеть. Когда мать находится в таком маниакальном состоянии, жестокие слова вылетают из ее рта словно змеи, неожиданно и неудержимо.
Я нигде не мог ее найти. Лавки были закрыты на выходной, людей на улицах мало. Пару раз я видел издалека женскую фигуру, но это была не моя мать. Я искал ее, искал, ходил кругами и все больше отчаивался.
Измученный, со звенящими нервами, я пошел в единственное место, где мог успокоиться. Я знал, что господин Фахри иногда проводил по пятницам инвентаризацию в своем магазине или наводил порядок в подсобке. В школьные годы я даже помогал ему распаковывать коробки с книгами и гордился тем, что он называл меня своим помощником.
Я с облегчением услышал чистый звон колокольчика, когда открыл дверь в «Канцтовары». Она была не заперта, значит, господин Фахри был там, работал. Я вспомнил, как грубо мать разговаривала с ним на нашей помолвке, обвиняла его, что он потворствовал нашему роману. Думаю, что я хотел извиниться за нее, да и просто побыть рядом со спокойным, приветливым человеком.
Зайдя в магазин, я услышал приглушенные голоса; казалось, они спорили. Я посмотрел по сторонам, но никого не увидел. К знакомому запаху пыльных книг и канцтоваров добавился какой-то новый. Увядших роз. Запах духов моей матери.
Я пошел к двери подсобки. Голоса за дверью звучали громче. Внезапно пол показался мне неровным, а магазинные часы захрипели, как будто сломались. Я уже ненавидел запах тех духов. Мне страшно хотелось ошибиться. Но к этому времени я уже узнал голос матери.
– Скажи мне, что любишь меня, – слышал я ее слова.
– Не делай этого, Бадри. – Я никогда не слышал, чтобы господин Фахри говорил так растерянно. В этот момент я догадался, что так звучал его голос в детстве. Но почему он называл мою мать по имени? Что она там делала?
– Ты помнишь саблю, которой мой отец разрезал дыни? – сказала она. – Я ловко пользуюсь ею. Я взмахну сейчас этой саблей и положу конец боли, которую вы причинили мне. Ты был и всегда останешься бесполезным, жалким трусом, который убивает своего ребенка.
– Бадри, пожалуйста, – умолял господин Фахри.
Тогда я открыл дверь. Моя мать стояла на маленькой стремянке. Она раскинула руки в стороны. В правой руке она держала длинный нож. Я похолодел. Я убеждал себя, что нож просто висел на ее бедре. Она не могла держать его. Где она взяла его – на нашей кухне? Или отец рубил им куски мяса и он лежал у нас в кухонном ящике? В кривом лезвии отражались очки господина Фахри.
Быстрым движением она подняла нож. Потом вонзила его в свое горло.
Не помню, как я пронесся по подсобке, заставленной грудами книг, коробками с журналами и листовками. Я подбежал к матери, прыгнул и выхватил нож из ее руки. Когда мои ноги коснулись пола, я сжимал рукоятку так крепко, что едва не сломал руку.
– Бахман? – Кровь отхлынула от лица матери.
Противный металлический привкус наполнил мой рот. Меня чуть не стошнило. Все, что я мог, – это обхватить руками колени матери, стоявшей на стремянке. В руке я все еще сжимал нож.
Мать ласково погладила меня по голове. Когда я взглянул на нее, капли крови текли по ее шее.
Я разжал руку, и нож звякнул о пол.
Я стащил мать с лестницы. Она была в истерике. Ее мокрое от слез лицо покрылось красными пятнами. Она дотронулась рукой до раны на горле, потом посмотрела на кровь на своих пальцах.
– Гляди, на что ты меня толкнул, – сказала она. – Али, это все из-за тебя.
Господин Фахри раскачивался взад-вперед всем телом и бормотал молитву. Потом он отшвырнул нож в сторону своим начищенным до блеска ботинком. Подошел к матери. Достал из кармана носовой платок. Хотел прижать его к ране на ее горле.
Она отшатнулась и прошипела: «Не смей!»
Маленькие капли крови на ее шее все увеличивались.
– Сначала ты, потом я, верно? – Она печально улыбнулась мне. На господина Фахри она не глядела. – Тебе полоснули по шее на демонстрации, а я сделала это из-за лжи и предательства этого ничтожества. Хорошо еще, что мы знаем опытного доктора. Как ты думаешь, отец Джахангира сделает нам семейную скидку?
Мне стало дурно. Книги, которые я опрокинул в спешке, валялись на полу. Нож лежал рядом с пачкой политических журналов. Она пыталась шутить ради меня; я видел, как она боится меня напугать. Почему же она пришла сюда? Почему она мучает нас, пугает, грозит?
Потом она расплакалась так сильно, что вся ушла в свои эмоции, и плакала тихо. Я много раз видел, как она рыдала громко и яростно. Но никогда не видел, чтобы она плакала вот так.
– Слишком поздно, – говорила она. – Абсолютно поздно. Слишком поздно для моего ребенка.
Я думал, что она имела в виду меня. Я думал, что она имела в виду мою скорую свадьбу, которой она не хотела. Я думал, что она, с ее искаженной логикой, считала, что мне слишком поздно навязывать ту жизнь, которую она планировала для меня.
– Ты заставил меня убить моего ребенка. Своими руками. – Она повернулась к господину Фахри. – Потому что ты трус.
Я прирос к полу и перестал дышать.
– Бадри, прошу тебя, – сказал господин Фахри. – Не делай этого.
– Когда я убила его, мое тело было искалечено. – Она посмотрела на свой живот, словно разговаривала с какой-то неведомой силой, к которой и прежде обращалась с мольбой. – Мое тело было так искалечено, что оно убивало и всех остальных. Всех. – Она перевела взгляд на меня. – Знаешь, сколько детей я похоронила? Надо было сказать тебе об этом раньше.
– Бадри, остановись, – прошептал господин Фахри.
– Ты носишь их под сердцем и думаешь, что они родятся здоровыми и крепкими. Ты уже любишь их, ты мечтаешь, как будешь их растить, заботиться о них. Но все получается не так. Они рождаются либо слишком рано, либо в положенный срок, но… тихие, теплые и мертвые.
Я весь горел, не желая верить ее словам. Никто никогда не говорил мне, что я – не первый ребенок моей матери. Ни она, ни отец. Мне было уже семнадцать, и я только теперь услышал об этом.
– Ты думал, Али, что можешь делать со мной что угодно. За той мечетью. Тебе все сходило с рук. У тебя были деньги, положение в обществе. А у меня ничего. – Она рыдала, закрыв лицо ладонями. – Я была ребенком!
– Я так виноват, – тихо сказал он. – Я ужасно виноват перед тобой.
В солнечном луче, проникавшем сквозь маленькое окошко, летали пылинки. Комнатку наполняли не запах книг, духов матери и моего пота. Нет, там веяло чем-то иным. Нечто, что я не мог определить, но что навсегда окрасило тот день и все последующие. Это был, мне кажется, запах горя.
Господин Фахри шагнул к ней. Она упала в его объятья и, рыдая, говорила о своих детях. Из ее сбивчивых, мрачных слов я понял, что был не первым ребенком у матери. Я был не вторым, не третьим и не четвертым. Я был пятым ребенком, родившимся у нее, но только первым выжившим, единственным, тем, в кого она вкладывала все свои надежды и мечты. И тогда же с ледяным ужасом я сообразил, что первый ребенок моей матери – тот, от которого она избавилась до рождения, возможно собственными руками, – был зачат в грехе и что его отцом был наш добрый и спокойный господин Фахри.
Я стоял среди раскиданных книг, среди произведений писателей, которые проводили над листами бумаги счастливые часы, создавая и шлифуя свои строки. Господин Фахри склонился над моей матерью, словно раненое животное, расцарапавшее свои незажившие шрамы.
Мне захотелось уйти из этого магазина и больше никогда не возвращаться, сбежать из этого города, убежать прочь и спрятаться где-нибудь.
Я выскочил на улицу. Там меня стошнило. Я прятал свои слезы от прохожих.
* * *
Увидев рану на горле матери, отец поскорее повез нас к Джахангиру. Мы не могли обратиться в тегеранскую больницу. Тогда мы все покрылись бы позором, Ройя-джан. Из-за болезни матери. Из-за ее попытки самоубийства. Даже из-за одних лишь ее мыслей об этом.
Джахангир был дома, когда мы явились на прием к его отцу. Он обнял меня и заверил, что наш секрет никто не узнает. Его отец тоже обещал не говорить ни слова о том, что она пыталась сделать.
Слава Творцу, она не успела нанести себе глубокую рану. Я вовремя схватился за нож. Понадобились лишь ихтиоловая мазь и бинт.
– Но еще бы секунда, и тогда… – Отец Джахангира покачал головой.
Мать могла бы накидывать шарф и ходить по городу. Она могла бы побыть дома, пока рана не заживет. Но мы все – мать, отец и я – были абсолютно потрясены случившимся. Не только тем, что она сделала, но и сознанием того, что «еще бы секунда, и тогда…». И тогда случилось бы непоправимое. А я все еще был потрясен тем, что произошло между моей матерью и господином Фахри, и никак не мог прийти в себя. И я гадал, знал ли об этом мой спокойный и невозмутимый отец.
Джахангир предложил нам поехать на север и пожить там на нашей вилле хотя бы несколько дней. Пока мы не придем в себя, пока не заживет рана матери, пока мы все не вернемся к более-менее нормальной жизни. Он обещал мне, что будет держать тебя в курсе. Кажется, он не сдержал своего обещания. Конечно. Я знал, что Джахангир был влюблен в меня – пожалуйста, Ройя, теперь уже поздно сердиться. Я не стану утверждать, что не знал. Хотя в те годы мы никогда бы не признались ни в чем подобном. Только не стали бы выражать это чувство словами.
Но я любил тебя. И мне была нужна только ты. Я был готов ради тебя на что угодно. А Джахангир обещал, что поможет нам поддерживать связь. Это он доставлял наши письма. Он стал моим доверенным лицом, моим связным, хранителем наших с тобой тайн. У него было доброе, верное сердце, Ройя-джан. Он старался нас защитить. Больше всего он желал мне счастья – я верю в это. А кто же потом подменил письма и мы ждали друг друга на разных площадях? Первым делом я бы предположил, что это сделала моя мать. Аллах свидетель, она не хотела, чтобы мы поженились. Вот только, Ройя-джан, моя мать все время находилась вместе со мной на нашей вилле на севере. И даже несмотря на все ее страдания, не думаю, что она могла это сделать. Это сделал человек, которому мы с тобой доверяли, но который понимал, что ему надо платить по долгам.
Мать убедила господина Фахри помочь ей. Конечно, я понял это только теперь, спустя десятки лет, когда пытался сопоставить то, что узнал от тебя, с тем, что знал раньше. Потому что он чувствовал себя в долгу перед ней. Ведь в юности он бросил ее, оставил одну, беременную. И она, ну… тогда в Иране не было легальных абортов. Ей пришлось что-то делать самой.
Я хотел сообщить тебе на следующий же день, где я. Я рассчитывал найти где-нибудь телефон, позвонить тебе. Я рассчитывал, что Джахангир тоже передаст тебе привет от меня.
Наутро я вошел в комнату матери. Но даже не успел сказать ни слова. Мне даже не пришлось говорить ей, что я хочу тебе позвонить. Она взглянула на меня и сказала:
– Если ты позвонишь той девчонке и скажешь, где мы, если ты это сделаешь, то знаешь, что будет, Бахман? – На ее бледном лице появилась улыбка. – Я снова это сделаю. И на этот раз до конца. Обещаю тебе. – Она вздохнула и дотронулась до горла. – Оставь ее, Бахман. Ради меня. Если ты будешь с ней общаться, я опять сделаю это.
* * *
Я до сих пор помню большую щель в полу гостиной виллы; сквозь нее дул ветер, и по ночам бывало очень холодно, даже летом. Ты ведь знаешь, какие холодные ночи на севере. Отец заткнул щель портьерной тканью «шамад», но это помогало не слишком. Я нарочно сидел вечерами возле щели, чтобы ветер жалил мне спину. Нарочно, чтобы простудиться и заболеть.
Я готовил еду. Мать выходила из своей комнаты и ела с нами. Ее бредовое состояние не проходило. Она постоянно твердила о моей женитьбе на Шахле. Отец, чтобы сменить тему, рассказывал о проблемах премьер-министра Мосаддыка. Я скучал по тебе; мне отчаянно хотелось увидеться с тобой. Но мне было слишком стыдно признаться тебе, что мы сбежали из города из-за суицидной попытки матери.
Несчастье наполняло нашу жалкую виллу, и от него невозможно было никуда деться, совсем как от сквозняка, проникавшего в щель между половицами, как бы отец ни старался ее заткнуть. Меня поддерживали только твои письма. Я не хотел писать тебе о случившемся. Мне было стыдно и неловко. Как мне хотелось, чтобы моя мать была нормальной женщиной, такой, как другие матери, заботливой. Чтобы она поддерживала меня, пришла на нашу свадьбу и позволила нам жить собственной жизнью. Я хотел этого больше всего в жизни. Но она была не такой, как другие матери. Она была сама собой. Она злилась, страдала от депрессии, была жестокой. Она отказывалась оставить меня в покое. Она хотела держать под контролем мою жизнь, твердила, что любит меня и хочет мне добра. Что она была нищей и пожертвовала слишком многим, чтобы позволить мне транжирить добытое ею.
Неужели мой отец стал для нее всего лишь ступенькой, средством достижения более высокого статуса? Любила ли она его когда-нибудь?
В тех письмах я изливал тебе душу. Целы ли они у тебя, Ройя-джан? Хранишь ли ты те письма? Думаю, что нет.
Нам с отцом не нужно было и пытаться одолеть болезнь матери самим. Теперь я это понимаю. Но тогда я был слишком молод. Я беспокоился за тебя. Я отказывался от Шахлы. Чем сильнее мать толкала меня к ней, тем больше я сопротивлялся. И делал это не из-за упрямства, как считала мать. Просто у меня перед глазами всегда стояла ты – с косами, со школьной сумкой на плече. Я слышал только твой голос. Рядом с тобой я успокаивался.
Я был полон решимости жениться на тебе, несмотря на угрозы, болезнь матери, ад, который она устраивала нам. Вот почему я написал тебе то последнее письмо. Мать не могла нас остановить. Она не могла помешать нашему счастью никакими угрозами суицида! Я был сыт по горло и решил сбежать. Мать держала нас в заложниках своими истериками, и я больше не хотел находиться под ее властью.
Она знала, что я ждал тебя на площади. Она знала, что я страшно волновался за тебя. И когда я читал твое последнее письмо и сказал ей со злостью и недоумением, что ты больше не хочешь меня видеть (как я мог ей сказать, что в письме говорилось, что ты не можешь жить рядом с ней?), она рассмеялась. «Вот и хорошо, – сказала она, – ведь я говорила тебе, что от этой девчонки добра не жди». И тут же пообещала устроить голодовку и умереть, если я попытаюсь помириться с тобой, вернуть тебя.
Меня считали «парнем, который изменит мир». Но жизнь растоптала все мечты, планы, идеалы. Ведь я мало служил своей стране. Да, конечно, я был активистом и распространял политические брошюры и листовки Национального фронта. Но как сильно я разочаровался в политике и во всем остальном после переворота 53-го года! И я не ликовал, как другие, когда в 1979 году шаха свергли. Я слишком беспокоился, что станет еще хуже. В конце концов Джахангир сделал больше, чем я. Он отправился на фронт! Он пошел по стопам своего отца и стал врачом. И в войну он лечил раненых в Ахвазе. Он погиб под бомбами. Так что нет, в те недели нашей разлуки я не сидел в тюрьме и не скрывался по политическим мотивам. Я просто пытался удержать мать от самоубийства и ломал голову, как поступить с ее угрозами повторить все снова и с ее безумными планами.
Помнишь, как ты беспокоилась, что нас сглазят? Я тогда усмехался, что это просто предрассудки. Но теперь я оглядываюсь на жизнь, прожитую без тебя, и думаю – кто знает, может, ты была и права? Может, не зря в нашей культуре издавна существует такая боязнь сглаза? Гляди, что случилось с моей матерью.
Даже после того, как я получил твое последнее письмо, где ты написала, что я больше никогда не увижу тебя, не поговорю с тобой, – я не переставал тебя любить. И теперь мне не хочется думать о возможной ошибке – что это не ты написала то письмо. Потому что теперь я уже ничего не берусь утверждать.
А еще, моя дорогая Ройя, когда мы встретились с тобой на прошлой неделе в Дакстонском пансионате, я заметил в твоих глазах беспокойство, что, может, у меня просто проблемы с памятью. Но, пожалуйста, знай. Может, я не помню некоторые вещи – что я ел на ланч два дня назад или какие чертовы пилюли и когда я принимал. Тут мне требуется подсказка Клэр. Но мой разум острый как нож, когда речь идет о том лете и о моем сердце. Тут я помню все до мелочей.
Правда в том, Ройя-джан, что я никогда не был так счастлив, как в те дни, когда мы с тобой были вместе. У меня было много прекрасных мгновений с моими детьми и, да, с Шахлой, но только с тобой я был по-настоящему счастлив. Долгие годы ты была первой, о ком я думал, просыпаясь. Мне многое напоминало тебя. Конечно, я знал, что ты принадлежишь другому, да и у меня есть семья. Но, Ройя, ты всегда была частью меня. С этим ничего не поделаешь.
Мне пора заканчивать это письмо.
Когда я вспоминаю лавандовое небо в тот вечер, когда мы праздновали нашу помолвку, и другие минуты, когда мы были вместе, я поражаюсь красоте этого мира. Но после того, что произошло с нашей страной и, по правде говоря, когда я смотрю на современный мир, то невольно вижу во всем безобразие и жестокость. Я пытался сохранять позитивный настрой, который так ценят американцы, я пытался не превратиться в ворчливого старика! Тут, в доме престарелых, Клэр добра ко мне. Она зовет меня «мистер Бэтмен». Она неустанно слушает мои истории. Я поделился с ней своими воспоминаниями. Даже рассказал о нашей юношеской любви. Мне помогают жить мысли о красоте и привязанности. Я вижу моих детей и внуков, и я счастлив. Все остальное – политика, душевная болезнь, утопившая мою мать, жестокие повороты жизни – ну, в жизни иногда присутствует неприятная изнанка. Когда я думаю так, у меня гаснет всякая надежда.
Я любил тебя. Я любил тебя тогда, люблю сейчас и буду любить всегда.
Ты моя любовь.
Бахман».








