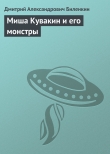Текст книги "Маугли из Космоса (СИ)"
Автор книги: Марк Антоний
Жанр:
Космическая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Глава 4
Алевтине снилось море. Лениво лизало прохладным языком ее пятку. Лежать на теплом песке под нежарким ласковым солнцем было так хорошо, что Аля никак не могла открыть глаза и осмотреться. А надо было. К тому же пятке стало холодно. Алевтина с детства славилась упрямством, а потому напряглась и распахнула тяжелые веки как ставни. И проснулась, укутанная непроглядной чернотой поздней августовской ночи. Повозившись, втянула высунувшуюся из-под одеяла ногу в уютное тепло, но снова уснуть не сумела. Тогда она поднялась, одернула измятый во сне халатик и пошла на двор по малой надобности.
Из-под двери отцовской, а нынче гостевой комнаты пробивался свет. Аля вспомнила, как Миша укладывал ее в постель, бережно, будто маленькую, и остановилась в смущении. Он был чужим, незнакомым почти, да какое там «почти» – просто незнакомым человеком, странным пришельцем, ночным гостем, у которого ни паспорта, ни иного документа она не спросила. Вспомнив теплое свое расслабление, Аля чуть не вскрикнула от досады, сжала кулаки. Да разве ж можно так доверяться чужому?! А вдруг он окажется бродягой, беглым зэком, грабителем, насильником и убийцей… Да мало ли кем… Людоедом из лесной чащи!
Аля представила, как Миша выбирается из потаенной землянки, распрямляет согнутую от векового сна спину и приговаривает: «Покатаюся-поваляюся, человеческого мясца поевши…», – и поневоле хихикнула. Надо же, до чего додумалась! На смену страшным картинкам, промелькнувшим в воображении, пришли другие. Вот незнакомец стоит, растерянный и жалкий, на пороге ее дома, и с длинных волос его стекает дождевая вода. Вот он не знает, как помыться, и она готова купать его, будто маленького. Вот он ест мед, смешно, по-детски облизывая ложку… Нет, не может он быть ни вором, ни убийцей. Он всего лишь человек, с которым случилась большая беда, страшная, неведомая…
Теперь Алю охватило любопытство, потянуло заглянуть в замочную скважину: что это он там поделывает? Сама не зная зачем, она шагнула к двери, наклонилась и приникла глазом к замочной скважине. На долю секунды ей показалось, что за большим письменным столом сидит отец, только исхудавший и заросший, но наваждение рассеялось, и она разглядела профиль странного своего гостя, склонившегося над отцовской тетрадкой. С минуту наблюдала, как Миша по-детски ведет пальцем по строчке, замирает, нахмурившись, и перечитывает снова, едва шевеля губами от напряжения, вскидывает голову и шарит глазами по книжным полкам.
На мгновение хозяйку дома охватил гнев. Да что это он себе позволяет?! Нельзя этого! Это же папины тетради! Заветные! В них вся его «наука». Труд жизни, все, что было так дорого его неспокойному уму… Надо распахнуть дверь, отобрать, вырвать из чужих рук отцовскую тетрадь, но Аля достаточно долго проработала в школе, чтобы поддаться первому порыву. А потому замерла, прижав руку ко лбу, как всегда делала в минуты душевного смятения, и вспомнила, как отреагировал Миша на то, что она изумилась, увидев, как он ест мед. Он решил, что поступил неправильно, и испугался настолько, что готов был защищаться, вооружившись первым попавшимся предметом – ложкой! А что случится, если она ворвется в комнату с диким воплем да еще и бросится на него?
Память услужливо подсунула картинку: посреди мокрого от ночного дождя двора неистовствует боевая машина по имени «Миша». Страх накатил волной, пробежал по позвоночнику колючей изморозью. Ну уж нет! Она никого не станет бояться в своем доме! Аля стиснула кулаки, изгоняя из коленок постыдную дрожь, и хотела было спокойно открыть дверь, подойти к столу и строго спросить: «Кто же вам позволил рыться в чужих тетрадях?» – но не стала. Вспомнила. Господи, да это же она сама разрешила брать ему «книги на полке», а тетради-то там же стоят, рядышком. Вот он и берет, с разрешения хозяйки. Да и ничего такого он с ними не делает, читает вон, разобраться пытается. И пусть себе, вдруг что поймет?.. Папа бы обрадовался, если бы нашелся человек, способный его понять.
Последнее было явным перебором. Вряд ли отец, ни жене, ни дочери не позволявший даже пыль смахнуть с заветных тетрадей, обрадовался бы незнакомцу, чуть ли не по слогам разбирающему его записи, но Аля твердо повторила про себя: «Папа был бы рад!» – и пошла куда собиралась. На дворе буйствовали сверчки и хороводили звезды, воздух отчетливо пах осенью, но не промозглой ее зрелостью, а ярким началом, полным грибов, яблок, шуршащих под ногами листьев и нагретых солнцем боков больших оранжевых тыкв в парнике. Аля вдохнула полной грудью и от души зевнула, не успев прикрыть рот ладонью. Сделав свое дело, она поспешно вернулась в дом, вздрагивая от леденящего прикосновения к щиколоткам стеблей жухлой сырой травы. Затаив дыхание, проскользнула к себе и распахнула настежь окно. В комнату тут же хлынула предосенняя знобкая темень. Аля достала из сундука в углу одеяло потеплее и забралась в постель, радуясь, что ночь только началась и еще долго можно спать, вдыхая во сне волшебство самого удивительного времени года.
Проснулась Аля оттого, что ее взяли за щиколотки и осторожно подергали. Привыкшая жить одна, она вскрикнула и резко села, подтянув колени к подбородку. В изножье кровати смущенно переминался гость. Смерив его гневным взглядом, Аля выдохнула, пытаясь унять подскочившее к горлу сердце. Осведомилось сердито:
– Что это вы себе позволяете?!
– Я не хотел пугать, – сказал Миша, поднял руки в жесте полной и безоговорочной капитуляции и посмотрел умильно, как щенок, подставляющий толстое розовое брюхо клыкам сердитой матери.
Аля спохватилась, натянула одеяло на едва прикрытую ночнушкой грудь и собралась было сурово отчитать гостя за вторжение в апартаменты хозяйки, но тот выглядел столь комично, что она не удержалась от смеха.
– Я только хотел позвать вас завтракать, – пояснил Миша.
Теперь он смотрел удивленно, словно не понимая, чем вызвано ее веселье. От этого Аля засмеялась еще громче, на глазах выступили слезы.
Да ну его, недотепу!
– Идите, я сейчас, – с трудом выдавила она сквозь смех.
Миша покорно попятился, задел некстати подвернувшуюся тумбочку, молниеносно крутанулся на пятке и подхватил в полете глиняный горшочек с немудрящими украшениями. Три брошки и нить речного жемчуга негодующе звякнули, водворенные на место. Гость ретировался и дверь прикрыл, от греха подальше.
– О-о-о-й, не могу! – простонала Аля и повалилась в подушки, досмеиваться.
Успокоившись, она переоделась в платье из цветастого ситца, не то чтобы очень нарядное, но и не халатик все же, и пошла на кухню, коль уж завтракать зовут. Рукомойник был полон теплой воды, что оказалось весьма приятным сюрпризом. Аля тщательно умылась, слегка смущаясь присутствием чужого, почистила зубы и пошла к столу, но на полпути замерла, пытаясь осознать увиденное. Полная жареной картошки сковорода, плетенка с хлебом, огурцы в миске – на столе все было точь-в-точь как вчерашним утром, и даже зубчик чеснока точно так же лежал на пупырчатой огуречной спине. Аля поклясться могла, что на столе с исключительной дотошностью воспроизведен случайно сложившийся накануне натюрморт. Но зачем?..
Автор натюрморта сидел на том же табурете и внимательно смотрел на хозяйку: понравится ли ей? Все ли «так»? Выглядело это жутковато, но Аля пересилила внезапно накатившую тревогу, ободряюще улыбнулась и села за стол, радуясь облегчению, отразившемуся на лице гостя. Разламывая хлеб и накалывая вилкой картошку, хрустя огурцом и запивая сладким чаем – интересно, как чужак пережил отсутствие вчерашних пирожков с малиной? – Аля пыталась понять, с кем имеет дело.
На первый – да и на второй – взгляд, Миша не производил впечатления сумасшедшего, но, надо признаться, такая версия многое бы объяснила. Но ни «утренняя зарядка», ни необычная одежда в образ не вписывались. Шпионская версия тоже не выдерживала никакой критики, слишком странным, непохожим на окружающих был этот человек, такого заслать – вот уж точно до первого милицейского поста. Других версий у Али не было. Можно было попробовать еще раз расспросить гостя, но не хватит ли на сегодня закольцованных ситуаций? Аля взяла из миски приметную чесночину и выдохнула, поспешно обретая привычную уверенность в незыблемости материального мира. Все-таки половинка зубца, а съеденная Мишей вчера – изначально была целой. Значит, не столь уж он и дотошен в своем стремлении воспроизвести вчерашний натюрморт.
Поразмыслив, Аля решила сосредоточиться на сугубо педагогических задачах.
– Спасибо, Миша, – сказала она. – Все было очень вкусно, но завтра надо будет приготовить что-нибудь другое. Картошка, даже жареная, быстро надоедает.
Не дожидаясь реакции гостя, она поднялась и сообщила уже от двери, ведущей в сени:
– Пойду несушек проведаю. С позавчерашнего дня собираюсь.
– Петля обратного времени, – непонятно отозвался Миша, собирая со стола посуду.
Аля не расслышала его слов, заглушенных скрипом дверных петель. И хорошо, что не расслышала. А вдруг эти его слова могли помешать ей принять важное решение? В полумраке курятника, шаря под теплыми брюхами несушек, успокаивая встревоженных птиц ласковыми словами, Аля неожиданно поняла, что никуда не отпустит Мишу, пока не выяснит про него все. Во второй причине она не захотела себе признаться.
Глава 5
Последняя неделя августа пролетела в неведомых прежде трудах и заботах. Вернее, труды как раз были привычными, а вот заботы… Жизнь Али, раньше такая простая и понятная, изменилась до неузнаваемости. Не то что бы в немудрящий быт было привнесено нечто особенное, нет. Просто каждое действие, обыденное до тусклости, налилось смыслом, как осеннее яблоко густым кисло-сладким соком. Не действие уже, а действо. В доме Али появился мужчина. Опять. Впервые после отца. Нельзя же в самом деле считать мужчиной ее бывшего… Хотя тот и пыжился, из кожи вон лез, чтобы доказать Але, что он настоящий мужик. Он приходит уставший с работы. А значит, в избе должно быть чисто. Печь истоплена. На столе – разносолы. И графинчик запотевший. И плевать, что жена тоже только что прибежала с работы. Что у нее спину ломит от усталости. Что самочувствие неважное из-за женских дел. А впереди еще груда тетрадей с неразобранными домашними заданиями. Плевать. Он мужик, он работал, он устал.
С Мишей все было иначе. Мало того что в охотку носил воду и колол дрова, мыл посуду и скоблил пол, он еще постоянно находил себе новые дела. Укрепил пошатнувшийся от времени забор, наново перекрыл крышу, покрасил наличники, прочистил дымоход. Вот только от готовки Аля решительно его отстранила: не хотелось быть обреченной на жареную картошку на завтрак, борщ на обед и пирожки с малиной – на ужин. Отчего-то именно это незамысловатое меню запало Мише в душу, и ничего другого он сам готовить не умел или не хотел. Да и с курами у него не заладилось: стоило ему зайти в курятник, как птицы поднимали оглушительный гвалт и принимались метаться по тесному помещению, сшибаясь на лету и теряя перья.
Так что яйца Аля вынимала из-под несушек сама. Она и не обратила бы внимания на поведение глупых птиц, если бы соседский добрейшей души пес не реагировал на приближение Миши утробным рыком, у любой собаки дворянских кровей означающим испуг и немедленную готовность биться насмерть. Только кошки со всей округи сбегались порой потереться о голенища отцовских сапог, врученных Мише в подарок: не босиком же ему расхаживать. Але иногда казалось, что странный ее гость жил здесь всегда. Терзающие воспоминания о бывшем постепенно размылись, развеялись дождевой моросью.
Теперь Алевтина просыпалась пораньше, чтобы украдкой посмотреть из окна на утренние упражнения гостя. Заканчивалась «зарядка» всегда одинаково: кувыркнувшись через голову, Миша замирал, перекошенный набок, выставив перед собой согнутые в локтях руки. Пальцы его при этом складывались в жесткие даже с виду клешни, склоненная набок голова подбородком упиралась в казавшуюся вогнутой грудь. Удивительно, но нелепая поза эта выглядела не жалкой, а угрожающей. Однажды Аля спросила у гостя, где он научился так двигаться. «На Бетельгейзе», – ответил тот спокойно и ткнул обгрызенной фалангой пальца в потолок. Аля обиделась, но виду не подала. Понимала, что гость еще не готов к серьезному разговору о себе. Не нужно его торопить: придет срок – сам расскажет.
Постояв в угрожающей позе, Миша шел к колодцу по воду. Аля навещала несушек и готовила завтрак. Выяснилось, что за один присест гость может запросто съесть восемь яиц, и это забавляло: куда столько помещается? Правда, Миша быстро набирал вес, из жалкого бродяги превращаясь в куда как справного мужика, хоть и поджарого, будто матерый волк. Теперь за завтраком они болтали обо всем, удивительно легко находя темы.
Аля не переставала удивляться широким познаниям Миши в области астрономии и физики, а также его способности сочинять захватывающие сказки о небывалых приключениях в далеком космосе и на других планетах. По вечерам, устав от корпения над учебниками, Аля подставляла шею и плечи под умелый массаж, а потом расслабленно сидела в кресле и слушала, как в звуках чарующего хрипловатого мужского голоса гибнут звездные корабли и рождаются галактические империи. А может – наоборот. Воспитанной на русской классической литературе Алевтине Казаровой трудно было разобраться в тонкостях галактической дипломатии и межзвездной навигации.
Эти сказки, без всякого сомнения увлекательные и поучительные – Миша как-то мимолетно заметил, что искусство дипломатии острее искусства войны, и Аля удивилась глубине и парадоксальности этой мысли, – все же не могли заменить серьезного разговора о нем самом. Алевтина все не решалась его начать. Ей казалось, что спроси она гостя напрямик, кто он такой и откуда, – и все кончится. Облачится Миша в странные свои обноски и исчезнет в промозглой ночи подступающей осени. И она опять останется одна со своими курами, учебниками и корявыми сочинениями двоечников. Не готова была Аля к новой резкой перемене судьбы. Пусть уже лучше рассказывает свои сказки. Они, по крайней мере, безобидны. А правда может оказаться слишком уж жестокой, чтобы закрыть на нее глаза.
Они сблизились так же естественно, как поздний август переходит в ранний сентябрь. Тем памятным для Али дождливым вечером осень словно решила заглянуть пораньше, да так и осталась, чтобы два раза не приходить. Глупо сетовать на незваную гостью, даже если та не забыла прихватить с собой мелкий серый дождь и ветер с неуравновешенным характером, имеющий дурную привычку гневно швырять в окна пригоршни облетевших желтых и красных листьев. Миша вдруг начал рассказывать о мальчике, который оказался в этих краях во время войны. Его эвакуировали вместе с матерью из осажденного фашистами Ленинграда. Мама погибла при бомбежке поезда, а мальчика отдали в Нижнеярский детский дом.
Однажды летом детдомовцев привезли в Малые Пихты. Кормили сирот не ахти, и потому они всюду искали, чем бы им поживиться. Мальчик к воровству был неспособен, а для труда – слишком мал и слаб. И вот местный хулиган настропалил его отправиться на Старый рудник, в отвалах которого можно было отыскать кристаллы самородной меди. Мальчик добрался до заброшенной выработки, где его застигли сумерки. Пришлось устраиваться на ночлег. Выкопав самодельную пещерку и подкрепившись, он уснул. Странный голубой свет с ночного неба разбудил мальчика. Свет исходил от летающей машины, засасывавшей породу из отвалов. Она же подхватила и Малыша.
Глава 6
Как-то, перед самой войной, Малыш побывал с мамой в комнате смеха в Парке Кирова на Елагином острове. Там, в кривых зеркалах, дяди и тети вполне нормального облика превращались в уморительных уродцев. Худые становились толстыми. Толстые – худыми. Вот и сейчас он словно смотрел в такое зеркало и видел в нем две странные личности, что уставились на него из-за прозрачной, но чем-то замызганной стены. Обе личности были голыми – во всяком случае, так показалось мальчику, – темно-фиолетовая кожа их была обтянута ремнями, напоминающими сложную портупею. И у каждой на этой портупее висело что-то вроде кобуры. Одна личность была рослой и толстой, почти прямоугольной, другая – худой и низенькой. У худой были плоские, выпяченные губы и выпуклые глаза, как у лягушки. Лицо толстой личности состояло из сплошных складок, из-под которых сверкали крохотные глазки, числом четыре. Эти глазки буравили Малыша так, что у него мутилось в голове.
Он не знал, сколько прошло времени с той минуты, когда вихрь из голубого света и пыли втянул его в зияющую пасть чудовищного цветка. Да и что случилось после – не очень помнил. Кажется – свалился в какую-то вязкую, холодную, горькую на вкус жидкость. Барахтался в ней, стараясь остаться на поверхности, но его неумолимо тянуло на дно. В конце концов перестал бороться. Однако утонуть Малышу было не суждено. Стремительно закручивающаяся воронка увлекла его в прихотливо изогнутую трубу. В трубе этой он кувыркался целую вечность. Наконец силы оставили мальчика и он попросту заснул. А когда проснулся, увидел эти странные личности, пялящиеся на него из-за прозрачной стены. Нет, стена не была кривым зеркалом. Малыш убедился в этом, когда провел по ней ладонями. Стена была гладкой, теплой и ровной, и ничего не отражала. Правда, он тут же забыл о ней. Его поразили собственные руки. Пожалуй, такими чистыми они не были с начала войны. Ни черных полосок под обгрызенными ногтями, ни царапин, ни ссадин, ни цыпок – не изгвазданные грабки беспризорника, а розовые лапки довоенного детсадовца.
Мальчик даже забыл о толстом и тонком и принялся разглядывать себя. Худой, кожа да кости, но отмытый до блеска. И тоже – голый. Правда, без портупеи и кобуры. Пока он себя рассматривал – личности исчезли. Сквозь прозрачную стену виднелась другая, покатая, темно-фиолетового цвета и вся в каких-то пупырышках. Больше ничего интересного за стеной не наблюдалась, и Малыш стал осматриваться в помещении, в котором был заключен. Или – заточен. Ему впервые пришла в голову мысль, что загадочный летающий аппарат мог оказаться немецким самолетом секретной конструкции. В первые месяцы войны мальчика, как и других ленинградских пацанят, живо интересовала разнообразная военная техника, и наша, и вражеская. Особенно – самолеты. Даже когда фашистские стервятники появились в ленинградском небе, поначалу они выглядели нестрашными. По крайней мере, пацаны не боялись их, наоборот, спорили, а то и дрались из-за того, кто быстрее всех отличит «Хейнкель» от «Юнкерса», а «Юнкерс» от «Дорнье».
«Лодка-крейсер», кружащаяся над Старым рудником, ничем не напоминала крестообразные силуэты фашистских стервятников. Если и было в ней сходство с известными Малышу типами летательных аппаратов, то скорее уж – с дирижаблем. Могли фашисты отправить в Малые Пихты «цеппелин» с секретным заданием? Могли! Могли фашисты схватить советского паренька, будущего пионера, чтобы он не выдал их тайну? Могли… Значит, его будут пытать. И скорее всего – убьют. От этих мыслей Малышу стало совсем тяжко. Заплакать он не мог и поэтому лишь повалился на пол, обитый какой-то пористой, плотной и вместе с тем мягкой тканью. Лежать на ней было удобно, но лучше бы это были жесткие доски или холодная и шершавая металлическая палуба. Как назло, мягкая лежанка, розоватый свет из неизвестного источника, прозрачная, хотя и не слишком чистая стена настраивали на безмятежный лад. Навоображав себе всяких ужасов, пленник «секретного "цеппелина"» и не заметил, как снова уснул.
Проснулся Малыш оттого, что ему отчаянно хотелось писать. Не продрав глаз, он подскочил и кинулся к двери, но через несколько шагов со всего маху врезался в стену. От удара опрокинулся на спину и… обмочился. Как малолетка прямо. Он с ужасом представил, как сейчас детдомовские пацаны, которые спали на других казенных койках, поставленных в пустующем на лето классе, поднимут его на смех. От ужаса и стыда мальчик проснулся окончательно. Ни класса, ни пацанов. Все та же замызганная прозрачная стена, а за ней – другая, темно-фиолетовая, в пупырышках. И ровный розовый свет неизвестно откуда. Малыш приподнялся на локтях, отодвинулся, чтобы посмотреть на пятно, которое он, конечно же, оставил на покрывающей пол ткани. Пятна не было. Он не поверил своим глазам и попытался найти его на ощупь. А потом – и на запах. Не было пятна. Ткань впитала все, без остатка.
Это открытие почти обрадовало Малыша. Пусть злорадствующие дружки сейчас далеко, опозориться перед этими фашистами в портупеях, особенно – перед Четырехглазым, было бы в сто раз хуже. Правда, радовался юный пленник недолго. Вскоре он почувствовал, что хочет пить. Да и пошамать бы не мешало. Он поднялся и принялся обследовать свою тюрьму. Хлеб и сахар остались в тощем сидоре, забытом при попытке удрать из карьера, а здесь ничего похожего на воду или жрачку не находилось. Мягкий пол. Одна стена прозрачная. Другая – желтая с темными потеками, плавно переходящая в точно такой же потолок. Не обнаружилось даже дверей. Малышу почему-то вспомнилась ленинградская Кунсткамера. Уродцы в стеклянных банках. А вдруг и его, как диковину, замуровали в такую банку? Но он же – нормальный! Это те, в портупеях, уродцы. Это их нужно в банку. Фашистов!
От обиды и злости мальчик подскочил к прозрачной стене и изо всех сил пнул ее. Напрасный труд – только пальцы ушиб. Взвыв от боли, заплясал на одной ноге, но не удержался и покатился на предательски мягкий пол. Боль от ушиба постепенно утихла, но голод и жажда терзали Малыша все сильнее. Однако скулить он и не думал. Лег ничком и оцепенел. Так немного легче. Да ему и не привыкать. Мальчик уже и не помнил, когда ел досыта. Вот только настоящей жажды он еще не испытывал. Даже в Ленинграде. В самые лютые зимние дни, когда у них с мамой не хватало сил сходить за водой к проруби, Малыш приловчился соскабливать изморозь с оконного стекла. Тем более что в холод пить не хотелось. Не то что здесь, в этой подлой тюрьме. Теплой, розовой, безразличной. Наверное, эти фашисты решили его просто замучить. Будут приходить и пялиться, как он умирает. Сволочи. Гады. Мальчик почувствовал, как все тело его наливается тяжелой ненавистью. Вот прям от кончиков пальцев голых, отмытых ног, до макушки. Хорошей такой ненавистью, свинцовой. Головы не поднять. Малыш все же попытался приподнять голову, но тут же ткнулся в обивку пола лицом – так надавило на затылок. Будто фашист наступил подкованным сапогом.
С каждым мгновением тяжесть усиливалась. Мягкий пол переставал быть мягким. Малыша вжимало в него, как тогда – в дощатый пол теплушки, когда совсем близко взорвалась бомба и на него, как и на всех на полу вагона, обрушились двухэтажные нары с мешками и спящими. Но тогда мама, как яростная волчица Ракша из «Книги джунглей», бросилась к нему, раскидала мешки и доски, вынесла наружу. А потом – назад, за пожитками. Зря она это сделала. Сейчас вот некому было вытащить его из-под убийственной, хотя и незримой массы, что продолжала наваливаться на тщедушное тело. Малыш почувствовал, что по губам сочится влага. Машинально облизнул толстым, набухшим языком верхнюю губу. Вязкая жидкость оказалась соленой. И тогда он полубессознательно, на одном инстинкте обмакнул безукоризненно чистые пальцы в идущую носом кровь и вывел на прозрачной стене: «ГАДЫ».
Он очнулся, потому что ноздри его втянули острый полузабытый запах. Пахло лекарством, каким до войны пользовался дедушка, а в блокаду оно было съедено без остатка – морской капустой. Малыш разлепил веки. И увидел странные большие глаза с голубыми белками и узкими зрачками без радужки. Спутанные синие, невероятно толстые волосы то и дело свешивались на белое, овальное лицо, с едва выделяющимися неприятно серыми губами. Юный пленник обязательно испугался бы, но не было сил. К тому же существо вдруг ласково провело рукой по жесткому ежику детдомовской прически. Малыш всхлипнул – так делала мама, когда у нее выдавалась свободная минутка. Существо – он уже догадался, что это женщина, – держало его на широких, мягких коленях, плавно покачивая из стороны в сторону. Она не издавала ни звука, но мальчику казалось, что он слышит колыбельную песню из фильма «Цирк», которую часто пела мама, когда укладывала его спать:
Спи, сокровище мое,
Ты такой богатый:
Все твое, все твое —
Звезды и закаты!
Завтра солнышко проснется,
Снова к нам вернется.
Молодой, золотой
Снова день начнется.
Как и дома, в Ленинграде, Малыш подчинился убаюкивающей нежности колыбельной и уснул. Впервые после того, как фашистская бомба угодила в вагон, – уснул без чувства мучительного одиночества. А проснулся легко, радостно. Словно и не было ощущения подкованного вражеского сапога на затылке. Он сразу вспомнил о синеволосой женщине и убаюкивающей безмолвной ее ласковости, и его потянуло к ней, как к родной. Мальчик сел на своем ложе, огляделся. Он ожидал вновь увидеть прозрачную стену и отвратительную, все поглощающую обивку пола, но вместо этого оказалось, что он находится в небольшой круглой комнате на круглой же кровати, напоминающей гигантский пуфик. Над кроватью-пуфиком нависал балдахин из плотной муаровой ткани с золотыми кистями. Драпировки из той же ткани скрывали стены – тяжелые кисти плавно колыхались из стороны в сторону. Малыш слез с кровати, на цыпочках обошел комнату, заглянул за портьеры. За одной из них он обнаружил овальное темное зеркало испещренное разноцветными яркими точками.
Мальчик некоторое время любовался на отражение собственной тощей физиономии, но вдруг отпрянул, осененный догадкой столь ослепительно-внезапной, что он даже расхохотался. Он как несмышленыш пялился в окошко, принимая его за зеркало. А за окошком были… звезды. Одни лишь звезды и ничего более. Малыш вновь прилип к нему, расплющивая нос о холодное, несокрушимо твердое стекло. Повидав за свою, маленькую еще, жизнь больше иного взрослого, такого он не видел никогда. Звезд было очень много. Настолько – что почти не оставалось места темным промежуткам между ними. Они напоминали толченое цветное стекло, рассыпанное по свежему асфальту. И в этой россыпи совершенно растворились контуры известных мальчику созвездий.
Время прекратило течение свое. Он забыл о пережитом, о том, что находится в неизвестном месте среди чудовищ, он забыл даже о ласковой женщине с синими волосами – он видел только бесчисленные звезды, впитывал их не только глазами, но и душой. Не умея осмыслить свои ощущения, мальчик не знал еще, что звезды, движение к ним, станут главной радостью и смыслом всей его последующей жизни. Он словно слился с ними, растворился среди них, став вечным их рабом и пленником. И только голос вернул его к действительности. Голос был звучный, глубокий, проникающий в самое сердце. Малыш никогда не слышал его, но знал кому он принадлежит, поэтому с радостью оторвался окна и бросился навстречу.
– Мама!
Она протянула к нему нежные руки, обняла, прижала к себе, поглаживая по спине и ероша до обидного короткие волосы на голове. Она шептала невзрачными серыми губами смешные нежности, и он радостно повторял их, хотя не понимал значения. Дело было не в значении, а в интонации. Так с ним давно никто не разговаривал. И разучившийся плакать Малыш неожиданно для себя самого зарыдал в голос. Мама подхватила его на руки как маленького, принялась ходить по круглой своей спальне, баюкать и уговаривать. И слезы, запасы которых казались бесконечными, скоро иссякли. Мальчику стало хорошо и покойно. Шмыгнув носом, он слез с маминых рук и кинулся к дивному окошку, со смехом тыча пальчиком в ярко-красную звездочку.