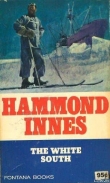Текст книги "Южный Крест"
Автор книги: Марина Бонч-Осмоловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
– Ты его и вправду ненавидишь...
– Потому что люблю.
Они замолчали.
– Теперь все иначе – и он, и наше прошлое... – пробормотала Света, прислушиваясь к себе, – только мама... но я на нее не сержусь... хотя она все разрушила. А ведь она не представляет, как все распалось во мне...
Ирка машинально натянула одеяло повыше и с состраданием, моргая, разглядывала подругу.
– Светик, может ты чего хочешь, может поешь или выпьешь, а?
– Это идея. Ты спи, уже поздно. А я выпью чаю, мне все едино – не заснуть. Тихо-то как... – она прислушалась к глубокой тишине дома, чмокнула Ирку и притворила за собой дверь. На кухне включила электрический чайник, достала из холодильника кусок сыра. Сделала бутерброд и, забыв чай на кухне, села в плетеное кресло на веранде.
Ночь, как всегда, была красива, ночь, как всегда, была неизменна, роскошна и притягательна.
Она отметила это привычно, улыбнулась чему-то и принесла из кухни яблоко. Положила его на перила и затихла в кресле. Через несколько минут послышалось шуршание, по соседнему дереву соскользнул толстенький опоссум. Усевшись на огромный пушистый хвост, он взял яблоко в лапки и принялся его с хрустом есть.
– Раскормила тебя Ирка! Теперь ты силач, легче с котами воевать, подумала она и тут же забыла о зверьке.
Тоска охватила ее, и с замиранием сердца Света обвела глазами темный двор и плотно подступившие громады кустов. Какие-то смутные блики пробегали внутри, не определяя себя, нарастала боль. Мурашки пробежали по коже, и она, быстро встав, в большом волнении прошла несколько шагов. Остановилась около железной бочки с водой, не отрывая пустого взгляда от черной поверхности. С усилием оторвала глаза, тоскуя, покрутила головой и, не чувствуя ног, вернулась к веранде. Села на нижнюю ступеньку, привалившись к стене дома. Боль нарастала, поднимая древние, как будто насмерть забытые впечатления, такие глубокие, что, казалось, они поднимаются из ада. Она только успела подумать, что они, кажется, действительно оттуда, и в эту секунду мысли оставили ее.
Жизнь совершалась внутри. Без слов, без возможности схватить концы и начала мыслей. И даже без видимых образов, летящих чередой и внезапно ставших единственным словом. Она чувствовала пустоту. Но бессмысленно уставившись в одну точку, она не в силах была разрушить эту минуту, чувствуя, что эта пустота целостна, едина и заполнена каким-то важным смыслом. Сама эта пустота была глубиной и смыслом. Света замерла в прострации, чувствуя огромное напряжение, не участвовала в том, что происходило внутри, не могла бы ни ускорить, ни оформить, ни понять. Доведя нить до конца, эта бесформенная толща рано или поздно сама оформилась бы в неожиданное, яркое понимание – без специально затраченных усилий.
Она глядела остекленевшими глазами в темные кусты, не чувствуя тонкого и пахучего ветра, шелестящего и полного событий густого потока ночной жизни. Не видя горящей, медленно, но неотвратимо идущей жизни ночного неба. Тучи затянули звезды. Тонкая рябь, волнение прошло по листам.
Внезапно Света очнулась, не глядя вокруг и не размышляя, прошла в гостиную, вырвала из записной книжки несколько листков и начала быстро писать:
"Мой дорогой папа!
Прости меня за мои мысли о тебе. Ты был человек, которого я больше всего ненавидела в жизни. Много лет, с того самого года. Наверное, так случается с некоторыми детьми, если родитель бросает их. Я даже не подозревала, как сильны эти чувства. Ведь ребенок не осознает их и самого себя. Но ранние впечатления откладываются, как образы: иногда через слух, зрительно, а иногда и ни так, и ни этак. Но они откладываются все равно. Только вырастая, человек внезапно ощущает, какой страшный нарыв, какой монстр созрел в его сердце. Но это только полдела.
Это чудище заставляет подростка делать вещи в соответствии с новым, иногда страшным представлением о людях – в котором он еще и сам до конца не разобрался! А разберется через несколько лет. Сейчас его поступки имеют одно стремление – насолить своему родителю, чтобы ему стало хуже, больнее. Не важно, что родитель не видит и не знает этого. Не важно, что от этого страдает только он сам. Но ради мести подросток начинает грешить. Все, о чем говорил любимый родитель, надо сделать наоборот. И зло – лучшая мера наказания для этой цели. Я думаю, многие подростки прежде всего жестоки к самим себе, а они уже такие зрелые личности!
Вы рано, очень рано стали отпускать меня одну... Прости меня за эти слова. На тебе нет вины! Папа, папа, теперь я осознала прошедшую жизнь, я другой человек. Больше я не буду выделывать то, что делала с людьми, потому что я понимаю. Я влюбилась по-настоящему, папа, и не хочу мстить и наказывать!
Мой дорогой папа, еще я хочу сказать тебе, как я люблю тебя! Я сама не знала, как люблю... Ты самый хороший, самый родной! Я так ужасно заблуждалась, так виновата перед тобой. Еще я хочу сказать, что я очень люблю маму и простила ее. Потому что я – – большая, потому что я могу понять. Целую тебя крепко! Твоя Света".
Глава 12
В эту же ночь Вадим видел сон.
Теплый туман налезает ватным стеганым колоколом, жирными всплесками проливается вовнутрь переливанием крови. Все теплей и теплей, глубже под сердце густыми толчками. Цвета запекшейся крынки с перевалившейся гущей через край – сквозь вату, сквозь безмолвие колокола, сквозь безмолвие операционной. Только капает и душит, нагромождая валы; стонут, прорывая затоны и заверти, остроконечные мачты. Золотые палочки сосен – мачтовый лес с сухими долгими стволами.
Я плыву вперед и вдруг исподволь начинаю чувствовать тревогу. Она нарастает стремительно, невыносимо! Она переходит в ужас, и я уже знаю: моя мама умерла далеко от меня, в нашем старом доме.
Открытый рот, полный тумана, кружит и дышит в вершинах, волнами пара опеленывая дрожащие кусты. Я наполнен кровью, в меня вылито все: удушье непробиваемых стен, ее зов и мое отчаяние. Изнутри меня раздувается, пухнет боль, заполняя лицо, горло, грудь, не оставляя щелки, просвета. Я полон ею, я надрываюсь. Ничего не осталось в мире, кроме растущей боли. Влажность в глазах, капли на вытянутых пальцах зернистыми огнями усеяли траву. Стволы блестяшим шприцем рыскают по коже, ища тонкого места. Легкий прокол, и яд с сипением бежит к лицу. Белая пудра в тумане слезит глаза, запорашивая волосы, бинтуя лицо, ознобом ударяя по изнемогающим спинам травы.
Далеко внизу я вижу знакомый дом. Туман медленно и неотвратимо несет меня туда. И как бесформенный рыбий пузырь с перехлестнутым горлом я беззвучно плыву к этим тихим, серым стенам.
Давно прошли времена, когда моя сильная мама управляла жизнью. Незаметно мы поменялись местами: теперь беззащитная в своих потерях, она тянула руки маленьким ребенком ко мне – тому, кто наполнял ее жизнь. Маленькая, дрожащая, полная страха, моя мама... мой ребенок!
Она там внутри. Нет нужды заходить. Она ждала смерти – в ужасе одиночества перед этим ожиданием. Не могу думать об этом! Я гибну в отчаянии, как гора боли – теку, расползаюсь толчками, истекаю потоками, водами и пузырями, лепешками горелых губ всасывая морось и гиль; ворочаю глазницами, превозмогая себя, но вытекают глаза... Дрожащей волной пот пробивает меня до дна. Серая пена жадно вылизывает песок под подошвами, почва проседает, плывет из-под ног, меркнет тусклый свет, гаснет все... и... и... вот... схватив ноздрями холод провала, я – как обезумевший бриг, разбросав руки лопнувших веревок и подмышки надутых парусов, грудью лечу на скалы, брызжа воплями ошалевших птиц.
Мне холодно, вокруг свет, обморок тишины. Ты опять здесь, навсегда у этих вечных стен. Иди туда. Впереди странные цветы с плоскими голубыми головками. Она вырастила их на снегу. Я думаю, это маки. Они прижались к обогретому боку деревянного дома с исслезившимися глазами весенней воды, а под ногами горящий мартовский сугроб в смятенных сполохах волшебных теней.
Эта красота в полной тишине вокруг.
И эта полнота отчаяния у порога дома.
* * *
Вадим лежал, бессильно закрыв глаза, пил какие-то таблетки, потом долго отмокал в ванной под струей, превозмогая полную разбитость. За это время домашние ушли. Он слышал, как что-то крикнула Лена. Он не разобрал, но вслушиваться не хотелось. Дверь грохнула металлическим языком, и все стихло. Вадим, одуревший от слишком горячей воды, уселся в кухне на табурете, дожидаясь кофе.
В мире был ветер. Муссон, страстный и влажный, пронизывал острой дрожью надвигающегося шторма, тонкой судорогой пугая тело, солеными иглами ввинчивал в город дух взрезанной рыбы, сырых водорослей, поднимающихся из тяжких глубин, и чувство яркого, неумолимого события. Стеная, повизгивали деревья, и соседский кот, раздираемый укусами ветра, вздыбя усы, с укором поглядывал на небо.
Вадим поставил Вивальди и глотнул кофе. Нужно как-то переломить тревогу и невыносимое чувство совершающейся ошибки, всегда после снов наполняющее голову. Это чувство появлялось все чаще, и все труднее было избавиться от него. "Не тот это город и местность не та..." Он посидел, и, забыв о музыке и кофе, пошел в кабинет.
Стол был завален черновиками и статьями. Он с любопытством заглянул в какую-то бумагу. Посидел, поглядывая в окно, переложил листки. Встал, собираясь что-то сделать, но сразу же сел на место и долго разглядывал старый букет в узкой вазе. Достал бумаги из стола, поглядел в одну из них и положил в общую кучу. Болела голова.
Вадим медленно отправился на кухню, выпил таблетку. Проигрыватель тихо посвистывал. Он выключил его. Открыл дверь, чтобы выйти в сад и нос к носу столкнулся с Ильей, звонившим в его дверь.
Илья пришел в сопровождении пожилого благообразно-седого человека, с любопытством выглядывавшего из-за его спины. Несмотря на обычную для Ильи самонадеянность, почему-то казалось, что именно он выглядывает из-за спины своего знакомца. Вадим мгновенно ощутил что-то неприятное, какую-то необъяснимую тоску, от этого сильно смутился и жестом предложил войти, не поднимая головы.
– Познакомьтесь, – сказал Илья, – мой друг, только что из России Соломон Якобсон. Доктор наук.
Вадим пригласил их к столу. Они пили кофе, поглядывая на мечущиеся под густым ветром розы и пролетающие машины. Якобсон помалкивал, улыбаясь, и они с Ильей несколько раз переглянулись, когда Илья на ощупь заметил:
– У вас такой вид, как будто вы не ложились сегодня.
Вадим замялся:
– Так примерно и есть...
– Что, расстройство сна?
– ...А также и бодрствования.
– Интересно, что и я недалеко ушел, – внезапно проговорился Илья.
Вадим взглянул на собеседника и отметил, что, действительно, тот имел изжеванный и отчасти растерянный вид. Вадим подумал, что Лена в таком состоянии непременно закатила бы генеральную уборку, улыбнулся и сказал:
– Это под впечатлением рассказа о русском шпионе.
– Если бы так, это было бы облегчением! – серьезно заметил Илья, принимая чашку. Он привстал, разгладил складки своего великолепного костюма и просторно раскинулся в кресле. – Соломон, помнишь сплетню, как нашли русского "шпиона"?
– Да, припоминаю... но как-то не верится... – тот поморщился. – Как ни крути, а здесь такие штучки маловероятны.
Вадим остановил на нем долгий взгляд, а Илья засмеялся:
– Ты еще салага в наших краях! Даем тебе срок обтереться! А вы, – он насмешливо взглянул на Вадима, – слишком близко к сердцу принимаете происходящее в России. Хотя я очень интересуюсь политикой, но переживать всерьез – дело пустое. Изменить вы ничего не можете, так будьте ироничны. Не вам там жить!
Вадим пожал плечами:
– Не совсем так... А если о шпионах... неприятно, когда меня принимают за врага.
– Э-э-э...
– Не отрицайте, это точное слово.
Якобсон слушал настороженно и весомо заметил:
– Что до меня, то я не отрицаю ваше слово, я отрицаю ваши мысли. Ответ здесь прост: естественная защитная реакция. Общества не агрессивного типа должны обороняться от тоталитарных.
– В том смысле, чтобы сначала заставить людей ненавидеть друг друга, а потом делать на этом миллиардные барыши.
– Они выполняют свой долг!
– Нарушая демократические принципы?
– Защита интересов страны – главная задача государственных служб.
– А вам не кажется, что такие рассуждения – беспринципность?
– Не беспринципность, а свобода выбора!
Вадим засмеялся.
– Слушайте, – он обратился к Якобсону, – мы, здесь оказавшись, демократию эту вживую разглядели, без бинокля.
– Бинокль может и отдалять – в перевернутом виде – но изображение не искажает! – – перебил запальчиво Якобсон.
– Смотря по тому, чьими руками он собран был. Им всегда кто-то управляет. Поэтому на Западе существует "демократия для русских". Опозоренное честное имя? Он – русский, а, значит, на особом счету, с ним можно не считаться. Тут ведь не правами пахнет – помилуйте, кому до них дело! – тут миллионами пахнет! А это, как вы понимаете, другой коленкор.
Илья, нетерпеливо слушавший, быстро заговорил:
– Ты, Соломон, об абстрактных ценностях говоришь, и все, в общем-то, верно...
– Конечно, я на твердой базе стою, – с удовольствием ответил тот, оглядывая собеседников.
– ...только в жизни иначе получается. Я Вадима понимаю, все упирается в проблему отношения к русским. На кафедре русского языка в университете всего три преподавателя – три англичанина, все трое отлично говорят на русском, занимаются им по двадцать лет. Один мужик даже шпарит без акцента. Переводит художественную литературу. Кому, как не им понимать Россию? Вот составили они экзаменационный тест для студентов, заметь, в конце 90-х годов, а в нем такие слова: "Иван Петрович шел по улице и был арестован". Вот отношение без лишних слов! Или другой случай на той же кафедре. Объявляется встреча. Эти три преподавателя приглашают русских со всего университета: специально обзванивают, зовут лично. Покупают угощение. Народ приходит, радуется новым лицам, пьет соки и вдруг кто-то спрашивает: "А по какой причине устроена встреча?" Один из преподавателей отвечает: "В честь того, что 180 лет назад Наполеон взял Москву!" Каково?! В это же время в коридоре второй преподаватель, приглаживая свои убеленные седины, так красиво оттеняющие его моложавое лицо, – как обычно и представляют себе в России иностранцев, говорит кому-то: "Опять эти русские! Сразу набежали, как халяву почуяли!"
Якобсон изумленно засмеялся, но быстро перестал.
– Я был на этой кафедре, – заметил Вадим, – интересовался, будут ли встречи, лекции – что-нибудь, но не к этой "победе", а к 50-летию победы над Германией. Как раз тот знаток русских военных дат мне сказал, что ничего не готовится, нет, нет, они заняты!
– Мало ли чего не встречается в мире! – азартно вскричал оппонент, всякие слова, а то и похуже русские о себе говорят!
– Конечно, говорят, но ведь ты не русских обсуждаешь, а граждан из высокоразвитого общества! – парировал Илья.
– Ты сам – продукт тоталитарной системы! Как ты можешь этих людей понять и обьяснить?!
– Какими сказками полна твоя голова!
– Какими сказками были полны головы у всех у нас... – с сожалением добавил Вадим. – Мы верили: есть где-то лучший, справедливый мир. Там все честнее и все не похоже на то, к чему мы привыкли. Люди там образованнее и умнее нас. Это по-настоящему свободный мир, где каждый имеет индивидуальное мнение по каждому вопросу. Уже потому, что там нет нелепой пропаганды.
– О-о-о! – восторженно воскликнул Илья.
– Что ты смеешься, – удивился Якобсон, – конечно ее здесь нет. А есть правда, да, да, – добавил он, увидев улыбки на лицах, – горькая правда о нашей ущербности, с которой вы не хотите мириться!
– Косвенная пропаганда звучит каждый день.
– Я как-то не заметил! – откликнулся Якобсон.
– Ты читаешь газеты, разговариваешь с людьми?
– Нет, – покачал тот головой, – у меня еще слабый английский.
– Так откуда ты подчерпнул свои сведения?! А я скажу: откуда в России все уверены: Запад – это рай! А народ здесь думает стандартно. Только стараются скрыть многолетний пропагандистский базис, сидящий у них в подкорке.
– Да что за базис-то?! – с легким раздражением воскликнул Якобсон. – О какой пропаганде может идти речь, если на Западе в любом киоске ты мог купить газеты Северной Кореи, Кубы, СССР – стран с враждебным демократии режимом? Здесь все доступно! А Россия славится тотальной пропагандой страна, где никогда не было ни свободы печати, ни свободы высказываний!
Илья громко и неудержимо рассмеялся:
– Соломон, где же логика! Ты жил в России под гнетом пропаганды против Запада, но все-таки считаешь, что Запад – хорош, а здешние люди, якобы не обработанные пропагандой, все-таки уверены, что Россия плоха?!
– Ну, мы устойчивые... Конечно Россия плоха! – взорвался тот. – Страна абсолютной диктатуры!
– Если на Западе не было пропаганды, как же люди уверились в том, что Россия – источник зла, ведь они, в отличие от нас с тобой, в России не жили?
– Ты меня не собьешь – здесь люди другого интеллекта.
– Слушай: западному человеку с малолетства вдалбливали в голову, что каждый русский носит в штанах атомную бомбу. Бомбу на Японию сбросили американцы, но противоречие в логике для него слишком мудрая вещь: он своим необычным интеллектом считаeт нас врагами, боялся и ненавидел. Стоял на этом и стоять будет!
– Соломон, – сказал Вадим, – мы все смеялись над пропагандой, потому что русские привыкли не доверять своему правительству. В чем-то мы наивнее, а в чем-то умнее и дальновиднее. Для нас существовали две группы правительство и народ. Эти группы не смешиваются: правительство преследует свои корыстные цели, а народ к этому правительству имеет только косвенное отношение.
– Вы имеете ввиду, что русские свое правительство не выбирали? почему-то недовольно спросил Якобсон.
– Конечно. Но ведь западный человек выбирал, и потому он считает, что и мы выбирали тоже! Ведь люди меряют вещи по себе. А раз он подал голос на выборах, то он доверяет своему правительству, а то ведь получится абсурд. Гражданин не может взять в толк, как могли политиканы в России убивать миллионы и миллионы. И совсем непонятно – почему, если правительство негодное, народ не переизбирает его. А раз так, думает он, значит они все там хороши, все перепачканные, вооруженные до зубов убийцы – такие уж люди!
– Какой примитивный, однобокий вывод! – возмутился Якобсон. – Не приписывайте развитым людям подобную чушь! Естественно, наблюдая безобразия, которые творились в России, не испытывать к ней никакого сожаления. Не много ли вы хотите?
– Он хочет любви, – почему-то томно и в нос пробормотал Илья. Чувствовалось, что ему есть, что сказать, он, в действительности, скрывает свое напряжение. Но предмет спора в этой мужской компании оказался для него интересен, кроме того, мнения их с Вадимом опять совпадали, так что Илья увлекся, отложив тяжелый для него вопрос до более подходящих времен.
– Мне эта любовь ни к чему, – ответил Вадим, – а вот вы, Соломон, пожалуй, думаете, что местные только Россию не любят, а к вам всей душой обернуться!
– Естественно, – отозвался тот, – потому что они, как думающие люди, различают истинных и – просто русских.
– Это тоже результат гуманизма? – отозвался Илья.
– Если угодно! А в стране палачей кто слыхал про гуманизм?! – загремел Якобсон.
– Что же! – вскричал Вадим, – если людей в России расстреливали, они не знают, что такое гуманизм?
– Для того, чтобы понимать, надо быть образованными – каковы люди здесь!
– Образованные? Следующая великая иллюзия!..
– Я вас совсем перестаю понимать!!
– Не горячитесь, пожалуйста. Вы все постепенно увидите, поймете...
– А знаешь ли ты, Соломон, – прочувствованно и медлительно заговорил Илья, – то, что ты про истинных и неистинных высказал, на здешнем языке называется "national harassment" – одно из ужаснейших чудищ западного мира.
– Ну, ну, – прищурился тот, – о чем ты?
– Это, как бы перевести... "оскорбление по национальному признаку", что-то типа пятого параграфа, слыхал о таком?
Якобсон фыркнул.
– Заяви ты такую идею в официальной обстановке и – хлопот полон рот! весело продолжал Илья. – С работы, пожалуй, уволить могут.
– Не понимаю, ничего нового я не сказал, – пожал плечами Якобсон.
– Верно, верно! Потому, что ты людей на категории делишь: свои и чужие, истинные и неверные. Какой же ты демократ?
Якобсон поморщился.
– И если местные нас, русских, делят на истинных и неистинных, то какие они после этого демократы?
– Так ведь Вадим говорил, что здесь, якобы, тоже два сорта демократии: для своих и чужих, для местных и для русских? – подпустил яду Якобсон и расхохотался.
– Так ведь я и не считаю, что здесь абсолютная демократия, та, которую в России приписывают Западу. Это как раз и есть моя главная мысль.
– Заговариваетесь, уважаемый!
– Соломон, поймите меня правильно, – Вадим старался подобрать верные слова. – Конечно, на радио и телевидении демократия здесь налицо в официальных программах. А еще есть жизнь. Как в русской жизни свои плюсы и минусы, так и здесь не один только жирный плюс.
– Да если не здесь, то где же?
– Да, думаю, что нигде.
Якобсон внезапно рассмеялся:
– Слушайте, если б вы держали такую речь в России, нашлись бы некие штатские и попортили вам жизнь! – Он резко поднялся, отошел к окну и заложил руки в карманы, как это делают штатские киногерои.
– Вот пример ближе. Если бы я пытался печатать статьи на эту тему в местной прессе, ни один редактор не согласился бы на публикацию. А почему? В заботе о законных правах человека на свободу высказывания? Нет. Это только в России при нарушении прав диссидента поднимался шум. Набегали спасатели западные агенства, печатали статьи, интервью. Веселье, честь, красна смерть на миру! А если его высылали – чем, надо сказать, осуществляли заветную мечту некоторых из них, – то такой правозащитник на Западе в накладе не оставался: устойчивая работа на радио или в газетах, премии мира, а, может, случится и "Нобеля" залудить. Если же вы предпримете здесь статью или лекцию, вы – не диссидент, а русский шовинист и даже шпион или попросту крайне нежелательный элемент, не разделяющий политику руководящей партии и правительства! Тебя могут лишить гражданства, а то и выгонят втихаря, безнаказанно, и не найдется никого, кто заступится за вас. Ни один не сочтет вас патриотом. На это имя наша нация прав не имеет! В лучшем случае националисты!
Якобсон приветливо поулыбался, размышляя, и уверенно сказал:
– Слушайте, я с вами не согласен принципиально. Запад много лет поддерживал диссидентов, а в их лице всю Россию. Мы – ученые, люди искусства, истинные интеллигенты, примыкали к диссидентскому движению. Разве не так?
– Никто не оспаривает. Только задумывались вы о том, каковы истинные причины поддержки Запада?
– Самые гуманные!
– Откуда вы знаете?
Якобсон, изумившись, оглянулся вокруг:
– То есть как?
– Ну да, откуда вам известно? – в большой задумчивости повторил Вадим.
– Вот так вопрос! – воскликнул Якобсон. – Это все знают... много лет, вы что же – не в курсе дела?!
– С потрохами обдурили твоих диссидентов, – бросил Илья. – Это движение превращено в кaмпанию против России!
– Чтобы в глазах общественного мнения подчеркнуть свою "истинную" демократичность и ярче обрисовать "красную" опасность! Их примитивно использовали, а они так старались заслужить одобрение, – твердо поддержал Вадим. – Вы заявите: слышали, знаем. Но скажите такое в Москве, и на вас все обидятся. Я упомянул уже и думаю, что стыдно было получать Солженицыну Нобелевскую премию. Понятно и ребенку, что он не получил бы ее ни под каким видом, не будь это награждение политическим броском против России. Долг его чести был – отказаться. Да души не хватило.
– Да что вы... – неловко, в волнении пробормотал Якобсон и почти побагровел. – Россия терпит трудный период. В этот, 95-ый год все знают, что Запад помогает нам встать на ноги! Кредиты, Международный валютный фонд – вы вообще телевидение смотрите?!
– Наивно, Соломон. Запад – это мир двойного стандарта!
– Наивен ты, Илья, у тебя отсутствует широкий взгляд на вещи. – Якобсон поворошил свои пушистые седые волосы и добавил: – Мелко берете, а пора научиться понимать не сиюминутное, а стратегию!
Вадим, не выдержав, вскочил и в волнении заговорил:
– Я это слышал в русских телепрограммах. В России ненавистническое отношение к собственной стране и слащаво-восторженное к Западу! Эта слепота и непростительная глупость закончится катастрофой! Они непрерывно ползут к нашей земле. Чтобы расчленить Россию на мелкие огрызки, прикончить нас как страну. Они истощили свои природные богатства, но у них осталось плотоядное желание потреблять все больше – теперь им в руки свалился бесценный дар беспомощная Россия. Выход найден! На несколько столетий они обеспечены рабами и добычей! Вы никогда не должны забывать об этом: в любом своем поступке они руководствуются корыстью. Бескорыстно они никогда нам не помогут, потому что они нас ненавидят!
– Точно! – вклинился Илья, – они тут народ до того довели, что школьники говорят: войну начали русские, а выиграли американцы!
– Не верю я!!!
– Ха-ха! Вот, читаю! – Илья схватил со стола и покрутил в руках баночку с таблетками: – "Ягода билберри исправляет зрение. Ее препаратами английские пилоты улучшали зрение во время Второй мировой войны. Многие думают, что это оказалось главным фактором в победе над Германией".
Якобсон замахал на них руками.
– Соломон, они каждый день втихаря крадут нашу Победу! – сказал Вадим и спросил: – Вам не казалось занятным, почему страны, которые в числе других были спасены русскими от нацизма, почему именно они – наши союзники! начали "холодную войну" против России уже в 45 году? Против страны-освободительницы!
– Не требуется особой прозорливости, чтобы понять: причина в осторожности к тогдашним русским властям.
– Сталин – не подарок. Только у меня возражение: Сталин умер в 53 году и "коммунизм" скончался. Но сейчас, после политических перемен, все осталось по-прежнему: презрение, подозрительность к России. Ведь ничего не изменилось! Корни очень глубоки: то же отношение к русским выражали английские путешественники еще в 18 веке! Только разглядев эту нацию изнутри, я понял мотивы их отношения к России.
– Да что надо в русских понимать? – Якобсон сильно разгорячился, смотря озадаченно, и чувствовалось, что эти слова для него чужие.
– Да ведь разница как между "мыльной" оперой и прозой Шаламова, хорошей живописью и розовой машиной – разное все! Это общество упирается в грубо прагматические ценности: Деньги, Благополучие, Комфорт. А что дальше? Ничего. Жизнь протекает в зарабатывании денег, в правильном использовании денег и снова в зарабатывании денег.
– Знают все сто лет!
– А если знают сто лет, то почему все восхищаются этим?! Ведь Запад нравится!
Якобсон посмотрел в окно.
– Для такой жизни учится не надо, здесь образование получают за три года вместо пяти.
– Банально!
– Если банально, то почему в России не могут без восторга говорить об "образовании в западных университетах"? Все должны были бы знать, что качество этого образования – уровень нашего техникума! Особенно паршиво с этим в Америке. Вровень с нашими институтами стоят только французские университеты. Вот вам и банальность! Здесь людей не учат думать, а дают знания, как деньги заработать, поэтому специалист в элегантном костюме полу-грамотный и не интересный человек. Его ценности по Пушкину: "двор, лен и скотный двор". Образование отражает культурное лицо нации, и общество это беспросветно и бесталанно.
– Что ж, любопытная концепция. Только по мне – и хорошо, и правильно! твердо заключил Якобсон, подумав. – Человек должен всего добиваться сам. В каждом обществе есть своя романтика. А откуда взятся пониманию? Вместо того, чтобы наживать, прикапливать капиталец, русские берут и умирают за какую-нибудь идею!
– Вы, Соломон, замечательно в точку попали! Так хорошо сказали, что и добавить нечего! – весело сказал Вадим. – Русские, живя бедно, пишут музыку, книжки, летают в космос, обгоняя "саму" Америку! Где так много еды, где так много денег! Откуда у русских наука, искусства? Ведь они живут без Комфорта!
Якобсон пожал плечами:
– Не понимаю вашей иронии. Это, действительно, парадокс, но лучше б его вовсе не было... ибо всякие там достижения в России появлялись из-под палки, надеюсь, это вы не станете отрицать? Абсурд – жить в нищете и заниматься, якобы, каким-то творчеством! Что может сделать личность, пусть и с задатками, но получившая серенькое образование, не привыкшая к свободе выбора. Живя в замученной стране, где нет свободного взгляда на вещи, нет воздуха, в отсталой стране, где ничто не работает!
– Вы, Соломон, как многие в России, свою страну всерьез презираете, но с ней вместе и себя считаете неполноценным.
Якобсон хмыкнул. Илья отвел глаза.
– Может быть, здесь свободы больше, – заметил Вадим, – но давайте посмотрим, как они ее используют: люди с университетским образованием не знают собственную культуру. Шекспир кажется им никчемным барахлом! Я слышал это от англичан – физиков, биологов. Им не интересно! Что-либо иностранное знают по Голливудской дребедени, и ничтожная вероятность, что они захотят узнать русскую культуру, разобраться, сделать выводы. Они презирают то, что вне их бытовых интересов.
– Кто здесь будет интересоваться русской культурой, Вадим! – воскликнул Илья. – Знаешь ли ты, – обернулся он к Якобсону, – что в университете на кафедре русского языка обучается по четыре-шесть человек на каждом курсе!
– Ты хочешь сказать в каждой группе?
– Нет, на курсе!
Якобсон вытаращил глаза и не нашелся, что ответить.
– Западному человеку, – подтвердил Вадим, – на Россию совершенно наплевать, но если искренне, то это – глубокое подозрение. В России смесь бедности в каждодневной жизни и достижения в остальном. Это абсурдно, это даже пугает. Ну как можно писать стихи и не иметь две машины на семью?! Запад чисто по Марксу живет, хотя Маркса они ненавидят: бытие определяет сознание: две машины больше вдохновляют писать, чем одна! Притом сначала машины. И зачем эти стихи нужны? Хотя если от них доход... Здесь пропасть между небуржуазным русским характером с его ценностями и местным прагматизмом.
– Ценности! У русского народа! – вскричал Якобсон в запальчивости.
– В жизненный модуль русского заложены ценности развития себя, поисков заветной цели...
– Нищета, серость, алкоголизм – это мы можем понять! Нет ценностей по их деревням, и посмеются они над вами, если заикнетесь об этом!
– ...иногда даже с потерей благополучия, – закончил Вадим.
– Все, приехали! Грандиозно! Я так и знал, уверен был, что вы к этому придете! Непременно найти себя в жизни с потерей благополучия!!! – Якобсон захлопал в ладоши. – До этого только русский мог договориться!