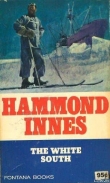Текст книги "Южный Крест"
Автор книги: Марина Бонч-Осмоловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Бонч-Осмоловская Марина
Южный Крест
Марина Бонч-Осмоловская
Южный Крест
С любовью посвящается моему мужу Алеше.
Эпиграф: Когда я прошел этот путь, я остановился и увидал дела свои...
Пролог
Моя жена и я – мы едем в гости в этот праздничный вечер. Нет спасения от жары. Австралия. Новый Год.
Машина шуршит далеко-далеко, через весь город – сквозь австралийскую ночь. Мимо текут спальные районы: множество домов, разделенных крошечными лужайками, розами, парой-тройкой деревьев – нескончаемые, неразличимые, как солдаты, как солдатские гимнастерки, как холмы и деревья, придорожные камни, травы и заборы, как загородки вокруг пастбищ – мириады километров колючей проволоки, обнявшей всю страну, оберегая священную частную собственность, как шаг вправо и шаг влево, как сознание правоты, а также непоколебимости, как неугасимая повторяемость того и сего, для них и для нас, и сейчас, и во веки веков.
Как легко все кануло во мрак. Я поднял голову, и вот передо мною Ночь горячая, болеутоляющая, необъятная австралийская Ночь, облившая все небо несметным множеством звезд, слишком просторная, слишком глубокая, и звезды слишком крупные и блестящие горят в немыслимых сочетаниях, как будто не здесь, совсем не на этой Земле, а во сне, в дремоте об этой ночи – вон та, та – совсем желтая. Южные Звезды – это сон и бред, этого не может быть, это – пираты, "Дети капитана Гранта" летом под одеялом, когда все спят и тишина, молочница поутру, душистый сбитень сада с его благовонными, проливающимися соками на границе соснового бора, сладкое горение земляничин, их случайный праздник среди теплой травы. Щуки и судаки, пойманные в это утро, их зеленые бока, как звездное небо. И как звездное небо, усыпанный существами лес, и вода, и воздух, и ты – мелкой жизнью вместе с ними. Там, где летние воды сливаются в высоких травах, неся в себе рыбу, лодки, пузыри и другое, что наполняет воду. Там, где пыльная, долгая дорога на Волгу – пыльная и жаркая – босиком. Толстые, заварные летние облака – ослепительные облака моего детства... Еще не серые, не размазанные пальцем по стеклу, как зимняя скорбь. Вот сливочное за 13 копеек в ларечке, достань монетку, разожми потную ладошку, лижи его скорее – вот уже капает и течет по рукам, и пальцы сладкие, горячие и липкие. Добрый шелудивый пес тоже высунул язык и смотрит, что это у тебя там в руке. Молочные реки, кисельные берега, сон, сон терпкий от запаха смолы, терпкий от запаха родного вокруг, молочный сон по-над речкой на полустаночке Бубна.
Сюда закралась ошибка, очень странная ошибка – ты говоришь: "Южный Крест над головой". Может быть, это чей-то рассказ, чей-то рассказ в сосняке напротив дома, когда падают сумерки, и одна птица редко и одиноко вскрикивает что-то, принося печаль. А, может быть, это недописанная глава в книжке о капитане Гранте, но где я – там или здесь, а, также, кто я и зачем? Откуда такая горечь?.. Что бы ты сказал мне на это? Я бы хотел поговорить с тобой, но ты только повторяешь: "Южный Крест над головой".
Оглянись, ты видишь – тебе все это снится: и жара в Новогоднюю ночь, и тайное дыхание Великого океана – его порывы, влага и всевластье. И немыслимая древность этого материка, лежащего в водах за пределами жизни, не нуждающегося ни в чем и менее всего в человеке. В этой стране есть что-то странное, невыразимое: какая-то загадочность и даже мрачность. Она кажется одухотворенной. Так можно говорить об одушевленном существе, как если бы не все вокруг было живо, а сам материк – то, что под ногами, – кажется живущим. Это необычное чувство, но от него невозможно отделаться: он ощущается как архаичная и очень темная сила. Он сам-друг, корявый, слепленный из красного, бесплодного камня, покрытый сухими, пахучими лесами, полными странных и невиданных животных, вымерших повсюду миллионы лет назад, но живущих здесь от сотворения мира. И такими же древними, высушенными аборигенами, не создавшими ни домов, ни вещей – о! ни домов, ни вещей! Они бредут, как странники, по этой красной земле, по пустыням и лесам, смотрят на Океан, танцуют, мягко притоптывая в такт, и рисуют подлунный мир и жизнь, нанося сложные сочетания кругов и точек. Они верят в свой "Dreaming" (мечтания англ.) в котором нет слова "думать", а только "грезить" – непереводимый ни на какой язык, ибо за сорок тысяч лет им не было нужды записать это, и они не создали ни письма, ни алфавита – но верят в словах и красках ощущаемых, как мир, чистое пространство, в котором человек живет вместе с Богом, в котором человек часть Бога и в этом его предназначение.
И в этом бездонном мире между прошлым и еще более прошлым, между водой и звездным небом, камнями и листьями, неведомыми тропами и невиданными путями, движением "от" и приходом "к", между явью и сном, в этом чудотворном пространстве, пульсирующем, как красное сердце, – белый человек с его бензоколонками, закусочными и демократическими выборами, с этой его непробиваемой мощью – в этом бездонном мире белый человек только "рябь на лице кармы".
Глава 1
В новогодний вечер вежливый поток машин несет в себе, завораживая теплом огней, неторопливым движением, сопричастностью к общему празднику. Эта яркая река людей и огней! Вьется, лучится в своих берегах, обещая, предвкушая, зализывая раны и грехи, уговаривая и утешая. Праздник, праздник! Гремите погремушками, раздавайте авансы, посыпайте головы конфетти, изящно лгите себе и другим, уснащая эту жизнь: сделайте жизнь другой, сделайте жизнь праздником прямо сейчас! Радость, подарки, застолье – все, как прежде, как встарь, но может быть лучше, новее? Конечно, конечно, и жизнь не такая, как тогда, жизнь будет ярче, умнее! Верь, верь! Вот она сила, вот – надежда и обновление, вот она звездочка вдали!
Так было, будет, есть – Прекрасной жизни зонтик! Прогулка, фаэтон, лишь рикша впереди... Беги, моя звезда! я – за тобой, я – гонщик! А разобьемся вдрызг: так нами пруд-пруди!
(Стихи Е. Тыкоцкого)
Она курит много и скорее по инерции, привычно и зорко отмечая названия магазинов, вывески распродаж, временами в разноцветных вспышках фонарей видя за рулем лицо мужа с бородой и волосами в бликах седины и с вечной печалью за старой оправой очков. "Он все-таки удивительно не подходит к этой стране, – думает она по привычке и добавляет с досадой: – И чего ему не хватает!" Она включает музыку, и тишина, так часто наползающая на них в последнее время, изчезает. Обычно Лена не выносит молчания. Теперь она чувствует себя бодрее и прибавляет звук. Вадим не замечает ни музыки, ни осуждающих взглядов жены, ни сигаретного дыма.
...Я видел дожди, долгие, ледяные... Но вот они сменились теплым снегом, а под самый Новый Год ударила стужа. Стояли настоящие морозы... Вадим вдохнул горячий запах австралийской зимы. – Снежный холод летел вдоль Невы, вдоль линий. В этих сумерках я ехал на троллейбусе домой, мечтая о чае, любимой лампе на столе и картинах, покрывающих стены драгоценным ковром. Сколько лет я собирал их, сколько лет разглядывал поутру, каждый день заново. Мой дорогой дом...
– Вадик, ты бы мог со мной поговорить... – натянуто сказала его жена. О чем ты думаешь.
– О Питере.
– Как обычно!
– Ну почему... – отозвался он.
– Уж не знаю, – она резко отвернулась, посмотрела в боковое окно и уверенно сказала: – Бессмыслица какая-то. Зачем?
– Что – зачем?
– На черта он тебе вообще понадобился?! – Лена сунула окурок в пепельницу и выключила музыку. Села поровней. – Ладно, Бог с ним с Питером и Россией этой. Но ты постоянно о том времени думаешь, а я чувствую, что здесь еще что-то замешано, да?
Он промолчал.
– Тут не в маме дело, – сосредоточенно продолжала Лена, – и не твои сантименты: речки, грибочки, пенечки... Ладно, ладно, – добавила она, заметив, что Вадим поморщился, – это, в конце концов, твое дело. Но я о другом, – она помедлила, пристально глядя перед собой, явно сдерживаясь и собираясь с силами. А затем произнесла миролюбиво, как будто спрашивая, но и утверждая, с чуткостью близкого друга: – Слушай, ты влюблен был до меня сильно?
Вадим взглянул с удивлением, но отвел глаза прежде, чем жена посмотрела на него.
– Давай найдем более подходящий момент?
– Вот и ответ.
– Нет, конечно. Мы ведь на праздник едем.
– Очень хороший момент! Когда, как не в праздник, можно посекретничать о нашей жизни. – Голос ее стал мягким и вкрадчивым: – Кто она?
Вадим долго не отвечал, Лена не торопила.
– Это было давно... Может не надо?
– Вы как познакомились?
Он помялся и нехотя сказал:
– Она как-то позвонила, спросила, нельзя ли посмотреть мою коллекцию живописи. Да, конечно, – ответил я, – когда вам удобно? – Может быть завтра? – Хорошо, завтра. – В шесть часов? – Да, можно в шесть. Вот и весь разговор.
– А завтра?
– А назавтра она пришла.
– И что потом?
– Я открыл дверь, взглянул ей в лицо. А потом повернулся и ушел в комнату. Она засмеялась и пошла следом.
– Почему?
– Она тоже спросила потом – почему? Просто... это было как столбняк, проговорил он с затруднением.
Лена не шелохнулась. Посидела и угрюмо сказала:
– Я ничего не знала.
Он дотронулся до ее плеча.
– Это осталось в другой жизни.
– Дальше?
Он переложил руку на руль. Долго молчал, а потом через силу выговорил:
– Она в Москве жила.
– А ты в Питере?
– Да, я в Питере.
– Вы редко виделись?
– В общем, нет. Мы часто виделись. Я ездил к ней по выходным.
– В Москву? Каждые выходные?!
Он кивнул головой.
– Как долго?
– Около двух лет.
Лена быстро взглянула на него яркими глазами.
– Все, можешь дальше не продолжать! – она замерла, осмысливая услышанное. Открыла и сразу же закрыла окно. Закурила снова.
– Я же говорил, это – мазохизм.
– Какое у нее лицо?
– У нее веки тяжелые. А лицо Ботичеллевское.
– Может, она и художница?
– Не угадала. Но она рисовала, иногда покупала акварели.
– Как ее зовут? – продолжала Лена бесстрастно.
– Маха, я звал ее Махой, ты помнишь женщину с картины Гойи?
– Да... вроде... Слушай, ты полюбил ее сразу?
– Это было странно. В тот момент и потом... меня не отпускало чувство предрешенности. Я просто знал, что это наступило. Поделать ничего нельзя. Я не мог оторваться от ее лица... оно пугало меня – это было именно такое лицо, какое я видел раньше внутри себя, это было оно. Она сидела живая напротив меня и говорила о художниках и книжках, и это были мои мысли.
"Иногда я видел ее профиль с тяжелыми волосами, поднятыми вверх, и думал, что не вынесу этого", – додумал Вадим про себя.
– Она взяла тебя сразу, всего целиком, не спросясь и не раздумывая! спросила Лена с оттенком такого сложного чувства, что Вадим внимательно посмотрел на нее и быстро сказал:
– Все, давай остановимся.
– Один вопрос. Почему вы расстались? Ведь вы не должны были расстаться? – она, очевидно, ожидала слов разубеждения, но он не заметил ее игры и не распознал внутреннего призыва. Он только сказал изменившимся голосом:
– Эти годы я не заметил. Я просто ездил к ней.
– Ведь она любила тебя?
– Да... Только потом... она стала звонить мне в Питер, просила не приезжать. Она уставала и хотела порисовать. А я все больше чувствовал тоску без нее, я пропадал. Я не мог себе представить что-нибудь такое, пока не пришел тот день. Когда же наступил тот день, она сказала, что любит другого и выходит за него замуж, – Вадим неуклюже покраснел, не в силах справиться со своими чувствами. – Потом я вернулся в свой дом, я вернулся в свой дом, повторил он, не замечая жены, – но ничто уже не вернулось ко мне ни тогда, ни после.
Лена вздрогнула. Лицо ее исказилось, и она вне себя отвернулась от мужа. Казалось, она ждала каких-то слов. Не дождавшись, открыла карту города и долго бессмысленно глядела на нее. Затем достала из сумочки адрес, по которому они ехали, и принялась разбираться в лабиринте спальных районов.
Вадим, как часто бывало с ним, сосредоточившись на чем-то, перестал замечать происходящее вокруг.
И все кончилось, и я кончился, и время кончилось. Моя любимая, мое счастье, я не знал ничего до самого последнего дня. Я ничего не знаю и сейчас, кроме того, что ты не любила меня, отмерила мне столько-то дней и позволила быть счастливым рядом с тобой. Я смотрел в твои глубокие глаза, целовал твои белоснежные веки, тяжелые и прекрасные, обнимал тебя и страстно и нежно, я сходил с ума от твоей красоты и любви. А ты не любила меня. Как странно – я не видел этого...
Тогда... начался бег... от тебя, от твоих глаз, пальцев, губ, бег от нежности поцелуев твоих и обвала страсти моей, бег в небытие, в жизнь без тебя. Нельзя смотреть на тебя, ждать, трогать тебя, ничего нельзя, мне нельзя.
И вскрикнула тихо жизнь Лота – жена, И солью оделась как тогой она.
(Стихи Е. Тыкоцкого)
Сколько лет минуло с той поры. Сколько лет я бегу от тебя, сколько лет я несу эту тогу. Где я и кто я? Вот вокруг чужая страна, вот вокруг чужие, холодные люди. И рядом со мной сидит женщина. Если спросить ее, она скажет, что жена мне. Пусть так. Я виноват и не должен был. Сколько вещей нельзя было делать. Я не должен был приходить, встречать, любить и, может быть, жить. Вокруг ночь, вокруг миллионы, кому можно было любить, а также те, кому нельзя. Бесконечно и бессвязно я возвращаюсь к тебе, незабвенная радость моя. В этом нет смысла, все это пустое и пусто во мне, но нет покоя годам, проведенным без тебя. Прошлое жизни моей и блуждающие тени плетут нить пути, намечая шаги затерявшегося в сумерках среди зыбких огней, обманом завлекая в бесплодные края, источая надежду и разрушая сердце. Что потерял ты на том берегу, что за знаки ловишь ты в столбняке холода, прижавшегося к тебе всей грудью. Закрой глаза и забудь.
И вот рядом моя жена, женщина, что взялась изменить все в моей жизни: память, мысли и поступки. Нельзя сказать, что это ей не совсем удалось. Все, что делает этот человек, он неизменно доводит до логического конца. В ее решимости быть со мной, улучшить жизнь, исправить мои ошибки – неизбежность: приливов и отливов, бега электричек, размеренности утреннего расписания, вкуса рыбьего жира дней моего детства в тихом доме на полустаночке Бубна.
Мощь и энергия жены неукротимы. В те далекие времена, когда мы жили в Питере и мне постоянно не хватало времени на одну работу, в музее Мраморного дворца, жена ухитрялась работать на двух, бегая на преподавание в техникум, вдобавок, покупая съестные припасы на точках своих городских пересадок. Приезжала она домой, конечно, уставшая и, пребывая остаток вечера в состоянии активного труда, к ночи падала замертво. Все, что делает этот человек – он делает не для себя, и ее семья не умеет как следует оценить это.
Вот мы – наша дочка Динка и я – сидим дома одни. За нашими окнами медленно падает крупный снег. Он безвоздушный, как чудо, и кажется немного неестественным, как театральная декорация, потому что небо не ночное, а розовое и светящееся изнутри, как бывает, когда над вечерними огнями небо в поволоках туч. Мы любим быть одни, когда тишина и время ничем не омрачаются вокруг. Вот как сейчас: нежное кружение снега. Мне чертовски уютно в кресле. Оно дедовское, старое и очень глубокое. Когда-то бабушкин кот точил свои юношеские когти о его кожаные бока, что придало ему совершенно своеобразный узор. Динка сидит за большим столом под лампой не дыша: разглядывает марки. Очень тихо. Иногда под окошком пробежит мальчишка, подзывая своего пса, или вдалеке отзовется звоном бег трамвая. Я разглядываю огромный том "Искусство Флоренции", я тоже, как и Динка, не дышу. "Здесь прошелся загадки таинственный ноготь..."
– Что, папа? – откликается Динка.
В прихожей прозвенел звонок: раз, два – значит, Лена. Динка сорвалась открывать, а я перевернул страницу. Вот он – Джотто...
Лена вошла вся в снегу.
– Привет, Ленок!
– Привет, привет. Да не на пол, там же хлеб! Эти чертовы автобусы, ждешь – ждешь, никак не сесть, а потом – вот тебе, пожалуйста, все руки оборвут. Дина, ты, я надеюсь, вымыла посуду?
Динка оторвала горбушку и забралась на свой стул.
– Я потом помою.
– Опять – нет. Как мне надоело слышать это каждый вечер! – воскликнула Лена раздраженно. – Руки, ты вымыла руки с улицы? И сколько раз я тебе говорила, чтобы ты не уродовала хлеб!
Она включила верхние лампы, и комната осветилась безжалостным больничным светом. Потом, как обычно, пошла мыть руки. Когда она вернулась, я попросил:
– Выключи, я этот свет не люблю.
– Сидите тут в потемках – глаза испортите, – отрезала она.
– Так уютнее.
– Вечно ты интим разводишь, – заметила она досадливо. – Нечего мне тут с вами. Ты что-нибудь приготовил?
– Нет, – я уставился на нее, – тебя не было, я и не знаю что.
– Так всегда: придешь измотанная, а потом торчи у плиты!
– Я помогу. А ты посиди, хочешь я чаю сделаю?
– Вечно эта вода! Сиди уж, все равно ты не знаешь, что надо делать, она рывком открыла холодильник и, прихватив пару свертков, двинулась к выходу: – Дина, чтобы немедленно начала мыть посуду, я тебя жду!
Динка растопырила ладошки и воззрилась на них:
– И чего это мама так ручки любит мыть, объясни мне на милость?
Я улыбнулся и притянул ее за острые плечики. Настроение у меня пошло вниз, стало муторно и... скучно. Я прильнул к Динке, подышал ей носом в ушко тихо, тихо, она посопела мне в щеку и побежала на кухню. Я сел на подоконник с ногами. Окна у нас овальные и огромные, почти во всю стену, а подоконники – широкие плиты пестрого мрамора. Старые Питерские комнаты... На подоконнике сидишь, как "птиц" на жердочке: вокруг сугробы, снежная гора запорошенной школы, а вдалеке, чуть справа, розовый силуэт Андрея Первозванного. Белое на белом. Розовое и белое в ночи... Красота-то какая...
Внезапно дверь распахнулась – в проеме появилась взъерошенная Лена:
– Ты брал мою прихватку?
– Нет.
– А кто же тогда? Ведь соседка не могла! – заметалась Лена по комнате. – Ты и брал, засунул куда-то и забыл! – в ее тоне крепла решимость, глаза засверкали.
– Я правда не трогал. Мы тут себе сидели, – сказал я безнадежно.
– Она мне нужна. Срочно, понимаешь ты это! – Лена вперилась в меня бешеным взглядом и закричала: – У меня там все сгорит!
Я замотал руками как-то глупо, а Лена вылетела в коридор, грохнув дверью.
Бедная Лена... Заботиться о нас, а мы – эгоисты, чем мы в самом деле занимаемся... Она же ребенок, за ней ходить надо, как за ребенком.
– Чем ты тут занимаешься?! – Лена выросла на пороге. – Неужели ты не можешь на стол накрыть?!
– Леночка! – я бросился к ней, – что за суета?
– Что значит "суета"! – с мрачной иронией воскликнула она. – А кто, интересно, за меня все сделает? Ты думаешь, дело в ужине? Мне надо постирать – уже замочено, Дине форму погладить и кухню помыть – наша очередь! – она стремительно бегала по комнате, разбирая вещи. – Ты взгляни, что творится: пыль, все разбросано! Дом на мне, я как козел отпущения!
– Пусть, – бормотал я, – немножко с грязнотцой, зато тихо, хорошо...
– Ничего хорошего!
– Ты отдохнешь... и знаешь, – я обнял ее и поцеловал, – я соскучился по тебе...
– Вадик... – глухо сказала Лена и отодвинула мою руку.
– Угу. Давай Динку уложим и погуляем, а как она уснет, мы с тобой вернемся...
Помедлив, она ответила мне так:
– Как можно дела отложить – надо сделать и то, и это. А потом поздно, я устала, боюсь, нехорошо будет.
Она прятала от меня глаза. Я повернул ее голову ко мне:
– Ты отложи все – вот как просто – и иди ко мне! Трудяга ты моя...
– Оценил? Вы бы без меня пропали!
Видя, что она отмякает, я закивал и засмеялся:
– Пропали, конечно, пропали бы, ты даже не сомневайся!
– Нет, Вадик, нет! – она зорко взглянула на меня. – Вы меня замучили, я ничего не могу – по крайней мере сегодня. А там видно будет! – прибавила она укоризненно и с сильным чувством.
Я растерялся.
– Слушай, я чувствую себя виноватым. Не гневайся, государыня рыбка!
– Вечно ты, Вадик... – Лена улыбнулась с сарказмом, но вдруг резко повернулась ко мне: – Да, ты виноват! Смотри, что получается: я вкалываю на двух работах, прихожу домой и дел невпроворот! А ты советуешь: брось все и иди любовью заниматься. Да еще чувствуешь себя на высоте положения!
– Я не чувствую... – я сделал попытку поймать ее руки.
– Нет, чувствуешь! Я знаю! – выкрикнула Лена убежденно и неожиданно взглянула на меня с таким вызовом, что меня отшатнуло. Ее лицо подурнело, и она не могла сдержать захлеснувшей ее злобы: – Ничего ему больше не надо! Весь на небесах, весь в искусстве! Надоело!! – взревела она и мощно толкнула меня в грудь. – Уже тошнит от всего!
Она пробежала мимо, рывком распахнула форточку, с грохотом захлопнула ее и побежала по комнате, хватая и беспорядочно переставляя всякие предметы. Я остолбенел: в первый раз я видел жену в таком виде.
– Все равно! – опомнившись, заговорила она с тяжелой страстью, – хватит с меня! – она схватила себя двумя руками за голову и зашипела с перекосившимся лицом: – Ничего хорошего... ничего хорошего нет во всей жизни... – Внезапно ее голос осип, и из нее рванул неудержимый поток с рыданием и воем. Я обнял ее, отнес на диван и прилег вместе с ней, крепко прижав к себе. Она билась в моих руках, то принимаясь вырываться, то зарываясь лицом на моей груди, а я все гладил ее, обнимал, гладил, и вот она подняла на меня зареванное лицо, и к своему изумлению я прочитал в нем робость и раскаяние, как если бы она хотела сказать мне что-то необыкновенно важное и сказать как самому родному, лучшему другу.
– Со мной что-то происходит... – лепетала она жалобно, – даже не знаю, как объяснить... – она тряслась, кончик ее носа побелел, и, дергая меня за рубашку, она забормотала: – Однажды я села на автобус, ну просто еду себе, и вдруг у меня сердце остановилось от ужаса, что я прямо сейчас, не сходя с места умру! Именно потому, что еду!
– Что ты говоришь-то?! – вскричал я.
– Со мной такого не бывало! Я перепугалась и на следующей остановке выскочила. А, потом, думаю, надо ехать и села на другой автобус. И почти до метро доехала, как опять началось! – Лена смотрела на меня дикими глазами.
– Что началось?!
– Само накатило. Сначала тошнота и кажется, что может вырвать, а потом чувство – – сейчас я умру! Если сию секунду не выйду!
– Ленка, у тебя нервы расстроены, ты устала! Все пройдет!
Она тихо покачала головой, отрывая и грызя кожу на губах.
– Я потом в метро села, и тут кошмар начался... опять – как обвал – как стена валится, а выйти-то нельзя! Понимаешь – выйти некуда! И знаешь, что сейчас умрешь! И знаешь, что серьезно, без уловок! – в полном отчаянии зарыдала она, а я прижал ее лицо к себе и готов был реветь вместе с ней.
– Я тебя спасу. Тебя любить надо, малышка! – шептал я ей в самые губы.
Она обняла меня за шею, прижалась, размазывая слезы.
– Почему ты раньше не сказала?
– Не знаю... не могла...
– Ну вот! – я расстроился вконец, – зачем скрывать, глупая! Давно это с тобой?
– Да... порядочно.
Мы в испуге смотрели друг на друга.
– Это нервы и хронический недосып.
– Я чувствую, что это не усталость, – она задумчиво взглянула на меня. – ...что-то другое...
– Что, скажи мне?
– Я не знаю.
– Так как же ты знаешь, что это не усталость?
Ее лицо медленно темнело. Она молчала, несколько мгновений размышляя, потом не говоря ни слова оглядела меня отрешенно, отвела глаза.
– ...Нет... не знаю я, – развела мои руки и принялась прибирать на столе. Я пытался дознаться, что она думает, все было напрасно – Лена захлопнулась, как будто испугавшись своей внезапной откровенности. Лицо ее было смущенно, и чувствовалось, что она, кажется, боится продолжать этот разговор. Не обращая на меня внимания, она занялась своими делами. Грустно прошел вечер. Динка ничего не заметила, не считая того, что мама, как обычно, "не в настроении".
На следующий день я сделал попытку поговорить с ней.
– Слушай, вот вчера... словом я хотел спросить, что это было? – я вопросительно уставился на нее. – Ты сказала, что это не усталость...
– Кто сказал?
– Ты сказала.
Лена пристально посмотрела на меня, сухо и сатирически усмехнулась:
– Что ты хочешь?
– Я хочу... я... – повторил я, как баран, – я просто узнать хочу.
– Ах, узнать?! – глаза ее вспыхнули, – интересуешься, что да как! Препарируй меня, посмотри, что внутри! Ты думаешь, тебе все можно?!
– Я не думаю...
Видно было, что злоба то подавлялась, то разгоралась в ней с новой силой, и она не может с этим совладать.
– Если ты что-то услышал, – она задыхалась, едва выговаривая слова, и быстро бледнела, – ты теперь издеваться надо мной будешь, да?!
Я разинул рот и не мог найти, что ответить, так неожиданны и несправедливы были эти слова. Но, главное, я вдруг понял, что узнал ее тайну, узнал случайно, а не должен был, и не забуду ее теперь, буду думать о ней и в один день когда– нибудь разгадаю. Ведь непременно разгадаю. В этом теперь и задето ее самолюбие: больше всего в ней – наших с ней отношений и меня. А хуже всего, что я, узнав, – обидел!
– Я тебя не люблю! Получил! – она взглянула на меня ликующе.
Я понял, что ее самолюбие должно взять верх, побороть меня. Я тут же успокоился и улыбнулся:
– Ты сама себе не веришь!
Она вспыхнула, разглядев мое спокойствие. Опустила голову, долго глядела в пол. Потом прошептала:
– Конец всему. Говорю тебе! – и посмотрела долгим, угрюмым взглядом.
– Да за что же! – вскричал я, – что я тебе сделал?!
– Вот ты! Ты и есть мой самый главный враг!
Я остолбенел, чувствуя полную мешанину в голове, и только одна мысль звенела: "Ты виноват, ты, ты!" Я не знал, не понимал хорошенько, как и почему, но чувствовал, что это правда. Все эти ужасы, случившиеся с ней, каким-то образом связаны со мной, я – причина этого, а ведь события-то реальные. Стало быть, и причина какая-то реальная и, наверное, известная Лене, но непонятная мне. Тайна, в которую меня не посвящают, а сам я не в силах разгадать. Я терялся в догадках, ужасался ее новым и страшным чувствам ко мне и страшился повторения ее приступов. А они не замедлили повториться.
Вскоре в транспорте Лена ездить совсем не могла. Несколько раз я сопровождал ее на работу, и наши попытки проехать немного неизменно заканчивались удушьем, страхом, переходящим в стремительно нарастающий ужас немедленной и внезапной смерти. Мы выбегали из автобусов, троллейбусов, трамваев, пока случайно не выяснилось: единственное, что Лена переносит это такси. Так ей удалось сохранить свою работу.
Однажды вечером Лена пришла в веселом расположении духа, болтала с Динкой о воскресном походе в зоопарк и совсем нас очаровала. Когда букашка нежно засопела за своей перегородкой, мы даже тихонько включили музыку. Я не мог нарадоваться ее перемене. Лена выглядела чудесно: была остроумна, смешлива, соблазнительна, я помолодел вместе с ней за один вечер.
Прошло несколько месяцев. Лена стала приходить домой поздно, еще позже, еще. Иногда и ночью. Звонила от каких-то подруг, с которыми у нее были то встречи, то театры. Когда она легкой тенью проскальзывала в дом, мы чаще всего уже спали. Однажды утром мы обнаружили, что мама с нами не ночевала. Впрочем, как оказалось, Лена осталась у своей Нинки на Петроградской.
Наша жизнь мало-помалу совсем переменилась. У жены появились новые дела и множество новых подруг, ее день был переполнен, но это только шло ей на пользу: болезненные приступы как-то изчезли, растворились сами собой. Она заметно похорошела. Я дал ей полную свободу, видя, что она пошла на поправку, а Лена... да ей было не до того – мы редко видели ее дома.
В это время голова моя была занята до крайности: на носу была огромная экспозиция. Кроме того, я всерьез увлекся Филоновым и готовил обширную работу. Времени не хватало, я торопился, дом, Динка и все вокруг качалось на белых волнах заполонивших все, волнующихся бумаг: они закручивались внезапными потоками, легкими каскадами падали со стола и вновь на стол, увиваясь течениями между диванами, столами и лампами – левые, а, иногда, и правые течения, вдруг собирая силы в узкую и прямую стремнину, обозначавшую верность и яркость приближающейся мысли, – и тогда белые волны поднимались в высокие пики. Временами вялость белых потоков растекалась в унылые мели и тогда, только изредка, выбрасывала с тонким шипением к моим ногам точные строчки.
Я работал не прерываясь, оторвавшись от реальной жизни, забыв обо всем: о проблемах взрослых и проблемах детей, об обязанностях, долге вежливости и денежных долгах, о необходимостях совершать различные акты и шаги и, тем более, связывать их правильно между собой; я позабыл о погоде, которая, как обычно, нуждалась в детальном обсуждении, о трудностях, волшебном образом портящих нашу жизнь, о непрерывных нуждах, угрожающих моей свободе, я позабыл о совершении правильных поступков, а также об избегании плохих – я стал счастливым человеком.
В один из вечеров Лена рано пришла домой. Вид у нее был убитый. Она металась по дому, звонила из коридора, что-то долго в отчаянии шептала в трубку своей подруге. Я не приставал. Меня до своих секретов она не допустила.
Назавтра она опять пришла рано. Весь вечер пролежала пластом, разглядывая потолок и срываясь ко всякому телефону. Мне стало нехорошо. На следующий день все повторилось сначала. Лена лежала разбитая, не в силах скрыть свои несчастные глаза, читать и даже разговаривать с Динкой. Стало очевидно, что я бессилен что-либо изменить. Прошла неделя, началась другая. Дома стало нечем дышать.
Однажды, когда я обдумывал собрать чемодан и с Динкой перебраться на время к маме, Лена как будто почувствовала мое настроение. Она попросила меня сесть рядом и принялась убеждать, что всему виной ее старая болезнь, которая-таки сведет ее в могилу. Она была грустна, подавлена и беспомощна. Говорила, что очень одинока. Она просила прощения. Плакала, плакала бесконечно, пряча глаза и крепко прижимая меня к себе. Хрупкая ниточка легко засветилась, протянулась между нами, и мы, поразмыслив, взяли ее каждый в свою руку. Лена осталась. Я остался. Все осталось. Утром мы отправились по врачам.
Прошло время, наша жизнь наладилась, но кое-как. Мы жили скорее как соседи или собратья по палате. Лена чувствовала себя все хуже и хуже и не уставала повторять, что она больной человек, а я не понимаю состояние, в которое сам ее вогнал, не жалею, не сочувствую ей. Я совсем сбился с ног, стараясь угодить. Большая часть домашних дел перешла ко мне, но они не очень тяготили меня, лишь бы от этого был прок. На беду, несмотря на то, что Лена проводила все свободное время на диване перед телевизором, лишь изредка шаркая на кухню за чайником, состояние ее совсем не улучшалось, а, напротив, симптомы укоренялись, появляясь всегда внезапно.