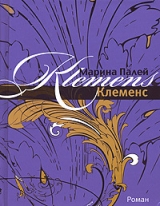
Текст книги "Клеменс"
Автор книги: Марина Палей
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ВЫБОРГ
На мой день рождения мы с Клеменсом ездили в Выборг. Денек выдался запредельно морозный, сизый, красный. Клеменс напялил на себя красноармейскую шапку-ушанку со звездою во лбу, от чего стал выглядеть фрицем в квадрате. «Фаш-ш-шист под Сталинградом», – не замедлила прошипеть моя наблюдательная мамаша. В это время Клеменс яростно обматывал свою кадыкастую шею двухметровым шарфом с
Кузнечного рынка – акустические помехи позволили ему это уточнение не расслышать…
Я надрался уже в вагоне. У меня с собой была такая плоская охотничья фляга, очень удобная, с коньяком, про который я Клеменсу сказал, что это крепкий чай, но тот, несмотря на сосульки в носу (мохнатые сталактиты-сталагмиты ингерманландской зимы), учуял все правильно.
"Вы понимаете, что вы делаете?" – с брезгливой отстраненностью спросил он. (Это был единственный случай, когда я точно могу утверждать, что он назвал меня на "вы": фразу он произнес по-русски.) "А то ж!" – лихо рявкнул я, чтоб не взвыть от этого удара в пах. Вначале я прихлебывал прямо из фляги – мне было ясно, что Клеменс даже не пригубит: видимо, я нарушил какие-то значимые – не исключено, экзистенциальные – границы его поведенческих правил. А мне было плевать. Поэтому я минут через десять бросил это уютное посасывание – а всякий раз – это ж надо так изгаляться – очень точно, несмотря на бешеный галоп вагона, наполнял два двухдюймовых стаканчика, один из которых я протягивал ему, с хлебосольством этакого захмелевшего старосветского помещика-зубра произнося: "Мммммм??.", а затем, когда, он, втянутый в чужую игру, стаканчик свой отвергал, я мгновенно ухлопывал оба. В прозрачных емкостях, как я и срежиссировал, да еще перелитая через обмусоленное мной горлышко фляги, эта жизнеутверждающая жидкость была для него особенно зримой, а потому делалась гораздо мерзее, чем если бы я переливал ее из горлышка фляги непосредственно в собственное жерло.
Меня разбирал смех от того, что у него нет сил отвернуться к окну, что он вынужден, каждому стакашке словно поклон отвешивая, говорить:
"Nein, danke!.."^13 Вагон был пустой и притом словно дочиста металлический, даже деревянные, обшитые рейкой скамейки ощущались железными – казалось, дотронься до любой языком – оторвешь с корнем.
Все дребезжало, гремело, лязгало – нас швыряло, как двух цыплят, забытых в рефрижераторе, как два тощих полена в пьяном, открытом всем стихиям кузове "полуторки". На какой-то станции в вагон ввалилось несколько косоруких, комодообразных бабищ, на следующей – подвалило еще; первая группа теток, видимо, для согрева стала немедленно собачиться со второй, вторая группа откликнулась с активной женской задушевностью; логики в их сваре, как в подавляющем большинстве русских стихийных споров, не было никакой; социальное общение вышеупомянутых групп началось в этом полупустом вагоне с пароля: "Понаставили тут мешков, и так-то людям не пройти!!", проскальзывали формулировки отвлекающего маневра, вроде "Ну, не знаю…" (в смысле: и знать не хочу), а также закодированные сообщения, вроде "Напустили тут черножопых!.." и "Это вы, вы, женщина, их напустили!". Тевтонская натура Клеменса, не улавливая ни агентурного, ни тем паче трансцендентального смысла этих шифровок, зримо содрогалась от отвращения (что было видно по крупным, лошажьим волнам дрожи, идущим поверх мелкой, ответной на колотун ряби); его тевтонская, склонная к розенкрейцерству натура мгновенно уловила неколебимую основу этих фолькс-ораторий: полнокровное, просветленное, правдолюбивое человеконенавистничество. И, возможно, он понял, что нажираюсь я не только с мороза, и не только от того, что он, Клеменс, в конце концов уедет, и не только от того, что мне сегодня стукнуло тридцать девять (лицемерная, иезуитская цифра! еще не круглая, не разящая наповал – нет, словно еще обратимая,
"щадящая", гуманненькая, как цена 999,99 на "вполне доступном" товаре), – я надеюсь, он понял, что нажираюсь я главным образом от того, что, когда он уедет, я останусь, как прежде, один на один с этой зверообразной массой, с ее нескончаемым троглодитским, будь он проклят, зингшпилем и ни количество, ни качество замков на входной двери не защитят меня от ее гноища и зловония – всепроникающих, неспешно разлагающих мой мозг.
Однако после определенных биохимических реакций, устроенных не без вмешательства, хвала им, алкалоидных соединений, мир повернулся ко мне перспективной, вполне даже благодушной стороной. (Думаю, именно этой стороной он и поворачивался к замерзавшему в глухой степи ямщику…)
В моем случае эйфория была подкреплена закордонным, правильней сказать, инобытийным видом Выборга. Впрочем, при таком количестве выжранной жидкости, располагающей к немедленному жуирству, закордонным, а тем паче инобытийным показался бы даже какой-нибудь
Сясьстрой. Мне немедленно захотелось в Выборге и остаться.
Разумеется, навсегда. Поэтому я сел в снег, привалясь к какой-то стене, кажется крепостной, и громко затянул песню. Клеменс взял меня за шкирку, энергично встряхнул и обстоятельно объяснил, что мы приехали на экскурсию.
…Помню, мы вошли внутрь какой-то башни, и нам было велено лезть наверх. Это была очень крутая (деревянная? каменная?) лестница, абсолютно безлюдная, спиралевидная, словно мы ползли по увеличенной до размеров вернисажной инсталляции модели ДНК. Главное, что эта ДНК была бесконечной. В начале этого дерзкого путешествия к Господу Богу я еще думал, что эта ДНК, возможно, принадлежит динозавру, бронтозавру, ихтиозавру. Потом, когда у нас обоих уже заныли ноги и несколько раз я чуть было не загремел вниз (долгонько же мне было б лететь), я подумал, что мы, как мухи, попали на поверхность растянутой вертикально ленты Мёбиуса, так что нам всяко хана. И тут, когда я позорно промычал: слушай, давай сядем, мы вышли на открытую площадку.
За время карабканья по лестнице Иакова нас так припекло, что мы жадно подставили лица ледяному ветру. Он казался плотным, как холодец. Его можно было резать на ломти и есть. Несколько раз я чуть было не сиганул вниз, но Клеменс успевал поймать меня за шкирятник.
Обозревая мир сверху, я, напрягая всю волю, тараща слезящиеся на ветру глаза, старался сфотографировать навсегда фантастическую картину этого прокрытого снегами пространства (нестрашного, где так легко, уютно, сладостно умереть, став на миг черной, а потом навсегда белой точкой, – раствориться с любовью в этой белизне, слиться, стать белизной, то есть ничем, затеряться, исчезнуть в нигде, никогда) и уже тогда знал, что это тщетно – не сфотографирую, не запомню… Но зачем тогда и показывали? Дразнить-то зачем?
Некоторые люди в моменты особой сосредоточенности способны видеть движение минутной стрелки. Да не на вокзальных часах, где она, вдруг вздрогнув, резко перескакивает к следующему делению (как заматерелый двоечник, что путем шпаргалок и блата вдруг, к удивлению непосвященных, перескакивает в следующий класс). Нет, я имею в виду одомашненные приборы: наручные часы, или будильник, или настенные, от всяких там дедушек-бабушек, – массивные, с прокашливанием и боем.
Так вот, я часто умею замечать, как движется минутная стрелка.
А здесь, с высоты этой выборгской башни, каменной, серой, посреди безбрежья чухонских снегов казавшейся даже черной, мне показали нечто такое, что я уже никогда не смогу позабыть, даже если б захотел.
Это было вращение Земли.
Показанное через уход Солнца.
Сначала Солнце, огромный багровый монгольфьер, медленно оседало на дно океана воздушного и вот, резко перечеркнутое длинным сизым облаком, перейдя некую границу, стало идти словно ко дну океана водного, как затерянный батискаф, – да, ко дну океана водного, погружаясь все глубже в его планетарную горечь и соль.
Но вот позади осталась и океанская бездна.
Теперь багровый шар Солнца, просто бездомный шар, всей тяжестью неземной своей массы, всем грузом обреченной звезды, с невероятной скоростью валился за горизонт.
В ненасытимую прорву Земли.
А потом?
Суп с котом.
Мне не забыть этой ужасающей скорости.
Не смогу уже не помнить, как стремительно, неминуче, но все полыхая нелепым донжуанским жаром, да еще словно посылая невесть кому бессильные свои проклятия, этот умирающий, уже отдельный от всего сущего шар проваливался в преисподнюю.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ИЗВЕСТИЕ
Мне снилось (говоря «снилось», мы ломаем линейность времени – ведь осознание того, чем именно это было – сном во сне или «явью», то есть сном наяву, – приходит уже потом, после сна – любого; слом прямой линии хорош потому, что он точней отражает жизнь чувств, которая не подчиняется линейному ходу, но этот слом вместе с тем равен катастрофе, потому что, произнеся пассивное «мне снилось», мы расписываемся в унизительном, в тотальном бессилии – куда как больше достоинства во фразе: «я видел») – итак, мне снилось, что я стою в
Доме моего детства – в комнате, где умерла моя бабушка. Это я просто обозначаю саму комнату, потому что в том сне моя бабушка, возможно, и не умерла (еще не умерла, никогда не умирала, не умрет), но комната – комната сама по себе, в соответствии с реестром и рангами комнат Дома, закрепленными в глубинах моего "я", была именно та, где умерла моя бабушка. Комната эта – во снах сна, равно как и во снах яви – располагала под своим окном большим кустом жасмина: ранним летом он красовался в снегу цветов, зиму напролет – в цветении снегов; в мае выставлялась вторая (внутренняя) рама, окно распахивалось, и жасмину позволялось заглядывать, а потом и благоухать в комнату…И вот я стою сначала в каком-то другом месте
Дома, но слышу откуда-то голос бабушки: иди туда… Голос не говорит, в какую именно комнату идти, но я понимаю…И вот я стою именно в той комнате. Прямо под окном, где снаружи цветет жасмин (кажется, сейчас стоит наше северное лето, в самом его головокружительном начале – упоительная, долгожданная смена тяжелых ботинок на дырчатые сандалеты с тонкой, как собственная кожа, подошвой), – прямо под окном, в комнате, на щелястой кухонной табуретке, стоит факс. И голос бабушки откуда-то говорит: тебе сейчас придет факс. При этом она называет меня так, как только она называла… Глядя на факс, я занят перечисленными дальше мыслями – причем всеми вместе,
одновременно : а разве она не умерла? она не умирала, это мне приснилось; никаких мыслей о смерти, обычный день; откуда она знает про факс? разве в ее время уже был факс? а какое именно время – ее? и какое – сейчас? я сейчас в моем детстве – или она в моей взрослости, сейчас? И тут факс, энергично застрекотав, включается на получение. И…
Из прорези, откуда, потрескивая, обычно выползают сообщения, начинают сыпаться игрушки…
Это Клеменс посылает мне игрушки по факсу. Они выскакивают одна за другой – маленькие плюшевые медвежата, заводные обезьянки, розово-голые, подпрыгивающие на полу, как ядра орешков, пластмассовые пупсики с растопыренными пальчиками и навек удивленными круглыми ртами, автомобильчики, грузовички, трамвайчики, танки, маленькие деревянные буратины, опять голые куколки, лодочки, разноцветные домики, глиняные петрушки с вкусно пахнущими лакированными личиками и паклевыми волосами под шелковыми колпачками… И я ничему не удивляюсь – разве что щедрости
Клеменса – и еще тому, почему я сам не додумался послать ему по факсу какой-нибудь подарок?
Вдруг сквозь факс начинает грубо проступать орнамент обоев… питерских, обрыдлых… Как сквозь макияж – полуразложившееся лицо кое-как загримированного трупа… Обои? Я приподымаю тяжкие веки: в дюйме от моего носа… то есть прямо перед носом…
Стена.
Я на диване. Комната. "Моя" комната из "моей" жизни. Раньше здесь, во времена коммунальной квартиры, жил сосед-алкоголик, пока черти не уволокли его в более подходящее, хотя и более населенное место.
Итак, подведем итоги "яви": алкоголика уже нет в живых, но нет и моей бабушки – и нет как нет Дома моего детства. А есть в наличии: я сам, мой сын, враждебная, чужая моя жена (с ней вчера снова был скандал – отсюда гауптвахта: штрафной диванчик) – и есть Клеменс. Он здесь, в двух метрах мысленно.
Где?
Там.
Чтобы стать к нему ближе, поворачиваюсь на другой бок.
На полу, между дверью и диваном, на расстоянии вытянутой руки, белеет листок бумаги. Он выглядит пустым.
Подношу его к глазам: чистый.
На всякий случай – скорей, машинально – нашариваю очки.
Надеваю…
Зевок застревает в глотке.
Колом.
Поперек.
Тело каменеет.
"Mike, in one week I'm leaving to Berlin"^14.
Строка по глазам – плетью.
Еще раз. Еще.
Затем – по мозгам.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. НОВЫЕ ПОПЫТКИ
Итак, он уезжал в субботу.
За неделю до того я получил от него записку. И весь тот день кропал свое дурацкое, свое бессильное письмо. В воскресенье я понял, что у меня есть еще шесть полноценных дней и я должен кровь из носу
Клеменса задержать. Хотя бы на фотографии. Я должен!..
Ведь я больше не увижу его. Никогда. Я в жизни не бывал за границей.
До седых волос "не пущали", держали на ржавой песьей цепи чьих-то параноидальных идей и вполне троглодитской практики, потом отпустили разом на все четыре – но при этом "идеи" мгновенно сменились грязной веревкой нищеты (нищеты безо всяких кавычек), не менее, кстати сказать, прочной.
В воскресенье магазины были закрыты. Я еле пережил ночь на понедельник и рано утром, когда чреватая переломами наледь еще не раскисла в грязную позднефевральскую кашу, ринулся к открытию магазина фототоваров. Меняя окраску кожных покровов с розовой на красную, а с красной кое-где на белую, яростно растирая грозящий отморожением нос концом шарфа, подскакивая, как мое собственное бестолковое сердце, куря, посылая безадресные, зато крепкие проклятия – и чуть не разбив в ярости витрину, я наконец дождался открытия.
Что может быть кайфовей запаха в магазине фототоваров? Разве запах дорогих канцелярских отделов – таких, что торгуют роскошными карандашами, с впечатанными на гранях золотыми названиями, пеналами из нежных, смугло-розовых сортов древесины, а также крепкими кожаными обложками, больше подходящих для деталей рыцарского одеяния, хрустящими пупырчатыми портфелями с замочками, что так вкусно цокают-чмокают, и такими же ранцами, которые поскрипывают за спиной, как пальмы на морском ветру, как вольные корабельные мачты…
Но если уж начистоту, великолепие всех этих ароматов затмевает один – простой сильный запах в керосиновой лавке моего детства.
Сеанс в понедельник был очень плодотворный. Сизая дымка вокруг
Клеменса походила на прозрачный скафандр астронавта, вернувшегося из смещенного времени семимерных галактик. То, что мне и надо было. Как эта дымка получится на черно-белой фотографии? Отщелкав три пленки, я стремглав кинулся в одночасовую проявку и, пока по каплям – китайская пытка – истекал этот бесконечный час, я заставил себя заглянуть в аптеку (зеленые грелки, розовые спринцовки, "Как избежать проблем со здоровьем? – Гербалайф!"), в "Галантерею"
(мерзкие синтетические кружева – бунинские гимназистки не такие небось пришивали к воротничкам форменных своих платьиц, даже мои одноклассницы, говорившие "дедушка Ленин", не такие, а настоящие кружева к шоколадным своим платьицам пришивали), в кино (афиша внутри отличалась от таковой снаружи тем, что к устам американской героини чья-то сострадательная длань, по-своему усовершенствовав нарисованный револьвер, приставила устрашающих габаритов пенис), – затем я прошел вдоль блеющих блатными песнопениями киосков наверху "Техноложки" ("Как сохранить душу в чистоте", "Если у вас сильно потеют ноги", "Спаситель из Вифлеема", "Чем предохранялась
Клеопатра") – и, когда большой стрелке осталось два деления до цифры
"12", кинулся в фотоателье. Конечно, весь этот час я только и трясся от страха, что они пленки могут потерять. Абсурдный страх, если учесть, что проявляли они сами, никуда не посылая.
Пленки были уже готовы. («Мужчина, вы могли их через пятнадцать минут уже получить – вы у нас сегодня единственный клиент! Дорогие удовольствия!») Я бережно раскатал пленку по стеклу с яркой нижней подсветкой. Надел очки.
…Через миг увидел свое лицо в зеркале. Глаза у меня были вылезшие из орбит, совершенно белые, как у жареной рыбы. "Это не моя пленка!! – заорал я. – Вы перепутали!.." – "Гражданин, вам же было сказано: вы у нас сегодня один. (Ненавидящий взор.) Населению одночасовая услуга, знаете, не по карману!" – "Но вы могли перепутать с теми, кто сдает на несколько дней!" – "Гражданин, читайте глазами: у нас только одночасовой сервис!" – "Ну так со вчерашними перепутали! Не все же, наверное, забирают в срок!" – "И вчера (мстительно) у нас тоже никого не было! У нас уже неделю никого нет!.." – "Даже в роддоме детей перепутывают, – уже обреченно, скорей, от больного самолюбия вякнул я, – а не то что!.." – "Гражданин, я вам, кажется, русским языком…" и т. п.
…На всех трех пленках было приблизительно одно и то же. Дома я рассмотрел их тщательно, уже без отчаяния – наоборот, с каким-то непонятным мне самому (мазохистским?) удовольствием. Итак, там были ветви каких-то деревьев, в переплетении своем дающие сладостно-сумеречное царство – это был первозданный древесный рай, девственный, еще не ведающий ни птиц, ни животных. В каждом кадре было переплетение древесных веток, в каждом кадре – других. Несмотря на то, что фотографии были черно-белые, а может, как раз поэтому мне удалось разглядеть изумрудные ели Шварцвальда, и одетые голубыми снегами ели Богемского леса, и яркие, как малахит, лиственные рощи
Буковины, и вальсирующие вереницы светлых словенских грабов, и прозрачные, как волна на излете, сосны морских заливов Финляндии, и темные ельники, да хвойные перелески, да сумрачные еловые чащи по берегам лапландских озер. Клеменса не было нигде.
" Ты просто фокус навел на другое", – прокомментировал мой приятель.
"Пленка была поцарапанной", – пояснил другой.
Во вторник, чтобы исключить любые артефакты, я решил произвести съемку в абсолютно пустой комнате. А именно – в комнате Клеменса. Мы вынесли из нее кровать, стол, стул. Мы даже вынесли в коридор гору пластинок – и сам патефон с надписью "HIS MASTER'S VOICE"…
Теперь, когда Клеменс стоял в этом пустом, бесприютном тригонометрическом пространстве, уже утратившем связь с человечьим жилищем, с человеком вообще, обнажившем истинную свою природу страшной, ничем не поправимой пустоты, дымка казалась еще синее и ярче. "Может, именно она-то и засвечивает пленку?!" – наконец дошло до меня. Дела… Значит, техникой ее не убрать. А чем?.. Надо сделать что-то такое… "Ты можешь сказать шайсе ?" – попросил я. "Зачем вам?" – "Мне нужно определенное положение твоих губ, – бодро сказал я, – понимаешь?" – "Шайсе!.." – с вежливым безразличием пробасил
Клеменс. (Я, признаться, еле сдержался, чтоб не захохотать.) А он, вопросительно взглянув на меня, с честным старанием повторил:
"Шайсе". Дымка не уменьшалась…
В среду, с утра пораньше, понес эту пленку уже, разумеется, не в одночасовой сервис, а к тому самому приятелю, который говорил, будто я фокус навел на другое. А что делать? У себя в коммуналке он, находчиво обустроив крошечный, идущий к заколоченному черному ходу коридорчик, сам занимался проявкой и печатанием.
… Ветви деревьев на той пленке были пореже, каждая веточка казалась прочерчена словно китайской тушью, при это сама мягкость теней наводила на мысль об очень ранней весне…
"А ты щелкни его поляроидом, – подсказал вечером мой сострадательный сын. – Тогда сразу и увидишь, в чем дело".
И я щелкнул Клеменса поляроидом.
Перед этим я попросил его переодеться в свои галифе цвета хаки (он в основном ходил в черных джинсах) – и даже, несмотря на яростное паровое отопление, потерпеть мой сеанс, надев также куртку и свои противотанковые ботинки. Я хотел, чтоб он выглядел, как в первый раз.
…Пока из прорези поляроида – с легким жужжанием – вылезала фотопластинка, я много о чем успел подумать. Я лихорадочно пытался решить, что если сейчас опять появятся ветки, то… Что – "то"?!
Что – "то"?! А если вообще какая-нибудь галиматья, то… скорее всего…
Что, черт возьми, что?!
Я положил пластинку под сильную настольную лампу. Она проявлялась долго, несколько ледниковых эпох. Но уже в конце второй, что ли, ледниковой эпохи я, изо всех сил напрягая глаза, разглядел проступающие все резче и резче очертания человека.
Да, на моем стуле сидел человек.
Он состоял из рук, ног, туловища, шеи и головы.
Он был одет в милитаристские брючата цвета хаки с пуговицами по бокам, в куртку, перешитую из солдатской (советской) шинели; обут он был в устрашающие ботинки с гусеничными подошвами…
"Ур-р-а-а-а!! Получилось!!" – возликовал за меня сын.
За окном безучастно падал снег. Если смотреть вверх – видно было, что он парит, независимый от притяжения Земли, могильной гравитации, школьных уроков физики с их ненужными опытами, страхами, двойками…
" Это не он!.. – тихо простонал я. – Разве не видишь?!"








