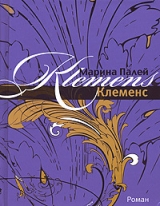
Текст книги "Клеменс"
Автор книги: Марина Палей
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Упса-Варсонофия. Нашел и, что называется, "takes care"^30 о нем. Но почему ты думаешь, Клеменс, что люди нуждаются только в таком виде помощи? И, главное, только такого вида люди? Почему все вокруг, даже ты, Клеменс, натренированы в основном на таком виде поддержки?
Почему вовлечены именно в такой вид помощи? Почему понимают только такую кодировку беды?"
"Пойдем ко мне, Майк, – сказал, появившись в проеме дверей,
Клеменс. – Я еще, наверное, час могу быть свободен".
…И вот он идет к комнате Клеменса.
Для этого надо снова пройти весь коридор… Первая комната от входа.
Если бы он раньше заметил, догадался бы сразу: на ее двери – большой карандашный рисунок – портрет Пауля Целана. Тот новогодний подарок
Клеменсу от него…
Сначала в комнату, виляя хвостом, входит Йош. Затем Клеменс впускает
Майка.
И входит сам.
Напротив двери – окно. Оно распахнуто в тот же двор, что и окно кухни, только немного левее; прямо в крону прекрасного дерева, название которого неизвестно. Так, говорит себе Майк, быстро!
Фотографируй глазами да не упусти ни одной детали, времени нет!
Помнишь, как – только глазами! – фотографировал секретные документы один советский разведчик из фильма семидесятых? Каким королевским, совсем несоветским жестом он давал знак, чтоб перелистывали страницу? Тратя на каждую не более трех секунд? Начал, Майк!
Итак, по часовой стрелке: слева от двери – стоит старомодная швейная машинка "ZINGER" (o-o-o!); за ней, ближе к окну, – старинная печь в кофейно-шоколадных изразцах; напротив самой печи – деревянное кресло, а напротив кресла – и, выходит, под самым окном – старинный сундук, на котором также можно сидеть, а можно, конечно, что-нибудь в него и на него класть, что внутри него – неизвестно, а на поверхности лежит русскоязычная книжка Хармса "Записки из шкафа"; в простенке между этим окном и другим, что правее, – как раз и стоит невысокий шкаф в стиле тридцатых, на нем красуется плетеная корзина, словно плавсредство для младенца Моисея; другое окно, что правее первого, плотно закрыто кофейным занавесом в длинных золотистых листьях; возле него стоит, прислонившись к проступающему сквозь материал подоконнику, велосипед, а на полу – те самые душераздирающие ботинки (привет вам!!), с которых и началось знакомство с их владельцем. У стены, противоположной печной, стоит маленький прикроватный столик, деревянный, – он ежели и не старинный, то очень старый, бывалый, хранящий человеческое тепло; на нем стоит советский будильник "РАКЕТА" и показывает шесть часов двадцать четыре минуты реального времени; справа от столика – и гораздо выше – парит Боттичеллиева Афродита; она, собственно говоря, парит в изголовье кровати, очень чисто застеленной пледом цвета свежих сливок, кровати деревянной, массивной, шоколадной, старинной, которая стоит справа от двери. Круг завершился.
Они сели: Йош – возле ботинок Клеменса, сам Клеменс, сняв книжку
Хармса и переложив ее на прикроватный столик, – на сундук, уступая гостю место в единственном кресле.
То ли оттого, что Клеменс сидел спиной к окну, уже помеченному лучами заката (материалистическое объяснение: специальный эффект освещения), то ли потому, и скорее всего, что Клеменс сидел у себя – в своей обстановке, посреди предметов, многие из которых имели к нему прямое отношение (то есть ему лично принадлежали), – наконец снова стала видна его синяя дымка.
А о чем они говорили? Этого Майк в дальнейшем восстановить не мог.
Словно кто-то аккуратно стер этот фрагмент из его памяти, освобождая место – для чего? Для того, что там, двумя часами позже, будет записано навсегда.
Они шли по направлению к метро: он, Клеменс и Йош. Была половина восьмого, нежно загустевали сумерки; памятник Карлу Марксу выглядел тайным посредником между ним и Клеменсом: общая история! История, которой надлежит стыдиться, но, так как она общая, и это ценно, о ней можно говорить с улыбкой ностальгии и снисходительности.
Они шли к метро: Клеменс и Йош провожали Майка. Получасом раньше, разбуженный, насильно поставленный на ноги и умытый холодной водой, почти трезвый и очень злой, Виллем клятвенно обещал Клеменсу, что покормит ужином своего сына, что не уронит его, что не застудит на сквозняке. После этого Клеменс сказал псине: "Ну что, Йош, пойдем провожать Майка?", причем сказал по-английски, чтобы понял Майк, и
Майк понял – и скрыл, как мог, то, что должен был скрыть, – но зато эту фразу не понял Йош, и потому он не забил хвостом, не залаял, а только продолжал смотреть – преданно и печально, совсем как Майк.
И теперь они шли втроем по направлению к метро, причем двое всякий раз замедляли шаг, когда третий, подъяв заднюю лапу, оставлял собачьи мессиджи своим приятелям и подружкам, и эти двое, которым была подарена человеческая речь, не знали, о чем говорить. Наконец
Клеменс сказал: "А ты завтра во сколько должен читать лекции?" – "У меня завтра лекций нет, – сказал Майк. – Завтра же пятница, я выходной. А в следующий вторник, утром, я улетаю". – "Завтра нет лекций? – отозвался Клеменс – Разве?" – "Ну да. Я же тебе передавал свое расписание через Эберхарда". – "Я что-то не помню. Так чего же мы тогда идем к метро?" – "В смысле?" – "Зачем тогда ты хочешь ехать сейчас в Потсдам?" – "Я не хочу ехать в Потсдам". – "Тогда пойдем назад, если хочешь".
Вот с этого момента время обрело другой ход. Видимо, было восемь часов вечера. Но это были другие часы совершенно другого вечера.
Может быть, то был даже не вечер, потому что планета, на которой вдруг очутился Майк, имела другие размеры, другую орбиту, другой период вращения – и в целом она обладала красотой с такими безоговорочными правами, что, собственно, кроме этой красоты, уже ничто не имело значения.
Кажется, Клеменс сказал, что он завтра тоже выходной, потому что завтра выходной Виллем – и Виллем будет заботиться о ребенке.
Кажется, они покупали чешское пиво в бутылках, и, хотя оно было в бутылках, Йош, имея также и зрительный рефлекс на ненавистный ему предмет, оглушительно лаял. Да, они точно покупали пиво, но названия уже не вспомнить. Да и кто смотрел на название? Возможно, Клеменс смотрел, Майк – нет.
Снова комната. Теперь они в ней одни. Теперь Майк садится на сундук,
Клеменс – в кресло. Все равно сияние только сильнее. Сумерки.
Гуманность дионисийского ритуала: можно чем-то занять руки, ноги, глаза, орган речи: давай я открою, нет, ничего, я сам, я сейчас принесу бокалы.
Глоток пива и жизни. Жизнь только начинается! Ух, сколь бессчетны дары в Твоих дланях, Господи! Они сходят с горних вершин, как драгоценные оползни, – это много, Господи, они заваливают меня, я раздавлен, я… Я как-то переводил, что понятие яда – относительно.
Все, в конце концов, абсолютно все, может быть ядом – дело лишь в дозе. В быту ядом называют вещества, вызывающие переход в мир иной уже в малых дозах. Но если, скажем, вливать, вливать в человека воду, как в бездонную бочку, – или впихивать, впихивать еду (мало ли какие бывают китайские пытки) – то любое невинное вещество – просто любое – будет ядом. Ты убиваешь меня количеством счастья, Господи!
Остановись, остановись, остановись!
Не останавливайся.
Майк вдруг почувствовал, сколь красивы его густые каштановые волосы – гладкая, гордая, такая породистая грива, аж до самых плеч – густая и нежная грива, под стать синим глазам – ну-ка, у многих ли, черт побери, такой экстерьер – у многих ли, Клеменс?!
Он быстро берет обе ладони Клеменса – о, левая, беспалая! – и прячет в них свое лицо.
Грива рассыпается, скрывая главный объект мизансцены.
…Если бы Майк был начинающим художником – не просто художником-любителем, кем он и являлся, а именно начинающим, да притом не шибко одаренным, – он бы расчертил ту свою фотографию-память на сотни тысяч квадратиков. Так, расчертив фотографию-память на сотни тысяч квадратиков, он, во-первых, смог бы уловить мельчайшие детали-секунды того вечера и той ночи, то есть если бы он заключил (запер) каждую секунду (деталь) в специально отведенную ей клеточку, а главное – он совершенно точно перекопировал бы тогда каждую секунду (деталь), вот в чем дело.
Значит, на тот вечер и на ту ночь – и на последующее затем утро – надо было набросить мельчайшую и хищную сеть вуайериста. А он это не сделал. Потому что он растворился. Он сам стал частью ночного воздуха. Он стал ночным духом. Ночью как таковой. Он исчез.
…Странным было лицо Клеменса без очков. Оно напоминало лицо бабочки и не было красивым, но не было и уродливым, а было только совсем незнакомым, хотя и не чужим. Да, незнакомым и тайным, но все равно родным – бывает ли так? Именно так и бывает.
Они сидели на подоконнике. Можно было сделать неосторожное движение – и выпасть туда – куда? – ну, в общем, наружу. А можно было сделать и сознательное движение – с тем же, видимо, результатом. Четвертый этаж, заасфальтированный квадратик двора – этого бы хватило, чтобы уйти счастливым – и счастливым остаться.
Странно: ты осторожно целуешь лицо человека, и человек осторожно целует твое лицо. И ни яростная боль, которую телу приходилось впускать в себя на протяжении жизни, ни яростное наслаждение – удовлетворением голода, похоти, жажды – не оставили в памяти такой странной, такой рваной раны – соответственно, с незаживающими краями, – не оставили такой развороченной взрывом воронки, как эти осторожные, нежные, точечные поцелуи.
Что же они делали, сидя на подоконнике? Хочется сказать грубо и прямо: что вы делали на подоконнике с девяти вечера четверга первого июля до пяти утра последующего дня, второго июля, когда начало всходить солнце, и стали просыпаться птицы, и не обошлось, разумеется, без этой шекспировской кутерьмы вокруг жаворонка и соловья, что вы делали на подоконнике на протяжении без малого восьми часов?
Мы просто сидели, помечая тело друг друга этими острыми, сухими, точечными поцелуями, очень осторожными и очень точными, словно наносимая на кожу памяти – видная только нам – татуировка любви.
Вы хотите сказать, что восемь часов напролет вы сидели на подоконнике – и целовались? Скажем так: только целовались? Или иначе: так восемь часов и процеловались без устали?
Да, именно это мы и хотим сказать. Точнее, мы ничего не хотим сказать. Это не наши слова, это не наш язык. Но вы продолжаете спрашивать. Не надо больше об этом, ладно?
Но в это невозможно поверить!
А я и сам не верю.
Я только помню, что, пока еще был четверг, Клеменс, сидя на подоконнике, говорил: завтра мы сделаем копию с этой книжки
Хармса – тебе же нравится эта книжка? – но она не моя, а то бы я тебе ее подарил, так что завтра мы сделаем для тебя копию… И как он меня сразил этим мы ("Новизной, странной для слуха,
Вместо – я тронное – мы…"). В жизни своей не помню большего наслаждения словом – нет, большего наслаждения чем угодно – большего, чем этим мы. Наверное, еще и потому это наслаждение было таким сильным, таким непереносимым, что мы было отнесено на завтра, словно у него, у этого мы, будет завтра, а там и послезавтра, и вообще своя собственная жизнь – очень длинная или бесконечная, что почти одно и то же…
А больше мы ни о чем не говорили.
Трудно поверить?
Я и сам не верю.
И нет у меня в арсенале этой хищной сеточки с квадратиками, которая могла бы это положение опровергнуть – или подтвердить.
Итак, я не верю, но помню.
Мне этого достаточно.
Часы "РАКЕТА" показывали пять утра. Мы, полураздетые, легли в постель – и уснули.
Почти сразу.
В это "почти" уместилось вот что.
Я уснул на его плече – и спал, как мне казалось, секунду. Через секунду я проснулся от того – как мне показалось, – что он прошептал по-немецки (но, скорее всего, он все же сказал это через секунду
после того , как я проснулся): "Ты сейчас спал!.." Я понял то, что он сказал, и задохнулся этим "ты" – и, главное, – главное! – тем неожиданным, ни разу не слышанным мною восторгом, который был в его голосе. Будто я сделал что-то волшебное и прекрасное!
И я сказал по-английски, имея в виду то, что мы лежали сейчас вместе, обнявшись, и то, что мы делали на подоконнике, да и вообще, имея в виду все то, что произошло между нами за эти земные часы: "А я думал, ты не позволишь мне…", и он, конечно же, понял, ответил мне по-немецки: "А я думал, что ты не позволишь – мне…", и я, как ни странно, понял.
И мы оба уснули.
И оба проснулись.
Часы "РАКЕТА" показывали семь утра. Птицы общались оглушительно.
Свет был ослепителен. Лаяла собака. Плакал ребенок. Гремел чайник.
Ругались соседи.
Клеменс выскочил к Дитеру, словно забыв, что сегодня на вахте, по договоренности, отец ребенка. Потом заглянул в свою комнату и спросил того, кто в ней был, по-немецки: "Вам – кофе или чай?" Тот, кто в ней был, вдруг, тоже по-немецки, ответил: "Скажи тебе,
Клеменс", – и заглядывающий в комнату, уже под некоторым принуждением, произнес: " Тебе – чай или кофе?" И другой сказал:
"Спасибо. Мне кофе".
Было уже сегодня, а не вчера. Тот, другой, лежа в постели, не думал ни о каких перспективах. Настоящее с каждой секундой становилось прошлым, а он лежал и был счастлив. Ему было безразлично это перетекание, убывание, исчезновение, он все равно был счастлив, он был оглушен и задавлен количеством счастья, он был отравлен счастьем. Он был всесилен и вечен.
Натянул джинсы и пошел по длинному коридору в кухню.
Клеменс был там. А Виллема с Дитером не было. И эта комбинация ему невероятно понравилась – так понравилась, что он даже рассмеялся от счастья. И кофе был отличный. Впрочем, кто его знает – налей ему
Клеменс серной кислоты, ему было бы так же вкусно. Какая разница?
И он взял Клемеса за руку.
И тот руку отдернул.
И он снова взял.
И тот снова отдернул.
И он спросил: "Варум?"
И Клеменс сказал по-английски: "Это не есть для меня комфортно".
И он спросил: "Варум?"
И тот сказал: "Ты что, ничего не понял?"
И он спросил: "Что я должен понимать?"
И Клеменс повторил: "Ты что, ничего не понял?"
И он повторил: "Что я должен понимать?"
И тогда Клеменс сказал странное слово.
Он сказал целую фразу, и там было странное слово. Он сказал так: "Ты что, не понимаешь, что я – артист?"
Так послышалось другому.
И он переспросил: "Артист?"
"Да нет, я отист, отист", – нетерпеливо сказал Клеменс.
И тут… Другой понял, что хотел сказать Клеменс. Он говорил по-английски. Фраза была такая: "Don't you realize that I am an autist?" ("Ты что, не понимаешь, что я – аутист?")
"Ты – аутист?"
"Да. А ты что – не понял?"
Не обижайся, Майк. Ничего страшного. Я сделаю для тебя копию этой книжки Хармса и вышлю по почте. Хочешь еще кофе? Я сегодня свободен не целый день. Ну, еще часа полтора. Я тебя провожу до метро. Потом мне надо будет вернуться. Нет, я точно знаю о своей болезни. Нет, это очень серьезно. Мне странно, что ты не слышал о таких вещах.
Да-да, в России преобладают другие болезни, это правда. И там с такой болезнью, как у меня, просто не выживают. Но тем не менее в
Петербурге я жил, хоть кратко, но именно жил, а здесь, в Берлине, просто существую. Что ты хотел бы на память?
ГЛАВА СЕДЬМАЯ. СНОВА Я
…А с другой стороны, мне иногда кажется, что я грубо нарушаю права человека в зеркале. И, конечно, буду за это наказан. Я вполне беззастенчиво вторгаюсь в область его privacy, причем он-то не вторгается в мою никогда – разве что будоражит. А так… Чтобы он стал обо мне что-нибудь такое кропать – это и вообразить трудно. Ему вполне хватает себя, и как тут не процитировать Рассела Хобана: «Я существую», – заявило зеркало. «Ну а я?» – спросил Кляйнцайт. «А это уже не моя печаль», – заявило зеркало"^31. Так что… Как наставляла училка средней школы: «Ты отвечай за себя лично!» Не Хобан, но тоже убедительно.
Вернувшись в Петербург, я засел в Публичной библиотеке – разобраться, что же такое аутизм. То есть как бы переложить хотя бы часть своей тяжести на ученых мужей, кои познали в этом недуге толк.
Сейчас я пишу о тех изысканиях – точнее, о том кромешно-черном отрезке времени – достаточно ровно, даже хладнокровно, поскольку моей задачей не является показ отчаяния. Я просто пишу о своем честном стремлении хоть что-то понять. Отлично зная, сколь смехотворны эти клоунские попытки. Все равно в финале этого аттракциона тебе на голову будет неизбежно вылито ведро с какой-нибудь серо-буро-малиновой краской, если не сказать хуже (имея в виду содержимое ведра).
Но я, по крайней мере, заслужил, чтобы на моем могильном камешке – коль скоро бездыханная моя оболочка попадет в поле зрения земных социальных служб (в чем я совсем не уверен) – стояла исчерпывающая надпись: ОН СТАРАЛСЯ.
Так что когда я занимался исследованиями аутизма в Публичной библиотеке, с отчаянием у меня было все в порядке. Я не ученый в пенсне, отрешенно созерцающий корчи амебы в лужице слабоконцентрированной кислоты. Я сам себе амеба. Ну, разве что амеба не трусливая, а прущая в кислоту взволнованно и добровольно, безо всякого на то указания со стороны ученых мужей. Амеба, сама же и пытающаяся делать выводы. Короче, отчаяние мое было такого свойства, после которого, строго говоря, уже не живут – по крайней мере, в общепринятом смысле.
Прочел я много, а понял одно: чем темнее представления о предмете, чем они невнятней, тем красноречивей термины и пышней (уже совсем далекие от науки) лирические метафоры.
Но, как ни странно, наименее нелепыми – хотя бы стилистически (то есть более наукообразными, чем все остальное) – являлись именно определения. И это не странно: определение – краеугольный камень медицинской науки о душе человеческой. Дать чеканное определение – это уже процентов восемьдесят успеха. Чьего успеха?
Ну, науки, разумеется. Говоря шире, определение вообще выполняет следующие функции:1. дает иллюзию ясности;2. имитирует научный и деловой подход;3. гипнотизирует зазевавшегося ловкими заклинаниями. Вот одно из них: "Аутизм – снижение способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному развитию; "уход" от действительности с фиксацией на внутреннем мире аффективных комплексов и переживаний". (Самым забавным в этой формулировке мне показался, разумеется, "уход", взятый в кавычки.)
Вот другое: "Аутизм – психическое заболевание, проявляющееся в нарушении контакта с окружающими, эмоциональной холодностью, перверсией интересов, стереотипностью деятельности. ‹…› Аутисты предпочитают неодушевленные предметы одушевленным…" (Здесь мне особенно понравилась "перверсия интересов". Значит, если человек предпочитает жить один, – это перверсия, а, скажем, на чужой жене скакать – это норма. Да, по-моему, и на "своей"-то жене скакать – никакая не норма: ничего себе! сотворять этакое – как ни в чем ни бывало – с совершенно чужим человеком!). Стало быть, нарушение контакта с окружающими… Это все я и сам знаю! Но, ради
Бога, объясните хоть что-нибудь!
Вопрос: "Откуда, черт возьми, берутся аутисты?!" Ответ: "Из тех ворот, откуда весь народ". И дальше всяческие камлания о возможных генных изъянах. И правильно: без генов никуда. Но что толку во всей этой внутренней химии – в том числе молекулярной биохимии – и конкретной химии аминокислот, ежели причина-то все равно не в этом.
Нет, конечно, коли ген кривой попадется, так потом и будешь всю свою жизненку кривыми, неторными путями мыкать: жил на свете человек, кривенькие ножки, и гулял он целый век по кривенькой дорожке. Но ген ли в этом виноват? То, что виноват именно ген, – это утверждение справедливо с той же степенью, как то, что я печатаю этот текст руками. Конечно, руками. Но разве руки есть главные зачинщики текста?! Или другой пример – химия. Вот не зашкаль у моей мамаши в ее фертильном периоде женские половые гормоны, будь они, ну, на пять условных единичек пониже – все, жила бы "для детей, для семьи", в соответствии со всеми мыслимыми и немыслимыми добродетелями, – но нет, концентрация ее гормонов перескочила какую-то красную черту – и тут началась "любовь" – в том смысле, что мамаша плюнула на всех слюной, как плевали до эпохи исторического материализма, и сбежала в тьмутаракань с прохиндеем любовником, который ее вскоре, разумеется, бросил. Сейчас эта концентрация, в силу ее возраста, стремится к нулю – и чем ниже эта концентрация, тем сильнее мамаша "понимает" свои ошибки. То есть обратно пропорциональная корреляция между этими двумя величинами (уровень гормонов, уровень добродетели) совершенно очевидна. И впрысни ей этих гормонов даже сейчас – результат будет абсолютно тот же: она снова энергично, причем с чувством полной непогрешимости, зашагает по трупам. Но разве она, мамаша, сама регулирует ход времени, в силу которого этих самых гормонов сначала с избытком, а потом нету вовсе?
В задачнике дано: я создан быть один, и тот, другой, создан быть один. Требуется доказать… Что доказать? Что при каких-то условиях…
Нет, этого доказать я не смог. Хотя и старался. Цепочки промежуточных решений, промежуточных причин и промежуточных следствий лучше опустить – пустая трата времени. Дано: я один. Дано: он один. Ответ: один плюс один.
Эскулапы от науки, особенно в сфере бестелесного, где бесполезно щупать-стукать, ставить клистиры или оттяпывать неблагополучные куски мяса, мне представляются настоящими маньяками с гиперпродукцией гормона, отвечающего за тщеславие. Каждый из них горит страстью назвать своим дорогим именем и занести в реестр какое бы то ни было проявление души человеческой – по сути, высечь на скрижалях свое имя: это и есть их цель. Ну, например, Иванов наблюдает, как Петров вздыхает, следовательно, на скрижалях науки это явление будет называться так: "вздохи Иванова". Хоть вздыхал-то
Петров! А вовсе не Иванов это делал! Но Иванов наблюдал , а это, видимо, главное. Обратный вариант: Иванов рыдает, а Петров наблюдает – соответственно, это явление в науке будет именоваться – как? – правильно: "рыдания Петрова".
Поэтому, когда в Публичной библиотеке я припал к кладезю наук (о страданиях души человеческой), у меня возникло стойкое ощущение, что я читаю одну и ту же классическую наскальную надпись: "Киса и Ося были здесь". Из этих книжек вытекало, например (читал я не только об аутизме), что, когда я всякий раз выполнял свой постылый супружеский долг, а моя супруга кричала-визжала от переполнявших ее сладострастных чувств, это называлось не просто крики, а "крики
Дунгласа", хотя кричал вовсе не Дунглас, а моя супруга. И если у каждого движения души и тела есть отдельный автор, этот ряд можно продолжить: крики Дунгласа, фрикции Фербенкса, эякуляция
Кулиджа-Янга – с последующим стойким взаимным отвращением Хичкока. В мире все названо, а что толку!
Получается, что книги о страданиях души человеческой я читал исключительно ради слов. Ну, эту особенность фолиантов еще принц тонко датский подметил, но мне-то не легче. Или скажем так: я читал книги о страданиях души человеческой ради самой поэзии. Еще бы!
Аутистов в них сравнивали, например, с "глотком вина, заключенного внутри ледяной глыбы", еще в тех книгах (туманней и закомуристей которых разве что сам Талмуд) аутистов сравнивали с "деревом и стеклом"… В обоих случаях, очевидно, имелись в виду их сверхчувствительность, ранимость, даже хрупкость и – одновременно с этим – тупое, ледяное, непробиваемое бесчувствие. То есть когда еще к тому глотку-то вина сквозь айсберги и торосы пробьешься – ох-ох-ох-ох-ох.
И все равно! Во мне все бунтует!
Конечно, Клеменс – "аутист" (ну и словцо! ну можно подумать!) – и этот набор из шести бессмысленных звуков как бы делает осмысленным суммарное слово. Как бы дает исчерпывающее объяснение всей ситуации.
Дескать, он же аутист, непонятно разве? – ну и не возникай.
А я возникаю! И буду! Я хочу разнести вдребезги эти ярлыки, которыми кто-то – кто? – словно оправдывает личную безответственность каждого. Хотя личной безответственности нет, равно как и личной ответственности, – раз все предрешено. Но, думаю я себе, в том-то и состоит родовое отличие человека (а особенно видовое – разумного), что он, ясно понимая эту предрешенность, спрашивает именно с себя, словно он сам-то Создатель и есть. В этом-то и состоит людская гордость – не гордыня, а именно гордость – видовое отличие прямоходящих.
И мне хочется крикнуть моей любви прямо в лицо: ты аутист? Ясненько.
Тогда, разумеется, говорить не о чем. Да и не с кем. А не был бы аутистом он, так был бы аутистом я, или был бы я каким-нибудь пофигистом – ведь надо же как-то нестыковку-то "объяснить". И я бы сказал тебе: я аутист, Клеменс, отвянь, понял? (Нет, я бы сказал так: отвял, Клеменс, поэл?) И ты ничего бы не понял, но дисциплинированно отвял бы. Или были бы какими-нибудь "-истами" оба.
Ну так что с того? Мы оба и так какие-нибудь "-исты" – обязательно, без этого же не бывает: футболисты, материалисты, идеалисты, атеисты, альтруисты, гедонисты, фаталисты, иллюзионисты, статисты – даже эгоисты! даже эгоцентристы! – ну так что же теперь – не общаться теперь никогда, Клеменс?! А если б мы даже и не были б "-истами", ни один из нас – ни пессимист, ни оптимист, ни гуманист, ни интернационалист, черт побери, – все равно тогда бы обязательно разбомбило поезд – твой или мой – или наш общий состав, и все равно, еще до того, еще до той самой бомбежки, мы бы, конечно, успели расстаться и разойтись по разным вагонам – ведь не в бомбежке же дело. То есть если бы только в бомбежке! Почему так, Клеменс?
…Через неделю после начала этих изысканий общая знакомая, Ирина
Сергеевна, – та, которая когда-то направила его снять у меня комнату, передала мне в случайном разговоре, что Клеменс из Берлина уехал.
Она добавила, что в каком-то городе на севере Германии он нашел себе работу: делать оконные рамы, ну и вставлять в них стекла. Короче, дерево и стекло – все, как авгуры сказали. Но мне было ясно, что расстался я с Клеменмсом не сейчас. И не потому, что он уехал в другой город. И даже не тогда, в Берлине. А когда же? Красиво сказано – "расстался"! А встречался ли я с Клеменсом вообще?
"…Аутизм нельзя называть ни болезнью, ни даже неполноценностью в обычном смысле этих слов. По мнению профессионалов, аутичные люди часто обладают незаурядными талантом и умом. Как сказал один из врачей отчаявшемуся другу: "Вы должны достучаться до его внутреннего мира, поверьте, он стоит того".
А я не смог.
Я не смог до тебя достучаться.








