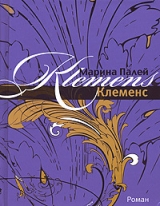
Текст книги "Клеменс"
Автор книги: Марина Палей
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
…Он решил позвонить Эберхарду прямо отсюда, с Alexandrplatz. А что если и Клеменс там будет?! Нет, что-то в небесах просто зашкаливает…
Этого – всего вместе – просто не может быть… По определению быть не может, потому что человеку, в одни руки, не положено выдавать столько счастья. Но… Если Клеменса там не будет, то второй раз
(вечером), когда Клеменс как раз, может, и придет, звонить станет уже неудобно. Именно в дом к Эберхарду звонить неудобно – с его патетически-нравоучительными стишками на автоответчике. То есть позвонить лучше как раз попозднее, вечером, – если Клеменса там и не будет – то, может, он уже заходил – вероятность этого к концу дня увеличивается…
… И он поехал в Потсдам. Замелькали в обратном порядке уже знакомые станции, словно девушки, которых "кажется где-то видел":
"Nikolassee, Wannsee, Griebnitzsee, Babelsberg… А вот и Potsdam Hbf.
Он сел в автобус, решив поработать над лекциями, а потом, часиков после восьми, позвонить в Берлин. Он сошел с автобуса и направился было ко входу в "гастхауз", но оглянувшись, увидел знакомый вяз, телефонную будку под ним – и его благие намерения лопнули в секунду.
Если Клеменс не приходил, думал он на бегу к будке, взглянув при том на часы (было без десяти семь), ну что ж, так мне и надо, позвоню завтра.
"…Клеменс сказал, – радушно перебил его вежливое блеяние
Эберхард, – что рад будет встретиться с вами на следующей неделе, в пятницу, четвертого июня, в три часа дня, возле Бранденбургских ворот".
ГЛАВА ПЯТАЯ. ПРИМЕРЫ ДЛЯ ЛЕКЦИЙ ПО ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПЕРЕВОДА
Отрывок № 1:
На Буковине немецкий солдат, приемный сын дюссельдорфского нотариуса, тайно влюбляется в еврейскую девушку, которая скрывается по фальшивым документам в украинской семье. Через много лет (им обоим уже под семьдесят) этот бывший солдат вермахта обнаруживает ее в Иерусалиме, куда, приняв иудаизм (его подлинная, умершая родами мать – еврейка), он переезжает задолго до этой встречи. Невероятно: оказывается, все эти израильские годы они живут буквально в соседних домах. Несколько дней страшного, нечеловеческого счастья и полного слияния душ. Но семья этой старой женщины забирает ее в Германию: в
Израиле – теракты, арабы, безработица, в Германии – незаплеванные тротуары и стабильное пособие. Но он-то, он, бывший солдатик вермахта, в Германию уже вернуться не может. Он порвал со своим
Фатерляндом. Он – иудей. (Перевод преподавателя.)
ВЫБОРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТУДЕНТОВ
_Вариант A:_ __ Через много лет (им обоим уже под семьдесят) он обнаруживает ее в Иерусалиме, куда приезжает туристом. Он умоляет ее поехать с ним в Германию, но она напрочь отказывается, мотивируя это тем, что не может ступить на землю, где было уничтожено шесть миллионов евреев. Она умоляет его остаться, но он мотивирует это тем, что ему не удалось доказать еврейство своей матери – и его совесть не позволяет ему, чьи руки если и не в крови, то в слезах, жить в Обетованной земле. Кроме того, ему не подходит израильский климат.
_Вариант B:_ __ Через много лет (им обоим уже под семьдесят) они случайно встречаются в Бонне, куда она попадает по специальной немецкой программе для евреев – на ПМЖ, а он – приехал навестить дорогих внуков. Она умоляет его остаться, но он честно ссылается на любящую и любимую жену.
_Вариант C_: Через много лет (им обоим уже под семьдесят) они оба встречаются в Париже, куда попадают туристами. Бурная (Париж!) ночь любви – с отсрочкой в пятьдесят лет, но имеющая место быть. Утром ему становится плохо, ему диагностируют инсульт, семнадцать дней в коме, летальный исход.
_Вариант D:_ __ Через много лет (им обоим уже под семьдесят) они встречаются в Москве, где она, став профессором биохимии, много лет преподает в техническом вузе. Оформляют брак. Решают жить на два дома: в Москве и в Дюссельдорфе. Затянувшийся ремонт в обеих квартирах. Смена автомобилей, зубных протезов, фамилии, гражданства.
Но он не так, как ей бы хотелось, пьет чай. Ну, как бы это сказать: она замечает это еще в Дюссельдорфе, а в Москве становится только хуже. Они едут путешествовать. И вот во время путешествия это становится вообще непереносимо. Развод. На ее похороны через семь лет он даже не приезжает.
_Вариант E:_ __ Через много лет (им обоим уже под семьдесят) они вдруг видят друг друга через дорогу, в обоюдном сне. Они машут друг другу руками, устремляясь навстречу друг другу, – и тут их обоих, насмерть, сбивает машина. Просыпаются с облегчением. (Пометка преподавателя: лучший вариант.)
Отрывок № 2:
В концентрационном лагере Маутхаузен конвоир-австриец (бывший студент Венской консерватории) влюбляется в красавицу чешку еврейского происхождения, чью победительную, таинственную красоту не в силах сокрушить ни голод, ни побои, ни даже дым из безостановочной трубы крематория. Его чувство взаимно. Душераздирающие описания тайных намеков и знаков, леденящего ужаса, непосильного отчаяния, а также бесценных радостей, которые выпадают человеку даже в концлагере (и только в концлагере: например, успешное прохождение
"селекций") – и вот наконец ее фантастический, с дерзкой помощью этого конвоира, побег. В лесу девушку кто-то насилует, в положенный срок у нее рождается дочь. Нелегальным путем женщина перебирается в
Штаты, где со времен Первой мировой войны живут кое-какие ее сородичи. Они помогают ей устроиться, закрепиться, обжиться; годы идут; наконец ей удается найти адрес своего возлюбленного – и вот через двадцать лет после того, как этот австриец помог ей спрятаться в товарном вагоне, под одеждой от трупов, он (известный уже музыкант) пересекает на белоснежном лайнере океан, чтобы (человек предполагает, а Бог располагает) незамедлительно влюбиться в дочь своей возлюбленной, жениться на ней – и роскошно обосноваться с юной женой в двух милях от месторасположения ее безутешной матери.
(Перевод преподавателя.)
ВЫБОРОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ СТУДЕНТОВ
_Вариант А:_ __ Никто девушку не насилует – ни в лесу, ни позже, когда она нелегальным путем перебирается в Штаты, – там со времен
Первой мировой войны живут кое-какие ее сородичи. Они помогают ей устроиться, закрепиться, обжиться; годы идут; наконец ей удается найти адрес своего возлюбленного – и вот через двадцать лет после того, как этот австриец помог ей спрятаться в товарном вагоне, под одеждой от трупов, он (известный уже музыкант) пересекает на белоснежном лайнере океан – вместе со своим сыном от третьего брака,
Паулем; американская возлюбленная шаг за шагом предпочитает отцу сына; однако, храня память прошлого, а также неукоснительно следуя советам семейного психолога, музыкант и прекрасная еврейка вместе преодолевают ее страсть к пасынку ("комплекс Федры"), и все идет хорошо, и они рожают еще одного сына, Энтони, – судя по всему, вундеркинда, – но в это время предыдущий сын музыканта от третьего брака, Пауль, в отместку своей мачехе погрязает в воровстве, распутстве, наркотиках, а затем душит единокровного брата Энтони в колыбели, что приводит к тюрьме его самого – и к разводу его родителей.
_Вариант В:_ __ В лесу девушку никто не насилует, и она, перебравшись в Штаты, остается девственницей – до тех пор, пока вновь не встречает своего австрийского возлюбленного, уже в Новом
Свете: он – безработный, однако по-прежнему красив, молод, влюблен, а она к тому времени (разлука длилась пять лет) умудрилась сколотить некоторое состояние (владеет небольшим очень стильным баром), – и они оформляют свои чувства. Как выясняется, она старше своего возлюбленного на тринадцать лет, но ничто не мешает семейному счастью: они оба отлично смотрятся за стойкой бара: она разливает, он помогает, чем может, – главным образом, пьет. Эта помощь вызывает протесты тещи (она тоже спаслась и тоже перебралась в Штаты), которая говорит, что зять ничего не умеет делать – и даже задницу свою как следует подтереть не может (в прямом смысле), что передалось сыну (у них уже есть сын), но супруги по-прежнему страстно любят друг друга. Австриец пьет, толстеет и на атаки тещи отвечает: зато я молодой, зато я красивый (у него чрезвычайно густые волосы), зато я младше жены моей Сары на тринадцать лет. Собственно, это является рефреном их поединков. Теща обычно говорит: боров ты, задницу свою подтереть не умеешь (в прямом смысле), а что отвечает на это "боров" – см. выше. И вот наступает лето, и они вчетвером едут во Францию, на курорт, и там тещин зять, австриец, бывший студент консерватории, продолжает пить и жиреть – и вызывать бурную реакцию тещи. Новым в этой ситуации является то, что у него набухают какие-то бугры под мышками, и по возвращению в Штаты ему ставят диагноз – рак крови. Однако называют это так по-ученому, что никто не понимает в чем дело, и он продолжает пить, правда, уже не жирея, отвечая теще: зато я молодой, красивый, младше моей жены Сары на тринадцать лет (ему двадцать шесть), причем после трех сеансов лучевой терапии почти целиком лысеет, и теща упрекает его теперь в том, что с него "клочьями сыплется на пол"; за восемь сеансов он лысеет полностью – любящая жена покупает ему красивый паричок, поэтому в гробу, по словам даже тещи, он, благородно похудевший и постаревший, выглядящий наконец гораздо старше жены, смотрится очень неплохо. (Там есть еще маленький нюанс: хотя врач объяснял потом теще, что рак крови никак не связан с пьянкой, она все равно кричит: связан, связан, еще как связан!!)
_Вариант С:_ В лесу девушку никто не насилует, даже в лагере партизан, где она скрывается до конца войны, девушку никто не насилует. После войны, в Праге, на концерте, она встречает своего австрийца, они оформляют отношения, и оба едут в Австрию. Они живут хорошо, он пианист, она певица, материально они тоже живут хорошо – певица флиртует с коллегой своего мужа, скрипачом, возникает большое чувство, она хочет связать с ним свою жизнь, почву, судьбу, он кладет глаз сначала на ее сестру, а потом на школьную подругу сестры, с кем и оформляет отношения, предварительно закончив бракоразводный процесс, раздел имущества с предыдущей женой, певицей (она, кстати, запила, потеряла голос и работает посудомойкой – там же, в кафе Венской филармонии). В это время бывший муж, пианист, тот самый, который помог ей бежать из концлагеря, высвободив сексуальную энергию и правильно ее сублимировав, пошел в гору, много зарабатывает – и протягивает руку помощи посудомойке, которая раньше была певицей и его женой, а еще раньше просто возлюбленной и узницей Маутхаузена; он спускается к ней по лестнице – не по социальной, а самой что ни на есть вещественной, она скользкая от заледеневших помоев, он поскальзывается, падает, встает – но снова поскальзывается, снова падает – и на этот раз уже ломает основание черепа, что имеет последствием потерю сознания и летальный исход через пять дней.
Комментарий преподавателя: "В моей группе 17 человек. Студенты переводят с иврита на английский. Я выбрал отрывки из книги Иосафата
Ха-Леви "Право не быть рожденным" с предисловием Эмиля Мишеля Чорана
(Cioran). Студентам было запрещено работать дома коллективно, – таким образом каждый давал свой эксклюзивный вариант.
Я нахожу все их удачными. Несмотря на различия в стилистике и даже на кажущиеся несовпадения в поверхностных поворотах сюжета, они точно передают авторское мировоззрение (дух оригинала). В системе переводческих приоритетов именно этот пункт стоит у меня на первом месте".
ГЛАВА ШЕСТАЯ. ОН И ОН
Он быстро шел по Greifswalderstra?e… Впоследствии, вспоминая этот эпизод, он предполагал, что со стороны видны были, наверное, только мелькающие кроссовки, как если бы они нечаянно вышли из-под контроля человека-невидимки. Итак, по тротуару, приближаясь к нужному номеру на Greifswalderstra?e, быстро шли, почти бежали, мужские кроссовки сорок третьего размера, – но происходило это не потому, что остальное тело оставалось невидимым, а потому, что остальное тело пребывало уже в другом месте. Оно вместе с душой пребывало в комнате
Клеменса – стопы просто отстали, не поспев за упорхнувшим составом.
Как он представлял себе комнату Клеменса? Собственно, здесь опять вступал в свои права "Доктор Живаго" – только наоборотный: роль
"Доктора Живаго" для русского в Германии (в данном, отдельно взятом случае) исполняла повесть Генриха Бёлля. Он не помнил, как именно называлась эта повесть, но смысл заключался в том, что (в соответствии с "наоборотностью") некий немец влюбляется в еврейку – и вот этот немец представляет, где именно должно состояться их свидание: он видит старомодную комнату, кажется, пансиона с просторной деревянной кроватью, с деревянным над ним распятием, с окном в сад, с трогательно-уютным – и совсем уже допотопным умывальником (почему-то его, немца, умиляет именно этот умывальник); этот немец пока еще не знает, что его возлюбленную вместе с другими обитателями гетто увезли убивать, пока он представляет место свидания.
…Майк стоял перед дверью Клеменса. Эта была обшарпанная дверь, на обшарпанной лестнице, в обшарпанном районе Восточного Берлина. Он стоял, не находя в себе сил переварить простую мысль: вот нажми он сейчас кнопку звонка – и хлынут события. А не нажми он эту пусковую кнопку… Но он может также нажать, а Клеменса не будет дома, его никогда не будет дома, сколько бы он ни нажимал!..
И он нажал.
Резкий звук звонка, после маленькой паузы, включил вдалеке звук шагов.
Это были молодые шаги. По скорости их приближения, помноженной на время приближения, можно было вычислить длину коридора.
Коридор был длинным.
И вот шаги оборвались у двери.
Подошедший с той стороны молчал.
Молчал и стоящий по эту сторону.
"Глазка" в этой обшарпанной двери, разумеется, не было.
И в то же время Майк отчетливо чувствовал, что на него смотрят.
Немного сверху.
Наконец, заскрежетав, подала голос замочная скважина.
Дверь распахнулась.
На пороге стоял Клеменс.
…Майку потребовалось некоторое время, чтобы совместить реального человека – с его образом. Изображение двоилось, было непросто соединить внутреннее зрение с наружным, навести множество разбросанных, яростно пульсирующих своих зрачков на единую резкость.
Наконец объекты совместились.
По сравнению с Клеменсом воспоминаний, Клеменсом зимним – Клеменс летний был еще более худым. Он стоял в серой просторной футболке, синих рваных джинсах; его скулы и подбородок покрывала отсвечивающая медью щетина. Он уже не принадлежал к периоду Первой мировой войны, – но только прочней укрепился в ранней фассбиндеровской эпохе.
Сзади него простирался еле освещенный – похожий на аэродинамическую трубу – коридор. В памяти Майка мелькнули приснославные коридоры питерских коммуналок – и снующие по ним на трехколесных велосипедиках горлопаны-мучители. Не успел он это вспомнить, как в самом конце, из-за поворота, показалось крошечное существо, а за ним, виляя хвостом, огромная собака. Малыш сделал шажок, покачнулся и привычно уцепился за собачью холку. Почувствовав их спиной,
Клеменс повернул голову: "Дита! Йош! – и, улыбнувшись Майку, продолжил по-английски: – Идите на кухню! Я сейчас!.."
И Майк понял, что он уже отвык от этого голоса, от этого спокойного, не вяжущегося с долговязой фигурой баса, – хоть Майк и слушал без конца диктофон, но это было не то. Сейчас надо было совместить звук и звук, то есть произвести озвучивание, чтобы записанный – словно бы позже – текст совпал с движением губ и с тем, к чему уже так уже привык слух. Он сделал и это.
Вся эта сцена – с распахиванием двери – до совмещения звуков заняла не более трех мгновений.
Клеменс сделал жест – "входи", Майк шагнул, и они обнялись.
Не сильно.
В рамках.
И пошли по длинному коридору. Все комнаты – Майк не успел их сосчитать – находились с одной стороны, слева, что придавало дополнительный неуют этой откровенной трущобе. Справа, на голой стене с давно ободранными обоями, – там, где в питерской коммуналке висели бы тазы, корыта, корзины – и снова тазы и корыта, – здесь висели два взрослых велосипеда, иллюстрируя намного менее закабаленный нрав обитателей. В самом конце коридора они свернули налево – и оказались в кухне.
Клеменс тут же подхватил на руки измазанного кашей улыбающегося бутуза, подошел к раковине – и стал осторожно и ловко, как и все, что он делал своими неразгаданными руками, умывать малышу личико.
Ребенок даже не завопил, благодушно соглашаясь на столь неожиданную процедуру. Затем Клеменс высморкал детский носик. Дитя вытерпело и это. "Я бы тоже стерпел", – хотел бы сказать Майк, но вместо этого, кивнув на ребенка, спросил: "Он уже говорит?" – "На своем языке", – сказал Клеменс. "Значит, говорит", – заключил Майк.
Он мучительно пытался найти в детском личике черты Клеменса – но пухлявость стандартного херувимчика никак не способствовала этому генетическому изысканию. Он ничего не понял – и из гордости, – возможно, ложной – ничего не спросил. Спросил Клеменс:
"Хочешь чаю?" – "Да", – сказал Майк (пусть, черт возьми, поухаживает и за мной!). "А бутерброд хочешь?" – спросил Клеменс, усаживая ребенка на специальный детский стульчик. "Хочу", – сказал Майк. "С чем?" – "Со всем сразу".
Клеменс занялся приготовлением бутербродов – красиво, ладно и, разумеется, обстоятельно. Майку даже стало смешно – настолько по-клеменсовски он это делал. Родная беспалая рука… Она все та же… И палец, слава Богу, не вырос… "Да ладно, мне только с сыром, – сказал он. – Можно я в окно покурю?" – "Давай, – сказал
Клеменс. – Шайсе!..^28 А у нас, кроме сыра, ничего и нет".
За окном был двор, обрамленный по периметру другими обшарпанными и полуобшарпанными зданиями. Улицы за ними видно не было. Во дворе росли деревья и щебетали птицы. Их пение усиливалось эхом. Все это порождало довольно странное чувство: он знал, что находится в
Берлине, но никаких доказательств тому не было. Следовательно, он мог забыть, где находится, а потом так и не вспомнить – либо заставить себя вспомнить и следующим усилием воли поверить. Впрочем, какая разница – где?
Клеменс поставил скромное угощение на стол. Себе он налил только чаю – в высокую синюю керамическую кружку. Затем посадил ребенка к себе на колени – и продолжил кормление. Сейчас это был десерт – клубничный йогурт.
"Хорошо, что горло умеет глотать автоматически, – думал Майк, глядя на вперившегося в него ребенка. – Мы с тобой, брат, отличаемся друг от друга только размером и условным именем". "Как его зовут,
Клеменс?" – "Дита", – сказал тот. "Дитер?" – уточнил на русский манер Майк. "Йа".
Ребенок на руках у Клеменса – это такая тема, которой касаться не надо. Не надо, потому что не надо! Ну, если хочешь перевернуть себе душу – насмерть перевернуть – тогда вперед. Тогда, конечно, валяй!
Самое ужасное в этом было то… То есть неожиданное в этом было то…
Безысходное, гибельное – ух, мерзость приблизительных слов! Тщета звукового сора вообще! Погань и блудодейство! Самое главное в этом было то, что Майку захотелось стать женщиной, матерью этого ребенка, будь он трижды проклят.
"А собака у тебя откуда?" – спросил он Клеменса (словно откуда ребенок, было понятно). "А, это Виллема", – сказал Клеменс и отпил из кружки. "Ой, забыл! – воскликнул Майк. – У меня же кое-что для тебя есть!.." – и с радостью – все при деле – полез в свою спортивную сумку…
…Потом они в довольно скупых словах (тон задавал Клеменс) обсудили все бытовые неурядицы на бытовом пути к этой бытовой встрече. Под таким углом зрения картина выглядела следующим образом: я звонил… было занято… потом никто не подходил… потом я уехал… потом ты не приехал…потом он ушел… я не позвонил… они ушли… не пришли… хотел звонить, но не смог… болел… не писал… Словно пули со смещенным центром тяжести, эти словечки постепенно так разворотили Майку нутро, что на него напала постыдная нервная зевота. "Хочешь спать?" – невозмутимо спросил Клеменс. "Не-е-е-а-а-а… что ты…" – яростно зевая, сказал Майк. "Посиди пока, – сказал
Клеменс. – Я пойду его уложу. Чаю еще хочешь?"
Оставшись один, он разглядел кухню и собаку. Кухня была очень просторная, что только подчеркивало ее запущенность. Ее нельзя было бы назвать необжитой, она была скорее отжитой – по углам, держа последнюю оборону перед выбросом на помойку, теснился хлам, и только в самом центре существовал островок текущей жизни, именно он и держал ее оборону, – островок с круглым столом и низко висящим над ним апельсиновым абажуром. Пес был огромный, изо рта у него торчал язык, словно ошметок недопроглоченного, недопережеванного животного; при самом грозном своем виде он, заглядывая незнакомцу в глаза, беспрерывно вилял хвостом – первый признак дворняги.
Майк поймал себя на чувстве, что мучительно скучает по Клеменсу.
Нет, не потому, что тот ушел в другую комнату. Еще больше, пожалуй, он скучает по Клеменсу, когда видит его. Что за окаянство?!
Наверное, изображения совместились не полностью. Они лишь мощно соударились. И, как вагонные буфера, расплющили неосторожное сердце.
"Ну что, Йош, – появился в дверях Клеменс. – Хочешь гулять?" Всю фразу он произнес на немецком – и только вместо "spazieren"^29 сказал по-английски "to walk". Его дипломатия была понятна: произнеси он это магическое слово привычным для собаки образом – и начнется лай, который разбудит ребенка. А тогда зачем вообще что-то говорить собаке? Значит, фраза была сказана в какой-то степени для него, Майка. Данке шён. Тут же выяснилась и вторая причина, по которой Клеменс не захотел преждевременно обнадеживать пса. "Ты посидишь полчаса, пока мальчик спит? Виллем обещал давно быть, а его нет. А Йош с самого утра не…" – "Посижу, конечно". – "Спасибо. Бери, что хочешь – чай, бутерброды. Кури в окно". – "Слушаюсь, сэр".
И они ушли.
("Вот как я долго в гостях у Клеменса – он успел даже уйти, а потом придет… Абсолютно точно придет. Я даже смогу услышать, как он открывает дверь. Он откроет дверь своим ключом, как делал это в
Питере, и войдет как ни в чем не бывало, даже не кивнув, может, только бросит: "Ну как?" – и тут же пойдет к себе – именно так оно и происходит между людьми, которые сто лет живут вместе… Нет, в данном случае Клеменс спросит: "Дита не просыпался? Не плакал?" – и совсем неформально он это спросит…")
Он выкурил еще одну сигарету, когда раздался звук ключа. "Так быстро? – пронеслось в голове. – Я даже не успел начать ждать…"
Но шаги он услышал другие и – инстинктивно (защитить ребенка) – выскочил в коридор. Прямо на него направлялся парень – он был ярко выраженного пикнического типа, чернявый, не очень крепкого, но, безусловно, грубого телосложения и с некоторыми нарушениями в поступательности движения, что, скорее всего, отражало его накаченность пивом. Он безучастно прошел мимо Майка в кухню, как если бы Майк был просто добавочной дверью, причем широко распахнутой. Возле плиты он, явно сосредоточившись, оживился, снял крышку с большой синей кастрюли и, подхватив в раковине грязную вилку, начал яростно наматывать спагетти. Получился огромный сероватый кляп, который он тут же всадил себе в рот. Именно в этой позиции он что-то заинтересованно промычал, помогая себе жестами. (В переводе это, видимо, означало: "А где эти-то?") "Дита спит, а
Клеменс вышел прогулять Йоша", – ответил Майк на самом "royal" из своих английских. Чернявый одобрительно кивнул. ("Кого-то он мне напоминает… Кого?.. Гибрид Упса с Варсонофием, что ли?")
"А меня зовут Виллем, – после третьего "кляпа" на ужасном английском проскрежетал чернявый. Затем начал рыгать – обстоятельно, всеми закоулками пивного нутра, поковырялся в зубах, подустал и, садясь за стол, миролюбиво спросил: – А тя?" Майк ответил. "Сигаретой не угостишь?" – продолжил Виллем. Майк угостил.
Дальнейшая сцена в воспоминании Майка идет, условно говоря, на условном языке. Как переводчик он привык к тому, что мир огромен и в нем то и дело сталкиваются люди, говорящие на языке, который не является родным для обоих. Скажем, китаец и чилийка, встретившись где-нибудь в австрийских Альпах, говорят по-французски. Хорошо, если они там просто катаются. Если же они там очень и очень не просто скитаются, их чужеродность имеет, как минимум, пятую степень: языку этой страны, который они не знают; самой стране, которая их в себя не впускает; языку третьей страны, на котором они говорят еле-еле
(притом каждый со своим акцентом); стране происхождения, которая их из себя выдавила; друг другу.
А ведь именно точная речевая характеристика (особенно в ситуации неработающего общения) дает четкую голографию персонажа, заодно дактилоскопируя его собеседника.
Однако для переводчика с языка тридевятого государства на язык, которым плохо владела Татьяна, тут всегда крышка, тупик, пат.
Окружающие Майка – в каком уж поколении! – поражены, даже ошарашены – фактом, что за пределами их Отечества, оказывается, живут нерусские племена, притом говорящие не по-русски. А уж про ломаный язык, на коем гутарит половина человечества (лучшая, ибо пассионарная – это мигранты), они не хотят и слышать.
Куда деваться от вас, бояре, прозябающие с рождения до гроба в трусливых оранжерейках Садового кольца – заскорузлые, протухшие, совсем слабо верящие, что жизнь на других меридианах и в самом деле возможна, – бояре, которые, спрашивая, который час, говорят: "Хау мэни тайм?" – и пускают злого духа под шубу… Никуда от вас не деваться! Мой язык – с головой разве что оторвать – намертво прирос к вашим задушевным кастетам – как у ребенка, что на лютейшем морозе лизнул амбарный замок. Стало быть, исполать вам, будьте вы прокляты!
Анучкин. А как, позвольте еще вам сделать вопрос, на каком языке изъясняются в Сицилии?
Жевакин. А натурально, все на французском.
Анучкин. А что, барышни решительно говорят по-французски?
Жевакин. Все-с решительно. Вы даже, может быть, не поверите тому, что я вам доложу: мы жили тридцать четыре дня, и все это время ни одного слова я не слыхал от них по-русски.
Анучкин. Ни одного слова?!
Жевакин. Ни одного слова. Я не говорю уже о дворянах и прочих синьорах, то есть разных ихних офицерах; но возьмите нарочно простого тамошнего мужика, который перетаскивает на шее всякую дрянь, попробуйте скажите ему: «Дай, братец, хлеба», – не поймет, ей-Богу не поймет; а скажи по-французски: «Dateci del pane» или
"portate vino" – поймет, и побежит, и точно принесет.
Поэтому следующая сцена – в воспоминании Майка – закрепилась на неком условном языке, на коем Виллем сроду не говорил – и ни при каких обстоятельствах говорить бы не мог, ибо Виллем, который и на языке своем родном изъяснялся с заметным трудом (но вовсе не по той причине, что пушкинская Татьяна), на английском не вязал и двух слов. Кроме того, напомним, что в нижеследующей сцене он основательно пьян. Но когда всю жизнь живешь в оранжерейках Садового кольца, поверить в "некондиционную" речь тридесятого царства действительно трудно. Если ее, "некондиционную" речь, здесь действительно изложить – такой, как она есть, – да еще оскоромить ею кириллицу, переводчика закидают камнями.
Исполать вам, бояре! Принудим Виллема трендеть по шаблону.
"…А от меня, вишь, женка ушла, – задумчиво начал Виллем, видимо, расценив Майка как дорожного попутчика. – Ну, без бабы-то оно и лучше… Свалила с этим, как его… мудак этот из пожарной охраны… Да и хер с ними… А вот сосунка – на меня кинула! Это как?! Она, значит, там… с этим… а мне спиногрыза, да?! Я что – себе давалку какую-нить не найду? Я найду… Щас только от одной… Буфера – во!
(Показывавет. ) Блядей-то – как грязи, ноу проблем, а куда я с этим, прикинь?! (Жест по направлению комнаты, где спит ребенок.)
Это ж удавка, блин! Хорошо, Клеменс хоть…" – "Так вы переехали к
Клеменсу?" – вежливо поддержал Майк. "Я?! К Клеменсу?! – Виллем захохотал, отчего пивом засмердело просто невыносимо. – Я?! К
Клеменсу?! Ой, не могу! Да это ж моя хавера! Здесь все мое, все! Так что этой сучке пришлось выкатываться! Ха! представляю! Если бы это была не моя хавера, знаешь, где я бы уже был?! Знаешь?! Нет?!.
(Мхатовская пауза.) В глубочайшей жопе!!" – "Так, значит,
Клеменс…" – "Это Клеменс у меня живет, понял? Клеменс – у меня! А не я у него!.. А ты… вообще… откуда?" – "Из Петербурга". – "Постой, я что-то такое слышал… Горбачев – оттуда?" – "Примерно". – "Ясно…
Погоди-погоди… Припоминаю… Так это он у тя, что ли, в Питере жил?" – "Горбачев?" – "Да нет, Клеменс. Он вроде в Питере был. Он у тя конкретно останавливался?" – "У меня". – "Ясно… А он вообще юродивый. Братан – без двух тысяч миллионер, а этот все по людям мыкается… А слово – клещами не вытянешь… Спасибо, хоть ребенка любит… а ребенок его… за то и пустил… и собаку он любит… а собака его… Погоди… а ты, может, думаешь, что и я его люблю? В смысле, что у нас с ним любовь, да?! Хо-хо-хо-хо!!. Да мне если припрет – я лучше вон груши околачивать буду! Лучше груши, чем с этим, он же чокнутый на всю голову… лучше с бревном, я не знаю… Я же все по-честному: пошел в специальную контору, ну, для инвалидов всяких, – говорю, так и так, моя сучка, мол, деру дала, ребенок на мне, дайте бабу. А они: у нас тут не брачное агентство – мы вам бабу не можем, мы только няню можем дать, зарегистрируйтесь в списке… Ну я записался. А потом, как пришла эта баба… в смысле, эта няня
(встает, показывает рукой рост Клеменса), я чуть не рухнул…
( Внезапно отблеск какого-то сложного мыслительного процесса облагораживает его физиономию .) Погоди-ка, погоди… я не про то… какого хера ты мне про свой Петербург тут гнал? Какой еще
Петербург?! Не знаю я никакого Петербурга!! Откуда ты здесь взялся?!
Тебе кто открыл?! К нему ж не ходит никто… Это же бирюк, булыжник, ну!.. Ты мне мозги не…" – с этими словами он вскочил, пошатнулся – и схватил Майка за грудки… точнее, повис на нем всем своим пикническим весом.
И тут же, в дали коридора, раздался собачий лай – а сразу за ним плач Дитера. Ребенок, до того спокойно спавший под вопли папаши, к которым он, видно, привык, проснулся от лая: пес, по-собачьи верный хозяину, все равно трудно свыкался с парами его алкоголя. А Майк, отвлекшись на потасовку, не услышал ключа в замке. Он быстро свободился от Виллема, выскочил в коридор, но Клеменса не увидел: тот уже был в детской. Не решившись последовать в детскую, Майк вернулся в кухню – закончить выяснение отношений с Виллемом. Но тот, уронив грязную башку на грязные лапы, уже спал.
Клеменс, войдя в кухню, налил в синюю кружку воды из-под крана, спокойно и быстро выпил, затем, без паузы, молча потащил Виллема в его конуру. "Так! – сжалось в голове Майка. – Нашел себе нового








