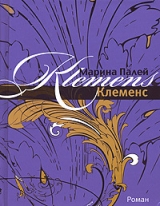
Текст книги "Клеменс"
Автор книги: Марина Палей
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц)
Марина Палей
Клеменс
роман
ВМЕСТО ПРОЛОГА
Господин издатель, настоящим посылаю Вам манускрипт одного петербуржца, исчезнувшего несколько лет назад при невыясненных обстоятельствах. Я имел удовольствие быть с ним знакомым. На данный момент сознаю себя единственным, кто способен взять ответственность за его труд. Ниже я поясню, почему не включаю в данное число его жену (вдову?), которая и послала мне эту рукопись, присоединив к ней свое сбивчивое послание. Поскольку я, к сожалению, не владею русским языком (набор бытовых фраз не в счет), то попросил жену своего брата, Гизелу фон Вольф, переводчицу с русского на немецкий и обратно, выяснить, о чем идет речь. Гизела любезно согласилась; кроме того, она перевела также и данное письмо.
Главный смысл послания, полученного мной от этой русской женщины, сводится к тому, что она крайне оскорблена данным манускриптом – и испытывает к его автору, равно как и ко мне, огромную неприязнь.
После непосредственного прочтения рукописи Гизела констатировала, что в ней "с житейской точки зрения", как она сказала,
"действительно содержатся ядовитые выпады повествователя против своей жены" – чем, скорее всего, и мотивируется активное нежелание жены автора (видимо, обнаружившей некоторые параллели) хранить эти бумаги в своей квартире. На мой вопрос, чем объяснить, что жена автора бумаги не уничтожила, а прислала их именно мне, и чем, кроме того, вызвана эта неожиданная ко мне неприязнь, переводчица сказала, что ей трудно судить об этом со всей мерой ответственности. Она лишь заметила (по поводу первой части моего вопроса), что, наверное, бедная женщина, которая послала мне этот манускрипт сразу после прочтения, действовала в состоянии крайней ажитации – и что
(рассуждение общего порядка) художественная природа любого, в том числе данного текста, конечно, оправдывает разного рода
"субъективности", потому что, как выразилась Гизела, "объективен лишь Господь Бог, но Его книги, к сожалению, нечитабельны".
Одновременно с этим я допускаю, что рано или поздно гнев оскорбленной женщины может закономерно смениться коммерческим интересом (отчасти – в качестве некоторой компенсации за моральный ущерб). Иными словами, я допускаю, что она дальновидно оставила себе копию, но у меня, к сожалению, нет уверенности, что, отдавая записки для публикации, она не выправит некоторые места в более приемлемом для себя направлении. Со своей стороны, даже не будучи осведомленным, в каком именно свете выставлен там я сам, я не считаю возможным, чтобы мое любопытство или иные частные побуждения возобладали над уважением к результату художественного труда.
Профессиональную ценность записок высоко оценила упомянутая выше госпожа фон Вольф, которая имеет блистательную репутацию в среде немецких и русских коллег-литераторов, и у меня нет никаких оснований ей не доверять. В связи со сказанным выше я счел своим долгом отправить эту рукопись Вам. Искренне надеюсь, она займет достойное место в планах Вашего издательства.
Несколько слов по поводу авторских прав. Разумеется, они полностью принадлежат автору. Однако сложность заключается в том, что он, как я уже написал, исчез. Несмотря на активные розыски, его тело нигде не обнаружено, а в соответствующих административных бумагах, со слов жены, фигурирует, что он "числится в живых". (Согласитесь, странная формулировка!) Однако, насколько мне известно (я могу ошибаться), именно в силу этого вселяющего оптимизм факта его жена и не может стать официальной наследницей прав. Не знаю, каким именно образом Вы смогли бы в случае Вашей заинтересованности разрешить данную проблему. Возможно, выигрышность положения заключается в самой его странности.
Может быть, Вы захотите соотнестись с женой автора лично. В связи с этим я считаю необходимым ознакомить Вас с некоторыми пунктами ее письма, опустив соответственно те оскорбления, которые она посылает как в мой адрес, так и в адрес своего мужа. Я делаю это для того, чтобы Вы были готовы к некоторой ее неадекватности, потому что
"факты", которые она излагает, наводят, к сожалению, именно на такую мысль.
Эта, судя по всему, потерявшая рассудок женщина, например, связывает исчезновение мужа с " загадочными изменениями", которые произошли в зеркалах их квартиры. На момент его исчезновения (который точно не установлен – речь идет о периоде от трех до пяти дней) она с сыном находилась на даче. В первую минуту по возвращению она ничего особенного в квартире не заметила: все вещи стояли на своих местах, следов беспорядка не было. Однако тут, как эта женщина пишет, она услышала дикий крик сына. Выбежав в прихожую, где сын разбирал сумки, она увидела, что в большом овальном зеркале – почти по самому его центру – чернеет круглое, довольно ровное "отверстие". Оно, это
"отверстие", по ее словам, имело размер с голову взрослого человека.
Она описывает его как "окошечко, которое образуется, если в пруду отвести ладонями ряску". Женщина подчеркивает – и всячески настаивает, – что повреждений ни стекла, ни амальгамы (!) она не обнаружила. В гостиной они оба – она и сын, – "к своему неописуемому ужасу", увидели почти то же самое. Разницу составлял только характер повреждения: вся гладь прямоугольного, в рост человека, зеркала была перечеркнута черными линиями, имевшими вид трещин ("как по льду озера"), а в месте их пересечения снова зияло "отверстие", которое она, видимо, в состоянии крайней экзальтации называет "полынья".
Следов повреждения стекла и амальгамы здесь тоже не оказалось. Но самые странные изменения (если градация "странностей" тут уместна вообще) они обнаружили в той маленькой комнате, которую восемь лет назад снимал у них я. Если перемен с тех пор не произошло, то есть женщина имеет в виду зеркальце, висящее слева от окна, перед которым я брился дважды в неделю, то я отлично его помню: оно имеет размер с листок из школьной тетради. Бедная женщина утверждает, что на момент ее вхождения в комнату зеркальце было "пробито пулей", причем в верхнем левом углу были "процарапаны" буквы: p. p. c. Я взял слово
"процарапаны" в кавычки, потому что и в этом случае, как она пишет, повреждений стекла или амальгамы – даже самой малой степени – обнаружено не было. (Кстати, аббревиатура p. p. c. на визитных карточках ставится на прощание и означает pour prende cong ? : чтобы откланяться . Это, разумеется, простое совпадение: человек, о котором речь, визитных карточек не заводил принципиально.)
И в заключение – откуда появилась сама рукопись. Исчезнувший не оставил никакой записки. По его вещам трудно было определить, являлось ли его исчезновение внезапным или спланированным. (Здесь, к сожалению, я вынужден совершить вторжение в приватную жизнь чужих людей, но без этой детали Вы не сможете достаточно оценить ситуацию: супруги жили настолько разрозненно, что жена даже не знала всех носильных вещей мужа.) Показав зеркала нескольким экстрасенсам
(которые, к сожалению, не могли сказать ничего конкретного), женщина вывезла их из дома, поскольку они производили на нее угнетающее впечатление. Она не хотела выбрасывать их на свалку, так как там они оказались бы непременно разбиты, что, по ее словам, является дурной приметой. Поэтому женщина отвезла зеркала к живущей на окраине города подруге, где заперла их в дровяном сарае. В третью годовщину своего рокового возвращения с дачи (7 июля, то есть три недели назад) жена исчезнувшего решила навести порядок в упомянутой выше маленькой комнате (которую после моего отъезда они стали называть
"комната Клеменса"), куда никто из них потом почти не заходил – и куда назавтра собиралась поселить студента. Она хотела было открыть маленький выдвижной ящичек, встроенный в стене, как раз под зеркальцем, которое она выбросила, – там раньше хранились мои бритвенные принадлежности. Но в это время раздался телефонный звонок. Звонила подруга, чтобы сообщить, что сарай взломан, имущество разграблено, а зеркала перебиты. Это произвело на женщину ужасающее впечатление. Только к вечеру она немного пришла в себя, чтобы продолжить уборку в комнате. Когда она выдвинула упомянутый ящичек, там якобы и лежала та самая рукопись, которую сейчас Вы видите перед собой.
Женщина утверждает, что еще месяц назад ящичек был пуст. Кроме того, все свои заверения она пытается усилить голосом свидетеля, которым является ее сын. Все это тем не менее не может меня убедить в том, что картина именно такова, какой ее описывает моя корреспондентка.
Мне не близок уклон в оккультизм – однако я в равной степени вовсе не склонен уличать эту женщину в искажении фактов.
Вот и все, что я имел намерением Вам сообщить. Надеюсь, господин издатель, что, оценив художественные достоинства этого труда, Вы с пониманием отнесетесь к моей просьбе.
Остаюсь искренне Вас уважающий
Clemens R. J. von Wolf
ЧАСТЬ I
ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТЕРБУРГЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЯВЛЕНИЕ
На польском пустыре немцы расстреливали евреев. Входом в ад служила шахта заброшенного колодца – солдаты швыряли туда изрешеченные тела; многие из них еще дышали. По прибытии в ад евреи копошились там довольно долго, скорее всего, вечно, утоляя голод плотью умерших, жажду – мочой живых.
Вот какое это было кино.
А чтоб современного зрителя, задерганного и вялого вуайериста – которого, разумеется, не поразишь бойней с лавинообразным нарастанием массовки, – чтобы такого зрителя сильнее пробрало, режиссер эту ситуацию, что называется, персонализовал. То есть: ближе к кульминации один, отдельно взятый немец учиняет вполне конкретную, затяжную муку одному, отдельно взятому еврею. Немец обещает еврею, что пощадит его жену и детей, если он, этот хилый еврей, впряженный в повозку (а в ней развалился сам немец), обойдет на девяти кругах повозку с другим немцем – повозку, запряженную крутым жеребцом. Эта скрупулезно рассчитанная на девять кругов пытка имела кинематографическим эквивалентом лицо еврея (невыносимо крупный план), превращенное в месиво, – зритель видел, в частности, уголки рта, разодранные металлической уздой до ушных раковин, – и превратил его в месиво очень индивидуальный опыт, который Бог не задумывал для земных существ. Вторым компонентом пытки (в данном случае больше для зрителя) были регулярно, в правильно найденном ритме показа, возникающие ботинки – мощные, как противотанковые надолбы, – первосортная обувь рыгочущего арийца. Эти беспощадные в своей лютости и слепоте подошвы завоевателя обрушивались на хилые плечи жертвы, таранили экран телеящика, а заодно, разумеется, и мозг без вины виноватого соглядатая. В финале "победивший" еврей с глазами, залитыми счастьем и кровью, валится на землю, – но перед смертью его успевают еще подволочь к шахте колодца, чтоб показать, как дергаются в конвульсиях его жена и его дети. Их сбросили туда, конечно, еще до начала "состязания". Конец.
Я тупо смотрел сквозь ползущие вверх титры – вполне тупо, потому что принадлежу к тому поколению, для которого, в массе, весь немецкий язык все еще сводится к "Хенде хох!"^1, – и этого уже достаточно, чтобы испытывать перед ним, этим языком, постыдный в своей неизменности страх. Выкрики "хенде хох!", навсегда слитые на экране с оглушительным лаем овчарок и лютой морзянкой автоматных очередей – да, всенепременно нерасторжимо слитые с остервенелостью псов (их лай предполагает клыки, раздирающие человека в мокрые клочья), – невротический лай немецкого языка, истерический и одновременно четкий, лай хорошо структурированных команд и приказов, с бесперебойной аккуратностью переводящих жизнь – в смерть, жизнь – в смерть, жизнь – в смерть… Мою память вовсе не надо стимулировать такой грубой акупунктурой для бегемотов, она и так сочится кровью, моя память, и не заживет никогда, так что я вполне тупо смотрел куда-то – сквозь ползущие вверх титры, когда в пустой квартире грянул дверной звонок.
Я был, повторяю, один. Окно моей комнаты – ноябрьское, наглухо черное – внушало чувство полной отсеченности от тех, кто мог бы, в случае чего, прийти на помощь, и, конечно, в любой другой ситуации я бы дверь не открыл. Но ужас фильма показался мне в тот миг куда сильнее ужаса, царящего сейчас там, снаружи законопаченных пещер, впитавших и продолжающих впитывать смрад круглосуточного, беспрерывного страха; мне необходимо было сейчас шагнуть к
человеку – к кому угодно, к любому. "Кто там?" – как можно более напористо (имитируя к тому же наглую московскую растяжечку), на самых своих "низах" спросил я. За дверью было совсем тихо. Прошьют сейчас из "калашникова"… – сжались кишки… Мой живот, голее голого, был подставлен очень точно под самое дуло: потому что дуло за хлипкой ширмочкой двери держали тоже на уровне живота… Почему
"глазок" в дверь не вставил? Купил на те деньги Мандельштама, козел…
"I was told about you by the friend of yours, Irina
Sergeevna… – вежливый бас слегка кашлянул. – Is it the right address?"^2
Ни фига себе голосок! Саваоф вещает Моисею на горе Синайской!..
Откидывая дверь на цепочку, я только успел подумать, что в этом английском силен незнакомый акцент…
Военные ботинки.
Громадные, как противотанковые надолбы.
Не могу оторвать от них глаз.
Наконец рядом с ботинками различаю патефон. Голубой, без крышки… Как под гипнозом, продолжаю глядеть в дверную щель: здоровенный псина на фирменной этикетке, над ним кровавая надпись: "HIS MASTER'S
VOICЕ"…^3 Снова заставляю себя перевести взгляд…
Солдатские галифе с деревянными пуговицами по бокам. То есть какие-то дикие штанишки времен Первой мировой войны… (Когда противники выворачивали друг другу кишки с помощью похожих на мороженое-эскимо гранат… Когда, стрекоча с вертких, как стрекозы, аэропланов, военные авиаторы изящно переводили суетящиеся внизу тела из вертикали в горизонталь…)
Стараясь не утратить последние капли здравомыслия, разглядываю крупный (крупней моего) красноватый кулак с рельефно белеющими костяшками… Он сжимает ручку фанерного – перевязанного веревками – чемодана. Над всем этим долго тянется туловище, одетое в куртку, перешитую из солдатской (советской?) шинели… потом идет кадыкастая шея без шарфа… потом наступает словно бы прерыв пленки… и, наконец, в самом конце шеи я вижу небольшую человеческую голову, стриженную под ежик, с круглыми маленькими очками.
Запрещающими разглядеть глаза.
Снова гляжу на ботинки… даже не могу откликнуться на приветствие…
"Сейчас… простите… да-да, конечно…" – на каком-то прихрамывающем английском бормочет наверху голова, а длинные ноги (пятка-носок) принимаются рьяно сдирать злополучную обувь… Я ошалело смотрю на эти цирковые усилия по освобождению стоп из плотно зашнурованных ботинок – номер, который вряд ли пришелся бы по зубам даже Гарри
Гудини… "Вы бы руками… – полузадушенно говорю я. – Снимите руками…"
Скидываю цепочку, открываю дверь.
В тот же миг, повинуясь приказу, руки пришельца ставят на лестничную площадку фанерный чемодан; тело в три стремительных сгиба – ноги-тулово-шея – делается соразмерным телу среднестатистического мужчины наших долгот и широт – и вот я уже вижу сильные пальцы, ловко отматывающие шнурки с металлических ушек… изящные пальцы с аристократическими лунками в форме длинных и чистых овалов… Указательного пальца на левой руке нет – отсечены две фаланги…
Главное, я снова вижу ежик небольшой головы – теперь, кстати сказать, в проекции сверху (что меня поражает больше всего: все равно как если б возле моих ног очутился церковный купол) – и, спохватившись, вполне лицемерно мямлю: ну что вы, что вы, ну зачем…
Это длится неопределенное время, человек – в три быстрых разгиба – восстанавливает свои прежние размеры. Теперь, в одних белых носках на ноябрьской лестнице – притом, разумеется, вполне свинской, – он скорее комичен, чем устрашающ.
Я отступаю в глубь коридора – пришелец, словно на веревочке, с беззвучной синхронностью перешагивает через порог. Он ставит на пол чемодан, затем, очень бережно, голубой патефон с надписью "HIS
MASTЕR'S VOICE"… "Меня зовут Клеменс, – говорит он. – Я из Берлина…
Ваша знакомая сказала, что вы сдаете комнату. Это так?"
ГЛАВА ВТОРАЯ. ДЕТАЛИ БЫТОУСТРОЙСТВА
В первый же вечер я выделил Клеменсу большую полку в продуктовом шкафу. Через день там, в углу, оставляя уйму пустого места, робко притулились две пачки грузинского (знаменитого обилием щепок) чая, буханка осклизлого хлеба, банка консервов «Слаянская трапеза» (на картинке, разумеется, Василиса в кокошнике, внутри – частик в томате) и килограммов десять сероватого риса в двух больших полиэтиленовых пакетах. А еще через неделю продуктовая полка была уже забита карандашными эскизами (камерные, очень нетуристические виды Питера); кроме того, там встали впритык деревянная прялка (в разобранном виде, без колеса), спинка от финских саней, столбик из десяти новых краснозвездных ушанок – и сложенный вчетверо плакат из толстой, как фанера, бумаги: "МЫ НЕ БУДЕМ ЖИТЬ, КАК В АМЕРИКЕ! МЫ
БУДЕМ ЖИТЬ ЛУЧШЕ!!!"
Все это богатство, конечно, не помещалось у нового жильца в сданных ему, назовем так, апартаментах. И вот – с его вселением – эти хоромы, то есть комнатушка площадью 9,75 квадратных метров (имевшая убранством только кровать с выцветшим пледом и стол с матерным словом в подбрюшье), стала напоминать мне каземат Петропавловской крепости… Черт знает что! Она была по-петербургски сумрачной, старческой – правда, не в виде хрестоматийного гроба или пенала, – нет, она была почти квадратной, но грустной неистребимо.
Окошко этой каморки выходило в глухую, традиционно обшарпанную стену, украшенную – на недоступной человеческому духу высоте – розово-голубой надписью "СМЕРТЬ ЖЫДАМ", но, если посмотреть влево, над крышами, когда не мешали летние тополя, можно было увидеть золото на колокольне Никольского собора. А если плотно прижаться к стеклу левой щекой, одновременно с силой скосив глаза вправо, можно было увидеть бравый собор Измайловского полка… Тем не менее прежние жильцы, которых побывало немало, не внесли в облик этой каморки ровным счетом ничего нового. Ну, меняли местами стол и кровать… Ну, вешали на стенки каких-то плюшевых мишек (девицы) и план гостиницы "Прибалтийская" (юноши). Сменялись занавески, запахи, иногда даже обои…
Но, по сути дела, ничего не менялось.
А с вселением этого тевтонца… Сизая дымка принципиально другого времени плотно зависала везде, где он появлялся… Особенно плотная возле его тела… (Ага, дымка! Дымил, как паровоз, вот и "дымка"!
О'кей, другие тоже дымили… хоть топор вешай… хоть святых выноси… А дымки не было…) Так вот, как только я вошел к нему в комнатушку, где он уже успел сесть в своих военизированных брючатах на узкую кровать, – мгновенно увидал каземат Петропавловки…
Да, это случилось в первый же вечер, когда я зашел к Клеменсу…
Конечно, зашел, а куда денешься: свет включается здесь, туалет у нас там, сюда ставить нельзя, кладите сюда, запирайте так, отпирайте сяк – объяснить-то эту хренобень все-таки надо… То есть я все это и собирался объяснить – и даже в русско-немецком словаре посмотрел – на случай, если он по-английски не знает, как будет
"электровилка", – она состояла в родстве с чуть живой настольной лампой, была треснута и кое-как обмотана изолентой – так чтоб он с ней поосторожней… (Ладно придуривать-то… Вилку можно было и так показать… А по-немецки посмотрел для того, чтобы… ну… как бы это объяснить… А черт его знает…)
Итак, я постучал, услышал его "Херайн"^4 – и вошел. Он, уже без куртки, сидел на узкой кровати, еще не разобранной на ночь. Кровать с таким седоком справедливей было бы назвать койкой – не только казематной, но в равной степени казарменной, лазаретной… Он сидел, положив ногу на ногу, в тех же допотопных милитарных штанцах цвета хаки. Ноги его в этом тесном пространстве казались особенно негабаритными – я читал, что кузнечик подпрыгивает на такую баснословную по отношению к своему росту высоту, что – при тех же способностях – человеческое существо допрыгнуло бы до маковки
Исаакиевского собора.
Тевтонец выглядел именно тем самым человеческим существом. И еще казалось, что художник, его конечности здесь и сейчас при мне изображающий, применяет какой-то профессиональный трюк – ну что там мастера древнегреческие делали со ступенями храмов, чтоб те не уменьшались в перспективе… Итак, он сидел, держа левую руку на отлете… Локоть был небрежно поставлен на металлическую спинку кровати… В кисти медленно таяла сигарета – только начатая, но торчащая коротким сучком-обрубочком меж длинных, лучами, пальцев… один из которых (сейчас я разглядел это еще резче) был также обрублен… Пепел он стряхивал в половинку замызганной мыльницы, пристроенной на коленях… Изящно удлиненное предплечье – худое, как весло байдарки, – выглядело так, будто оно, как и кисть (с сигаретой и элегическим дымом), живет само по себе, не имея никакой связи с туловищем, где внутри – хоть это и трудно вообразить, – видимо, как у всех, спиралью электрокипятильника булькают себе и шкворчат вполне конкретные склизкомясые кишки… И уж тем паче рука не имела никакой связи с этой комнатой… Сизовато поблескивающие очки смотрели на меня прямо, устало и безразлично.
Я не сразу понял, почему изо всех сил заставляю себя вообразить его потроха… Осознал это позже, уже черно-белой зимой… Как бы это сказать… Ну, что ли, для баланса я такое трусливо пытался тогда сделать… Этот пришелец – собранный даже не из линий – из легких карандашных штрихов – повторяю опять – и готов повторить под присягой – был окутан сизым светом иного времени и пространства… И не то чтобы я хотел, за кишки зацепив, перетащить его в "нашу реальность", будь она проклята, – а просто невольно пытался ухватиться за соломинку… Какую еще соломинку? Ну, скажем,
"здравомыслия"…
И ничего, правду сказать, у меня ни тогда, ни позже с кишками не получилось. И про включатели-выключатели я ему так и не объяснил.
Потому что мгновенно увидел его (и себя) в сыром каземате
Петропавловки… Он болен (конечно, чахоткой)… Ясное дело, кровохаркает. Кровь, ясное дело, сплевывает в белоснежный платок с монограммой… Хранит под подушкой тощую связку каких-то немецкоязычных брошюр… Ну и, разумеется, "пачку писем, перевязанных голубой лентой"… Я сдавал ему квартиру возле Конюшенной, а он там, оказалось, какой-то подпольный кружок собирал… Стриженые барышни с крепкими папиросами, новые идеи, агитация… За то и сидит… На суде я все, разумеется, отрицал: никого не видел, не слышал… живу-де сам в другой части города…Что, кстати, подлинная правда (допустим). И вот сейчас – мне разрешили – я пришел пешком, с Песков… На последнюю свиданку… Что-то перед Первой мировой войной: лента телеграфа, с непривычным еще стрекотом передающая сообщение об успехе мелодрамы
"Убийство герцога Гиза"… умные пальцы карманника… ноздри взвинченного кокаиниста в артистическом кафе на Невском… казармы и плац Семеновского полка… инвалидские культяшки жестоко обкорнанных тополей, прозрачные на просвет апрельские кусты, под коими, презрев хлябь и мокрядь, добывают свой честный хлеб уличные проститутки… громовая побудка в казармах Измайловского полка… ежеутренние резкие вскрики муштры… йодистые, захватанные сотнями голодных лап порнографические открытки… светлые зонтики, обшитые по краям прозрачными кружевами, позолоченные лорнетки, складные ворсистые цилиндры: концерты в Павловске на вокзале… публичные сады с бухающей трубой военного оркестра… полноватый профессор палеонтологии в светлом жилете, русая бородка клинышком… сосредоточенный часовщик чистит швейцарский репетир в массивном, похожем на шкаф футляре красного дерева…
"Тут совсем пусто", – сказал я. "Где?" – спросил пришелец. "Да тут".
Он не ответил. "Вы так внезапно въехали, – продолжил я виновато. – Мы с женой не успели ни убрать, ни как-то украсить… – Я посмотрел ему прямо в очки. – Можно сейчас?" – "Вы можете, да", – кашлянув, мягко пробасил он. Я мигом притащил две большие фарфоровые чашки с оленями (обе поставил на низкий, невероятно удобный для сидения подоконник), к ним добавил горшок с плоским, как столовская котлета, бородавчатым кактусом и пепельницу из прессованного хрусталя… Над кроватью взялся прибивать пластиковые репродукции: "Переход Суворова через Альпы", "Итальянский полдень" и еще одну – с мерзкой, похожей скорее на вошь белой собачонкой, сосущей через соломинку пепси-колу (все вместе – представления о
"мире прекрасного" предыдущей квартирантки).
Новый жилец молча курил. Пока я, отодвинув кровать, возился с шедеврами визуального искусства, он пересел на подоконник. Я несколько раз оборачивался – за мелкими гвоздями. Его очки по-прежнему не давали мне разглядеть глаз. Форточка над головой пришельца была приоткрыта. Голубая вуаль его выдоха, словно рыбка вуалехвост, на миг зависала в ее тесном проеме и, прежде чем раствориться, всякий раз слегка поводила хвостом… Из дома напротив донеслось: "Яапущусь на дно марское-э-э… япадыму-у-у-усь… пад аблака-а-а…" Постоялец сдержанно улыбнулся и стряхнул пепел. Затем встал (голова его, конечно, пришлась выше висящей на шнуре лампочки), повернулся, поставил ногу на подоконник (даже согнутая, она оставалась конечностью, способной перепрыгивать купола соборов) и попытался выглянуть в форточку… Да, он лихо поставил на подоконник ногу – в солдатском галифе с пуговицами по бокам, – и, глядя на эту ногу, глядя на его худую, видимо, привычную к рюкзакам и жесткой земле спину, я вдруг понял, что он молод, что он очень молод, – у меня даже горло перехватило… Но я попытался переключиться в так называемый практический регистр: он молодой, а комнатка маленькая… и… и… ну и что? "Можете женщин приводить, пожалуйста", – сказал я.
"Пардон?.." – он обернулся и со старомодной учтивостью наклонил голову. "Я говорю: можете водить знакомых, в том числе женщин.
Можете оставлять э-э-э… женщин на ночь…" Стоя так же, боком, он пару секунд смотрел на меня в полном молчании. Теперь очки совсем не мешали мне видеть его глаза. Да, теперь я четко мог разглядеть их.
Беда в том, что глаза были непроницаемы.
Он затянулся, кашлянул и очень тихо сказал: "Это возможно – убрать украшения? Видимо, у меня вытянулась физиономия. "Их немножко много…" – добавил он очень серьезно.
Я только что вбил последний гвоздь в мерзкую пепси-кольную собачонку. Новый жилец милостиво просек мою обескураженность.
"Простите… – он деликатно вздохнул. – Это все меня отвлекает…" От чего?! – чуть было не заорал я. Вместо этого мой рот проартикулировал: "Но порядок-то навести я все равно должен…" Но в тот же самый миг ядовитый – колючий, как рыбья кость, – крик был загнан в мою глотку, подавлен, проглочен: ты хочешь избавиться от меня!.. А это, между прочим, моя квартира!.. И хозяин тут пока что именно я! "Завтра – можно?" – политкорректно предложил жилец.
"Картинки снимете сами, – сказал я. – Чашки поставите на свою полку, в шкаф. Кактус – на помойку. Гуте нахт^5 ".








