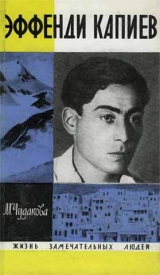
Текст книги "Эффенди Капиев"
Автор книги: Мариэтта Чудакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Надпись передала то горячечное, радостное возбуждение, в котором он живет сейчас. Надежды, еще неясные планы теснятся у порога, стремясь продвинуться к его столу. Он работает не останавливаясь, боясь обернуться на них, боясь дать себе волю, отдаться кружащим голову размышлениям о своем будущем. Он должен продержаться, должен дописать сначала одну, эту книгу – и потом уже!..
В марте 1941 года ему исполнилось тридцать два года.
«Господа, ему тридцать два года. Это, по Данту, середина жизни или около того. Это эра, когда в ту или иную сторону человека мутит». Так утверждает один из героев повести Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара».
Но, странное дело, его никуда не мутило. Напротив, все успокоилось в нем, устоялось. Ощущение удачи не покидало его. Трудное прошлое было позади, настоящее радовало, будущее волновало.
Все еще только начиналось.
Стояла середина его жизни. Жизни ему оставалось три года.
Часть третья
НАЧАЛО И КОНЕЦ
На Кавказе тогда война была.
Л. Толстой
I
В конце мая 1941 года Капиев уехал лечиться в Железноводск. Бессонные ночи кончились, он мог отдохнуть, заняться своим здоровьем, которое все ухудшалось. Там, в санатории, вечером 21 июня он выправил корректуру «Московского дневника», присланную из журнала «Молодая гвардия». Выходила из печати 5-я книжка журнала, в которой заканчивался «Поэт».
Утро 22 июня подвело черту под целой эпохой в жизни нашей страны, в истории всего мира и в личной судьбе каждого из его обитателей.
II
Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! Слова были новые, до края наполненные новой, ничем не смягченной прямотой и правдой.
Вчерашние песни о войне были веселые. Девушки и ребята пели их, возвращаясь с вечеринок, взявшись под руки.
Слова и музыка этой песни были другие.
Они ничего не обещали, но властно, требовательно позвали каждого.
Уходили на фронт, на смертный бой. Уходили молодые – из деревень, из городов, из Москвы и Ленинграда, с Урала и из Сибири. Составы гремели по огромной стране.
Уходили добровольцами немолодые отцы семейства, не подлежащие призыву, и отворачивались, отрывая от себя жен. Уходили защищать дом, детей, землю.
Хлопали двери, последний раз вскрикивали женщины.
О каждом таком прощанье и о том, что ждало этих людей впереди, можно писать отдельную книгу.
Как льдина, отколотая от прибрежного льда, кружась в сильном потоке, стремительно уходила вдаль, терялась из виду недавняя мирная жизнь. И даже вспоминать ее было некогда, невозможно.
«Я смотрел на мир, как в зеркало, – написал Капиев позже, – и мир был прекрасен, озаренный лучами солнца. Но вдруг померкло все, черная туча нашла на зеркало, и мир угас».
Не всякий из его современников видел мир таким озаренным. Но это был мир, и туча войны накрыла его.
Война была еще далеко от Кавказа. Капиева не брали на фронт из-за болезни, а он не мог сидеть в тылу. «Мои ровесники и друзья все на фронте, – писал он товарищу осенью 1941 года. – «На фронт! На фронт!» – кричу я и бью крыльями об стол… Тщетно! Военной специальности у меня нет, корреспондентов и без меня, видно, хватает, а в качестве рядового пока не берут: вернули до особого приказа…»
Пока Капиев по распоряжению Пятигорского городского комитета обороны выступал с чтением своих стихов в рабочих клубах, работал в возродившихся теперь «Окнах сатиры» – писал агитационные стихотворные подписи для карикатур на фашистов:
Так казалось…
Солнце, облака и птицы,
Мирно колосится рожь…
Отточив кровавый нож,
Переходит враг границу.
То-то, думает, сомну
В две недели всю страну!
Так оказалось!
Мы сухим держали порох,
Каждый колос стал штыком,
Грозным танком – каждый сноп,
Стали птицы «ястребками»
Над кровавыми врагами.
Каждый камень вместе с нами
Бьет фашистов в подлый лоб!
«Солнце, облака и птицы…» – это как будто дословно мирные картины из его «Поэта».
Реальность войны была еще неизвестна ему. Потому, быть может, снопы у него так легко превращается в танки, а птицы – в «ястребков».
В январе 1942 года он впервые выехал на фронт. Он был командирован в Ставропольскую кавалерийскую дивизию «для написания книги о ее героях и героических делах».
«Завтра едем на фронт, – записывал он. – Чувства такие: тревожное любопытство, уважение к самому себе и в то же время зависимость (или подавленность, что ли) оттого, что близится, втягивает тебя то самое неумолимое и неведомое чудище, что называется фронтом».
На том фронте, куда отправлялся Капиев, в эти дни настроение было приподнятое. Немцев только что выбили из Ростова-на-Дону; особенно отличились кавалерийские казачьи полки, в которые и ехал Капиев.
Потому, быть может, в письмах его – оттенок радостного удивления. «Здесь все иначе, чем я ожидал, – пишет он жене 26 января. – Такого спокойствия и задушевной дружеской атмосферы я давно уже не видал. По крайней мере, это ошеломляет. Но фронт есть фронт, и грозное дыхание его нет-нет да и коснется души…
Счастлив и радуюсь, что нахожусь здесь со всеми на фронте. Странное дело – он втягивает и манит. («Смертельное – манит», – говорили мудрецы)».
Он любуется кавалерией, участвует в ее маршах, пишет для нее песни. Ему кажется, что он уже «в самом пекле». Он видит убитых, раненых. Но слишком громко звучит еще в его письмах и записях самозабвение, увлечение, чистая радость профессионала, чувствующего себя «на месте»: «Каждая мелочь мне здесь дорога! Я не хочу возвращаться до тех пор, пока не почувствую, что напитался дымом и громом!»
Война еще только разворачивалась перед ним. Ее страшный лик еще только начинал ему приоткрываться.
«Все небо обложено тучами. Конца-краю не видно этой войне. Вот в чем трагедия». Так пришло к нему однажды и это понимание, в разное время настигавшее в тот год каждого.
Сильных оно делало холоднее и тверже, но старило разом на несколько лет. «А жизнь идет, идет… – записывает в эти же дни Капиев. – Кажется, я еще и не начинал жить, а уже близится ее конец. Что делать?»
Вернувшись в Пятигорск, он заболел. Сильнейшее обострение язвы не проходило больше месяца. Потом он поднялся, поехал по станицам – рассказывать о том, что видел на фронте. Он обнаруживал в себе оратора. Он сам с удивлением замечал, как с силой прижимал вдруг ладонь к груди, резко вскидывал брови, меняясь в лице. Замечал он это, лишь ощутив мертвую тишину, повисавшую в зале.
Он говорил им: «Я горец. Теперь напоминают мне об этом…» Он говорил: «Мои и ваши предки…» Он напоминал о старинной вражде и об изгладившихся воспоминаниях, о своей судьбе, ставшей для него символом судьбы его народа.
– Я забыл, что я не русский, хотя на лбу моем написано это, – говорил он. – И думаю, и говорю, и пишу по-русски.
Перед ним сидели разные люди и по-разному слушали его. Он призывал их к стойкости. Враг близился к Кавказу. В августе 1942 года он подошел вплотную к предгорьям.
Армия уходила из Пятигорска, за ней вместе с тысячами других ушел с рюкзаком за плечами Капиев. Семья его осталась в городе.
5 августа он начал третью записную книжку, озаглавив ее: «Эвакопуть». Более двух недель отступали беженцы к Дагестану. Люди падали вокруг, умирали от солнечного удара. Трактора запахивали в землю небывалый в эту осень урожай. Ревели стада. Стояли покинутые людьми сакли.
«Не знаю ничего страшнее этого бурьяна – колючек. Ими зарос весь аул, все его улицы. Дома пусты, дворы пусты. Народ, бросив его, ушел куда глаза глядят».
Силы кончались, мучили боли в желудке, но он все писал. Он видел такое, что считал не вправе забыть. Он чувствовал себя свидетелем на будущем страшном суде – в любую минуту безмерной усталости, ужаса, жалости.
Начинался Дагестан. «Хасав-Юрт. Лежал два дня, не в силах шевельнуть пальцем, под деревом в саду. Ветер. Деревья гнутся долу. Все шумит, качается. Унылое, странное настроение. В этом ветре прямо над головой пролетают качающиеся самолеты…
…Еле ковыляя ногами, прохожу во двор. Здесь штаб особого отдела. Допрашивают перебежчика – заросший бородой, задумчивый боец, охраняемый конвоем.
Потом я его вижу плачущим, опустив голову в колени, в углу двора.
Вечер. Арестованный, лежа на лохмотьях вниз лицом, притих – то ли задумался, то ли что… А часовой, приставив винтовку к стене, играет на баяне задушевно рыдающий мотив. Вечер. Особоотдельцы кто где, разбрелись по двору, палисаднику.
– Ой, не играйте, не играйте, умоляю вас, не то я заплачу! – (Это говорю я.)
Часовой, перестав играть, облегченно вздыхает и улыбается. Глаза его задумчивы».
21 августа утром путь его окончился. Он был в Махачкале.
«21 утром. Махачкала. С вечера до утра на платформе. Ветер. Звезды. Луна. Душа рвется на простор. При свете звезд разбитый санитарный эшелон, бинты, трупы, обгорелые остовы». Война подходила уже к Грозному.
Мучась от тяжелых приступов болезни, Капиев поехал в Буйнакск – в отцовский дом. На фронт его снова не брали. Полтора месяца он лежит больной. А в середине ноября выезжает на фронт как корреспондент «Дагестанской правды».
В газете скоро появились его очерки – о казачьих частях; подборка писем немцев с Кавказа.
И снова он доволен своей судьбой. Снова вернулось неизменно необходимое ему ощущение «правильности» выбранного места и дела. «Судьбой своей я очень доволен и благодарю вас за то, что вы доставили мне возможность находиться здесь в эти трудные дни», – пишет он секретарю редакции газеты А. Назаревичу, который помог ему выехать на фронт в качестве корреспондента.
…Когда читаешь его письма этих лет, не покидает мысль о том, какой огромный запас внутренних ресурсов был отпущен этому человеку. Радостное возбуждение владеет им, кажется, чаще, чем все другие настроения, вместе взятые. Апатия, депрессия ему будто вовсе не знакомы. Он находится в каком-то деловом союзе с действительностью – всегда, неизменно, какие бы ужасы вокруг ни происходили.
Такой настрой души служит обычно неиссякаемым источником деятельной энергии. Отчаяние, и ужас, и боль, и тяжелый страх за жизнь близких, конечно, знакомые таким людям не менее, чем всем другим, таинственным образом оставляют какую-то существенную часть их души ненарушимой. Ничто, кажется, не останавливает их разбега, не сковывает сил, не отнимает жажду действия.
«Ну, Саша, мне посчастливилось! – писал Капиев во втором письме Назаревичу. – Такие события и грандиозные картины – их не забыть всю жизнь. Как счастлив я, что становлюсь их свидетелем и участником. Единственное, что днем и ночью гложет и сосет мое сердце – это дума о моей бедной семье, – но я ко всему привык. На миру и смерть красна. (Она красназдесь вообще…). Эффенди.
P. S. На днях я кричал во сне и разбудил соседей. Снилось, что в дымящихся развалинах кто-то дал мне консервную банку со словами: «Вот ваш сын». Я вскрыл банку – там были две высохшие шкурки».
Тоска о семье, о маленьком сыне мучает его неотступно. Он все еще ничего не знает о их судьбе. Армия наша еще только движется к Пятигорску. «…Сегодня в полночь я проснулся от слезной любви к моему сыну. Сын мой! Единственный, неповторимый, жив ли ты?»
Он все больше и больше записывает.
«Запоминай, Капиев! – приказывает он себе. – Броди, смотри и запоминай, ибо все, что творится сегодня, неповторимо: никогда, никогда больше не будет на земле ничего подобного».
Война поворачивалась к нему все новыми ликами. И живое, мучительное сочувствие к людям не остывало в нем. Он ни к чему не притерпелся. «Мальчик лет двенадцати, весь в заплатах. Из эвакуировавшейся ремесленной школы. Заблудился, застрял здесь, в станице. Станица занята немцами. До родного села, где его мать, сестры и брат, осталось отсюда километров шестьдесят (до Червленой). Здесь, в Ищерской, бои шли четыре месяца, и мальчика кормила бедная женщина, у которой и своих детей мал мала меньше пять, и четыре месяца мальчик жил надеждами вернуться домой, как только кончатся бои и можно будет идти дальше. Но вот бои кончились. Мальчик ушел. Несколько дней его не было. На четвертый или пятый день вернулся обратно, плача. (Он стоял в огороде и плакал в туманный, дождливый день. Его привела хозяйка.) Оказывается, мальчик был дома и никого там не застал. Ночевал в развалинах своей хаты. Вернулся обратно, потому что теперь ему некуда деваться. У него нет на свете никого, кроме этой женщины. Женщина дает ему фасоль. Он ест и плачет…» (Все это пишется теперь без черновиков! Война учила находить точные слова с первого раза.)
Вот Капиев приходит в полевой госпиталь. На один из столов кладут в это время рослого чернобородого грузина. Осколками мины у него разбиты оба колена. Четы ре дня он лежал на поле боя, пока не привезли его в госпиталь. «Симпатичный простой крестьянин с белыми зубами и с милым грузинским акцентом. Он лежит на спине спокойно, поглядывая на потолок и изредка облизывая запекшиеся губы. Ноги его забинтованы вместе поверх ватных брюк, очень неуклюже, и он, видимо, не владеет ими.
Сестра разрезает бритвой хрустящие от засохшей крови штанины и освобождает его колени… Обнажаются раны. Но что это был за ужас! Раны на обоих коленях поперечные, словно глубокие удары топора, и мясо вокруг уже начало гнить. Несет нестерпимым запахом падали. Это «ГГ». как говорят врачи, то есть газовая гангрена. Больше никогда уже грузин не пойдет своими ногами… Раны изнутри проросли каким-то зеленовато-табачного цвета мхом. Сестра выскабливает этот мох из глубины ран – больной бледнеет…
– Дайте ему воды! – приказывает врач. Тогда больной оживляется.
– Вада ни нада, – шепчет он с трудом, – дай, по жалуйста, кусок хлеба…
Выясняется, что раненый уже шестой день ничего не ел.
Я смотрю, как жадно ест он, лежа на операционном столе, кусок черного хлеба, не обращая внимания ни на что… Гляжу я, как жадно, ничего не подозревая, ест он хлеб, и представляю этого милого, простодушного горца безногим, передвигающимся по улице на деревяшках, чем-то напоминая тумбу, которой трамбуют мостовые, – и мною овладевает ужас… Нет, писателям все-таки нельзя смотреть вплотную в лицо войны…»
Война влекла за собой. Он сам давно уже стал частью происходящего; он чувствовал себя «песчинкой в мировом вихре» и все чаще возвращался в своих записях к этому ощущению. Это был уже Другой, совсем другой человек, чем тот, что читал лекции на агитпунктах осенью 1941 года. Что-то менялось в нем – тяжело, необратимо. Эти перемены самому ему еще не уяснились. Фронтовые записи поневоле были коротки и поспешны. Они уже не вмещали ни увиденного, ни происходившего в нем самом.
Подступал новый, 1943 год. К празднику в прифронтовую полосу приехали его земляки – артисты из Дагестана. Он слушал горские песни; тоска и радость слились в его сердце.
Вернувшись в хату, в записной книжке он подвел итог ушедшего года. Год этот не пролетел, не пробежал легкой поступью. Он прошел по нему всей тяжестью – как по каждому из его соотечественников.
Время снова показалось ему грозной силой, почти видимой реальностью. Он смирял себя перед ним – с усилием, с болью и неизменной готовностью.
«Здравствуй, Новый год! Как много надо мне тебя спросить, как много надо мне тебе сказать, но силы мои – не мои силы и язык мой – не мой, – прости-Прости мне, если я вхожу под твои дымные, озаренные пожарами своды по-прежнему грешным, по-прежнему маленьким и бедным.
В небесах торжественно и чудно.
Спит земля в сиянье голубом…
Где? Когда?
Величавое, великое мое время! Благодарю тебя за все!..
Как ясно, как страшно отчетливо я тебя чувствую. Ты идешь колесом через меня, и кости мои трещат под твоей ледяной поступью… Иди, иди!.. В конце концов так мне и надо: не будь слабым!..
О Новый год, облегчи мои страдания; разряди мою черную тоску, сделай со мной что угодно, только не дай мне бесславной смерти.
Великая и трагическая эпоха моя, тебе нет дела до песчинок, когда океаны вышли из берегов…»
III
Портфели наполнены материалами и приготовлениями к работе – когда-то, может быть, возможной, может быть, никогда.
В Одоевский, Записная книжка
Медленно, с тяжелыми боями армия подходила к его дому. «У меня переживания, как перед смертельной операцией. Близится Пятигорск».
9 января 1943 года. «Вот он, Орджоникидзе! Морозным солнечным утром мы мчимся по шоссе к городу. Нет слов выразить величие и красоту этих гор!.. Здравствуй, добрый, здравствуй, прекрасный Кавказ!» В этот день газета Северо-Кавказского фронта «Вперед, за Родину», в редакции которой Капиев состоит в должности «писателя в отделе фронтовой жизни», печатает его очерк «Дорога вперед».
Через двадцать шесть лет его жена Н. Капиева написала об этих днях: «Ранним морозно-туманным утром 11 января, вместе с первыми подразделениями вступивших в город бойцов, он был в Пятигорске. Редакционная машина остановилась у ворот Лермонтовского домика (накануне ухода из города Капиев переселил семью в служебное помещение музея – жена его работала там. – М. Ч.). Мы встретились после пяти страшных месяцев. Мы были живы. Маленький золотоволосый сын с молчаливым восторгом смотрел на отца, на его фронтовых товарищей.
Слезы… Объятья… Расспросы… Бессвязные ответы…
Это было счастье».
В Пятигорске ему привелось увидеть такое, чего он не видел и на фронте: бесконечную вереницу гробов на плечах людей, и среди них – детские гробы. Это были похороны жертв гестапо.
Потом он увидит в Краснодаре раскопанные рвы с тысячами убитых, увидит, как вытаскивают труп голой женщины с грудным ребенком в пеленках на руках и с уцепившимся за ее левую руку трехлетним мальчиком… Но в Пятигорске он многое увидел впервые. В его блокноте есть запись, которая теперь поражает уже не смыслом своим, не прямым содержанием, а чем-то другим. «В Пятигорском гестапо была машина, которую называли «пекарней». В нее сажали приговоренных к смерти и, закрыв герметически, отвозили к месту, где ждали их ямы. Люди задыхались отработанным газом, и на месте выгружали трупы».
На этой записи невольно задерживаешься. Как всегда, Капиев сух и обстоятелен. О том, что он пишет, теперь, спустя более четверти века, мы знаем бесконечно больше, чем он. Что же задерживает наш взгляд? И вдруг понимаешь: дело в том, что перед нами зафиксированный на бумаге момент, когда кто-то услышал об этом впервые! Момент, когда человечество еще жило с ощущением этих фактов, как единичных, когда оно еще только начинало узнавать о фашизме то, что раскрылось перед ним в последующие годы. И тяжесть факта, ставшего известным Капиеву и зарегистрированного им, будто многократно увеличена всем тем, что ему еще неизвестно.
Скоро Капиев снова отправился в свою редакцию – в Краснодар. Он все время выезжает во фронтовую полосу – в это время, в апреле и мае. идут страшные бои под Новороссийском. «…За последние две-три недели испытал и видел очень много – хватит на всю жизнь! Дважды был в самом пекле и понял, что значит смертная тоска. Однако то, что предстоит сейчас, по всему видимому, еще хлестче», – пишет он домой. «Послезавтра еду снова под Новороссийск… Хочу быть на фронте, пока не завершится этот этап».
Он «принципиально», по собственному его выражению, оставался рядовым. Ему не раз предлагали аттестоваться на офицерский чин, но он неизменно отказывался. Так легче было сойтись с бойцами, заговорить с ними – сразу, без подготовки, в случайных обстоятельствах. «…Я не раз видел, – вспоминал его фронтовой товарищ, – как Эффенди в своей простой длиннополой шинели…с вещевым мешком за плечами садился с бойцами на завалинки, покуривал, разговаривал – все это очень просто. Они не замечали его, когда он останавливался послушать их спор или интересный рассказ. Другое дело – если подойдет офицер. Иногда его окликали – попросить спички… Но все же шинель без погон офицера – это наверняка кузов вместо кабины, это и необходимость встать вместе с бойцами, когда появится даже младший офицерский чин, – неудобно же сидеть, как на «гражданке», нарушая общий порядок, – это и грубоватый окрик шофера и прочее, и прочее. Как писатель, Эффенди находил в этом определенные выгоды для себя…»
Ему становилось между тем все хуже. Боли почти не утихали. В кузове, в котором трясся Капиев по дорогам войны, он часто лежал скорчившись, пережидая очередной приступ. Иногда по нескольку дней приходилось довольствоваться черными сухарями – для больного язвой диета убийственная. Очень редко удавалось выменять на что-нибудь спасительный стакан молока.
Но он ездит, смотрит, пишет. Каждый день он записывает – свои мысли, разговоры, переписывает письма убитых солдат, фиксирует разнообразные подробности поведения людей на войне. В этих поспешных, отрывочных записях люди, через день, быть может, уже убитые, получали второе существование, начинали свой долгий путь во времени. Судьба у них была общая; говорили же они разными голосами. «Боец-разведчик Шейхов, лезгин, пишет письмо своей жене, мучительно думая, уединяясь. Оказывается, он все выдумывает ласковые слова, ласковые прозвища своей жене, ибо это единственное, что он еще может послать в подарок ей отсюда, с этих суровых, пустынных кладбищ, – ласка.
«Душа моя, свет мой, слеза моя!»
«В кармане убитого сибиряка, когда искали смертный медальон, нашли письмо:
«Женушка моя, Анна Дмитриевна, детки мои, Наденька, Колюшка и Володенька! Получили приказ, идем вот в наступление, и меня, чую, убьют. Как мне передать, что я думаю о вас, родные вы мои, Анна Дмитриевна, о милых моих детушках Наденьке, Колюшке, Володеньке моем? Как передать? Пусть ветер, что дует отсюда, донесет до вас, колос к колосу наклоняется, колос к колосу, травка травке нашептывая, родные вы мои…»
Девушка, отчаянная разведчица («подстрижена под мальчика, чуб, бритый затылок, синее галифе…»), рассказывала ему о себе. Два года пробыв в разведке, она уже не мыслит себя вне этого. «Меня ранило, и уложили в госпиталь. Врач отбирает оружие. Я врача табуреткой. Я говорю: «Вы на разведчицу наскочили, сами не рады будете. Не дам оружия!» Взяла халат и в халате убежала в свою часть. Они, говорю, не лечат, а только уколы делают. Одежа вся осталась в госпитале, – я с пистолетом и в халате. Пускай говорю, черт с ней, с одежей.
Здесь воюют, а там скучно. Ох, люблю разведку. М-м! Все отдам! Ой, мамочки!
В халате этом я потом ходила в разведку зимой, он у меня вместо маскировки. Вот лежим на льду – у нас задание: минное поле разведать. Лежим под Таганрогом. Утром грохнула мина рядом. На рукаве моем кровь. Я молчу. Нельзя было срывать задачу. Оглохла, рука вся черная, и будто ничего не случилось, лежу с ребятами. Полтора месяца потом ничего не слышала… Ничего… У нас в разведке все равно ведь разговоров нет, все знаками объясняются».
Внимание его к тем, кого он делал «персонажами» своих записей, было живым, сострадательным. «Когда одному азербайджанцу, исхудалому, заросшему бородой, в грязной шинели бойцу, я сказал ласковое слово (кажется, назвал его братом и успокоил, что его, больного, не пошлют в атаку), азербайджанец вдруг заплакал.
«– Ай, спасиба, я матери своей напишу! Ты добрый человек…
И утирает слезу, беспомощный, как ребенок».
Записи были для него лишь материалом для будущих книг, но незаметно, быть может, для него самого перерастали в нечто большее. В них не было попыток выработать тут же литературный канон – что и оказалось потом особенно ценным. Они свободны в самом отношении к материалу, который автор не спешит деформировать, оставляет его пока «как есть», доверяя безусловной ценности всего увиденного – каким бы разным, несоединимым оно ни казалось. Он надеется разобраться со всем этим позднее.
Будущие книги он обдумывает, однако, уже сейчас. За два года войны самые разные планы сменились в его мыслях. Весной 1943 года он написал Роману Фатуеву: «Есть у меня и материала достаточно, и тем, и способностей, чтобы написать героическую грустную пьесу – но охоты нет!.. Ей-ей, я не обольщаюсь и не преувеличиваю своих возможностей. Первое действие я отмахал «шутя», в два дня, и с трудом укротил себя, чтобы не написать сразу всю пьесу. Зачем удержал? А все по тем же причинам – я сидел и горько улыбался сам над собою: ага, вот и способности есть, и талантишко не хуже многих, и уменье, и ум, а все-таки ты нуль, и никому ты не нужен, и твою пьесу не успеют прочесть в крайтеатре, как все полетит… Кстати, имея все возможности аттестоваться и ходить минимум майором – я принципиально остаюсь рядовым и хочу остаться таковым до конца войны… А планы у меня все-таки помимо моей воли уже оказываются выработанными. Я задумал грандиозную книгу, лихорадочно собираю материалы, ради материала этого терплю и мат, и шоферов, и трудную судьбу рядового, и часто (могу тебя уверить в этом), очень часто рискую жизнью и всем. Зато если повезет мне – то хоть старость моя будет озарена счастьем удачи…»
Он все еще готов начать Все сначала, готов заново отстроить свой разрушенный войною дом.
Все больше он склоняется к мысли о прозе – по-видимому, к своеобразной хронике войны. В 1943 году он объяснял жене: «Я хотел бы показать фронт и тыл, как видишь пейзаж из окна мчащегося поезда. Глаз охватывает и лица людей, близлежащие предметы – крупным планом, с деталями, – и даль огромного горизонта в его масштабности, – все в единстве, в беспрестанном движении, в смене фигур, событий, обстановки…» Быть может, это обилие впечатлений еще не выпускало его из-под своей власти и диктовало столь широкую форму. Быть может, позже книга приобрела бы совсем другие очертания, – и война рассмотрена была бы в ней менее масштабно и более пристально – все это осталось навсегда неизвестным.
Но он присматривался и к тому, что пишут вокруг, что печатают, что «хвалят». Как всегда, это не проходило для него бесследно. Осенью 1942 года он писал из армии Р. Фатуеву: «Читал ли ты в «Правде» Корнейчука «Фронт»? У нас здесь только и разговоров о пьесе: обсуждаем, спорим и «прорабатываем». Подобной чести не удостаивалась еще ни одна пьеса – быть целиком напечатанной в центральном органе партии. Положа руку на сердце, надо сказать: пьеса стоящая!.. Я, как никогда, поверил в драматургию и, коли жив останусь, непременно (так и знай!) напишу пьесу, – чем черт не шутит!..»
…Ему все хуже.
Как последние глотки воздуха, хватает он еще и еще один день на фронте. Как когда-то, в далекое довоенное время, он все ставит на карту и из последних сил, сжав зубы, прорубает, вися над бездной, дорогу в отвесной скале. «Задумал я грандиозную книгу. – пишет он с фронта А. Назаревичу в марте 1943 года, – и днем и ночью вот уже несколько месяцев занят «впитыванием» материала. Как подумаешь, какую махину придется переворотить, – аж дух занимает. Но, однако, пока храбрюсь, поставлю все на карту, а книга будет». Остаются уже последние метры. Скоро можно будет остановиться, отдышаться, сесть за стол, разложить свои блокноты и начать работу. Он верит, что книга будет. Таковы его мысли, его планы.
Тело его, однако, живет своей самостоятельной жизнью. В нем идет незаметная внешне, неутомимая, неостановимая разрушительная работа. Оно необратимо подорвано теми испытаниями, которые выпали за два года на долю еще совсем молодого, крепкого, физически сильного, но, однако же, тяжело больного человека. Лишь временно, внешне приспособилось оно к тем необычным и мучительным условиям, в которые ввергли этого человека его воля, мужество, крайняя целенаправленность.
Тело живет самостоятельной жизнью, но происходящие в нем изменения исподволь начинают влиять и на строй мыслей. Еще молодому человеку все чаще кажется, что он уже не молодой, а старый. Старость представляется ему не абстракцией – она наползает физически ощутимо и даже имеет свой ясно различимый цвет. Ее движение имеет свой ритм, он слышен сквозь полудрему и может породить странные, сами собой складывающиеся стихи.
27 мая 1943 года Капиев записывает: «Всю ночь шел дождь. Лежа на койке с закрытыми глазами, сквозь сон, сочиняю экспромт. Дождь льет и льет…
Встану ли утром – в молчании мудром
Меня встречает старость.
Выйду ль во двор – как стяжатель и вор
Мне путь преграждает старость.
Как это случилось, как это случилось,
Как это могло случиться!
Я уже не молод, я уже не молод,
Старость ко мне стучится.
Всю ночь, как луна сквозь прорези ставен,
Заснуть не дает мне старость.
Весь день, как на грудь навалившийся камень,
Дышать не дает мне старость…
…Я лежу и не сплю. И цвет старости сочится мне сквозь закрытые веки в глаза. Я его ясно ощущаю. Это цвет белого арбуза (есть такой особый сорт), цвет желтоватый, с черными семечками, в сердцевине которого идут белые вялые прожилки…
Этот цвет наполняет мне мозг, и я долго силюсь проснуться. Я просыпаюсь с тяжелым настроением и лежу на спине, не открывая глаз, слушая медленное, напряженное биение своего сердца… «Это старость», – думаю я».
Идут последние его военные дни, хотя самой войне конца еще не видно.
«Что можете вы еще сказать, писатели, о разрушениях? Вот станица Крымская. Столы опрокинутые, фикусы лежащие, сундуки, кровати, колодцы с ведрами, пробитыми пулями, подушка в грязи, железо, бурьян, битая черепица, горшки – что еще сказать?..
…Крымская. Котелки и автоматы на тутовнике. Тутовник зреет. Хозяев нет. Одни кошки ходят друг к другу в гости, живут на чердаках, одичали».
В июне он получает направление в краснодарский госпиталь, однако в последний раз отпрашивается еще на несколько дней на передовую – чтобы «хоть чем-нибудь обогатить свои впечатления»…
10 июня он лег в госпиталь.
«Я в госпитале. Сегодня третий день. Госпиталь размещен на самом берегу Кубани, на северо-западной окраине Краснодара. Широкая спокойная река плывет мимо нас меж зеленых берегов. Отсюда, с балкона, прекрасный вид вдаль, на поля и кустарники, на далекие синие горы. Вечерами сплошной звон лягушек наполняет все…
Сейчас разлив Кубани – она разливается поздно, когда в горах начинают таять снега…
…Удивительный вечер. Сидят на койках больные командиры в полутьме, при лунном сиянии, сидят, обняв колени, окруженные белыми простынями, и поют задушевным полным голосом – все до одного – тяжелую, задумчивую песню:
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном.
И кажется, нет и не существует ничего в мире в этот предвечерний час, кроме этой мужской, раздольной и широкой, тоски. Ах, когда она кончится!.. Поют раненые и больные, тихо покачиваясь в согласном, самозабвенном ритме. Их лиц не видать, да и не надо – тем плотнее и непреоборимее окутывает сердце печаль. Ах, война, война!..»
Снова на его глазах умирают люди – теперь на больничных постелях. Мысли уже не о старости, а о самом конце жизни все чаще посещают его.
«Вечером долго думаю о смерти, о самом мгновении, когда человек проваливается в смерть, как в черную пропасть. Потрясающе отчетливо и ясно понимаю, чувствую и представляю этот момент. Когда он наступит для меня, мне будет все повторением – настолько физически и психологически четко ощущаю я эту минуту, равную вечности, – отчаянием, бессилием, великим горем и воплем души».








