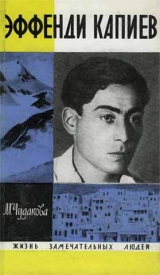
Текст книги "Эффенди Капиев"
Автор книги: Мариэтта Чудакова
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
В новеллах Капиева все подчинила себе гармония существования, счастливо достигнутая его героем. В жизни этого героя творческое напряжение и отдых от него уравновешивались естественным образом. Он мог бы сказать о себе словами Пришвина: «где другим труд – мне отдых, а где другим отдых – мне труд».
С книгой Капиева е нашу литературу вошел мотив и герой, никем не предвосхищенный и впоследствии не повторенный.
Герои всех тех писателей, у которых было нечто общее с литературной работой Капиева, прибегали к природе, к простейшим и естественным способам завязать с ней интимные отношения (охоте или рыбной ловле) как к некой разрядке. Обдуманно и сознательно они искали в ней благотворного отдыха от напряжения ума и воли. Это был не более как перерыв в их обычной жизни, тот отдых от темпов, необходимость которого ощущалась все острее (вспомним «советскую идиллию» – «увеселительную поездку скромной советской семьи за город, в Одинцово», – еще несколько лет назад такая тема, несомненно, вызвала бы не одобрение, а возмущение критики – как «демобилизующая» читателя). Это был кратковременный выход в иную сферу, быть может, более близкую к естественным условиям жизни людей, но давно уже существующую отдельно от них.
В новеллах Капиева возник человек, который жил одной жизнью с природой всегда, для которого другая жизнь была немыслима. Бытие для него не было поделено на независимые друг от друга сферы, а существовало целокупно. Человек этот был к тому же поэт. Его творчество порождалось не временным «общением» с природой и не освобождением от будничных забот, а изначально целесообразной и внутренне свободной жизнью.
Жизнь поэта была полна, в ней было все, что необходимо человеку, – привычный и неизнурительный труд, уединенное размышление, радость дружеского общения и сопричастности обшей жизни, спокойная созерцательность, необходимая для творчества.
Капиев желал сказать в своей книге очень многое. Затянувшееся свое молчание он спешил прервать целым потоком давно накопившихся в нем мыслей о творчестве, о времени, о судьбе поэта и о его долге. В книге возникла довольно стройная и последовательная система мышления человека тридцатых годов, чье сознание отличалось и от тех, кто был старше его на два или три десятилетия, и от тех, кто только сейчас, в шестидесятые годы, достигает его тогдашнего возраста. Эта система проступала и в том, как описывался старый поэт, и в непосредственно авторских декларациях. Книга несла на себе отчетливую печать времени, и это тоже нуждается в осмыслении.
Но через самые разнообразные наслоения с силой пробилась главная тема – тема поэта, оберегающего ценность своей внутренней жизни, того таинственного, невынужденного, естественного ее движения, которое рождает творчество.
XI
Весной 1936 года, за два года до начала работы над «Поэтом», Капиев сопровождал в Москву трех народных поэтов. Поэты ехали получать ордена. Это были лезгин Сулейман Стальский, кумык Абдулла Магомедов (родом из того самого аула Аксай, где в 1928 году учительствовал Капиев) и аварец Гамзат Цадаса.
Сулейману и Абдулле было по шестьдесят семь лет – хороший, достойный возраст. Гамзату было всего пятьдесят девять – немного маловато, но все же это был не юноша, с ним можно было разговаривать старикам; к тому же как-никак все они были поэты. (Сыну же Гамзата, оставшемуся в родном ауле Цада, было тринадцать лет. Никто не знал еще, что он тоже будет поэт – Расул Гамзатов.)
Старики сидели в купе на полках, скучали.
Посматривая в окна, они все удивлялись громадным пространствам годных для пахоты земель, невиданным в их маленькой, изрезанной горами стране. Это был хлеб, это был корм лошадям и овцам. Изобилие его их потрясало.
Главная же трудность путешествия заключалась для них в том, что говорить между собой старики почти не могли.
Все они принадлежали к разным народностям. Аулы их были удалены друг от друга – но не настолько, чтобы, собравшись, скажем, к другу в гости, нельзя было бы доехать на хорошей лошади за несколько дней.
Языки их народов были удалены друг от друга бесконечно больше. Добраться от одного языка к другому было им на старости лет делом безнадежным.
Правда, Сулейман, кроме родного лезгинского, знал еще тюркский, близкий к кумыкскому, и они с Абдуллой могли немного понимать друг друга. Аварец Гамзат не понимал их вовсе.
Капиев вежливо держался в стороне, не докучая старшим. Как обычно, с любопытством наблюдал он за стариками. В непривычной вагонной обстановке они не растерялись, не потеряли естественности своего поведения.
Как обычно, наблюдая, Капиев делал записи.
«Мы поэты, – говорит Сулейман, проваливаясь с верхней полки и попадая босыми ногами в чарыки, – а друг друга не понимаем. Ну-ка, Абдула, как ты поешь?
Абдула скромно улыбается. Гамзат ничего не понимает (он не знает тюркского языка)…
– Хо-хо, какое пространство занимает наше государство! А земли сколько!
Стальский (авторитетно):
– Это пустяки! Есть такие города, куда письмо три месяца идет. Едешь-едешь, конца не видно. (Можно подумать, что он не раз ездил…)
– Валла, большие села здесь! Каждое село больше, пожалуй, нашего Махачкала!
Сулейман долго стоит в коридоре у окна, затем приходит, обтирая лицо и шею платком, хотя никакого пота и нет.
– Скучно, – говорит он, – очень скучно. Туда-сюда, все одно и то же. И люди…
Забираясь на верхнюю полку:
– Что делать? – Чешет большой палец ноги. Он сидит, поджав ноги, как в чайхане. – В-вай, очень скучно!
Больше всего стариков интересуют посевы, поля. Они часто прерывают беседу, подходят к окну и часами любуются полями, покачивая в знак одобрения головой, щелкают языками при виде ровных бескрайных рядов копен. Розоватое поле люцерны их приводит в восторг.
– Тце-тце! Машалла! [9]9
Так восклицают, чтобы «не сглазить» чье-то благосостояние.
[Закрыть]– бормочет Гамзат. Увидев в окно нищих на перроне: – Что такое? Так много земли, а они голодают? Почему они нищенствуют, имея все?
Долго сидели и лежали старики на своих полках молча. Сулейман говорил лишь по-лезгински и по-тюркски, Абдула – лишь по-кумыкски, Гамзат – лишь по-аварски. Друг друга они не понимали. Я стоял в коридоре вагона у окна. Вдруг слышу оживленный разговор в нашем купе. Что такое? Ведь там никого, кроме стариков, кажется, не было, – кто там спорит? Вхожу – и что же? Старики, наконец, нашли, оказывается, общий язык – это был русский.
Сулейман.Абдулах, наш мест лучче или эта мест лучче? (Показывая в окна.)
Абдула(оставаясь лежать). Эта мест лучче.
Гамзат(взволнованно). Пачамо? Пачамо?
Абдула(вяло). Земля много ес. Пабрик, завод ес, машин ес, смотри.
Сулейман. Э, плоха! Наш мест лучче. Агорцы ес, памадур ес, яблук много ес – висо ес. Вада харош ес. Да.
Абдула.Агорцы, памадур эта места тоже ес. Испраси Габиб (так называли они Капиева. – М. Ч.), он знаешь.
– Да, да, – кивает Гамзат многозначительно.
Так на русском языке разговаривали старики всю дорогу, до Москвы. Правда, они больше молчали».
Таких записей, резко очерчивающих жест, характер, манеру говорить, сам фонетический облик ломаной русской речи, у Капиева немало. Старики горцы толпятся на страницах его записных книжек, явно тесня молодых.
Старость с ранней юности занимает мысли и внимание Капиева.
Друзья поражались, понять не могли, как он, молодой человек, глядя мимо ровесников, замечал вдруг старых, немощных людей, и радость сбегала с его лица, сострадательное внимание просыпалось на нем.
– Никогда не забуду, – рассказывал нам А. Гаджиев, – мы шли с ним по Махачкале, по улице Ленина, и услышали не то шепот, не то хрип какой-то. Оглянулись – старик-персиянин держит на темной, сухой ладони несколько папирос – продает.
– Бабрыз (папиросы), – говорил он тихо, как бы просыпаясь. Он был безучастен ко всему, жизнь в нем уже угасала.
Капиева это потрясло. Я увести его не мог от этого старика…
…Он присматривался к ним, стараясь понять, что думает и чувствует человек, жизнь которого прожита.
Подолгу беседуя со стариками, он удивлял умением проникнуть в их мир, глухой стеной отгороженный от молодости с ее здоровьем и надеждами, не знающими границ. (О двух мирах этих так написал когда-то Пришвин: «Нас, стариков, разделяет от молодых завеса прошлого, которая так висит, как висит кисейная занавеска в комнате. От нас изнутри к ним наружу видно, а от них к нам в комнату ничего увидеть нельзя». Капиев все пытался разглядеть, что происходит в этой комнате.)
Такое его свойство, может быть, обострилось тем, что это плещущее через край здоровье еще в юности оставило его. Ранняя и долгая болезнь окрасила его молодость необычным, незнакомым здоровым людям цветом. Она умеряла размашистость жестов, приучала с настороженным вниманием относиться к своему телу.
К болезни надо привыкнуть, что дается не сразу. В шумной компании человек вдруг умолкает, неизвестно к чему прислушивается и не слышит, что говорит ему разгоряченный собеседник. Болезнь бродит по телу, приживается в нем. Постепенно человек привыкает спокойно слушать собеседника, следить за своим лицом, чтобы оно не было напряженным от режущей боли под ложечкой, и даже давать разумные, обстоятельные ответы, думая при этом лишь об одном – о теплой грелке.
Болезнь уходит вглубь, человек приноравливается жить, не забывая о ней, но и не помня ежеминутно. Он только начинает вдруг замечать, что порою смотрит на самого себя с печалью и жалостью – как на другого.
Так Капиев еще юношей научился видеть свою молодость со стороны. Он следил, как утекала она из жил. Тайна смены одного возраста другим все более его притягивала. Мысли о старости очень рано появляются в его записных книжках. Старики знали ее разгадку. Он жалел и их, и себя, и всех других, кто неминуемо состарится. Какое-то грустное внимание к беспомощности стариков окрашивает многие сцены «Поэта». В словах Сулеймана о своей болезни, полных с трудом сдерживаемого отчаяния, слышно живейшее авторское сострадание.
«– Мною был бы полон этот сад, если б не эти мои ноги. Вай, вай, Межведиль, как мне быть! Столько, сколько один человек съедает за день хлеба, я съедаю лекарств, и все впустую… Мне стыдно, что я не молод!..
– Сулейман, – говорит старичок жалобно, – ты же был в этом, как его, Кисловодске. Разве Кисловодск тебя не вылечил?
– Дерево иногда растет в воде, Межведиль, но, когда время приходит, оно все равно сохнет. И доктора и профессора даже из Баку приезжают ко мне – ты же видишь. В Москве в самой первой больнице меня лечили, – но что делать! Я стал подобен ветхому бешмету: только заштопают карман, как уже прорвался локоть, только залатают локоть, как уже прореха на заду… Ах, где ты, моя сила!
– Не говори, Сулейман! – восклицает старичок беспомощно.
– Ветхому бешмету место в чулане, Межведиль. Иголка и нитка не помогут, что тут скрывать!
Старичок несколько минут напряженно смотрит перед собой и вдруг, расширив глаза (а в глазах этих застывшая скорбь и еле уловимая тревожная надежда), спрашивает:
– Слушай, Сулейман! Эти разные тракторы, электричество, аэропланы придумала наша Советская власть. Дай бог ей счастья! Неужели она не может придумать лекарства против смерти?
– Может, Межведиль, – отвечает Сулейман с сердцем, – может, конечно, все она может. Только надо подождать, а старость, видишь, не ждет. Больной торопится – яблоко зреет своим чередом!
И, сказав так, Сулейман скрещивает руки на посохе, как всегда, когда удручен. Старичок сидит неподвижно, часто мигая глазами и глядя перед собой. Его ленивого и глухого сердца, как видно, коснулись давно забытые думы и надежды, которых он теперь даже не в силах осмыслить. (Так иногда на старый и мшистый камень в саду на секунду опустится весенняя птица и, едва коснувшись его холода, садится рядом на цветущую ветвь)».
Читатель тех лет мог удивляться этим героям, которым отдал все свое внимание автор «Поэта», и с некоторым недоумением прислушиваться к их речи. Странные это были герои, и непривычен, неактуален был предмет медлительных их разговоров.
Еще здоровяки в туго натянутых майках били что есть силы по мячу едва ли не в каждой повести – с начала тридцатых годов и до самого их конца, наступившего в июне 1941 года.
В 1927 году в романе «Зависть» Юрий Олеша привел в нашу литературу героя-спортсмена, футболиста, ослепив читателя его молодым, легко и свободно двигающимся телом. «Косо над толпой взлетело блестящее, плещущее голизной тело». Описанию спортивных игр, самих движений спортсмена, рисунку его мышц, которыми он так прекрасно владеет, отданы в романе целые страницы. Молодость, наслаждающаяся здоровьем и спортом, плещет на страницах романа, сверкает в описаниях молодых героев и героинь.
«Кавалеров видит: Валя стоит на лужайке, широко и твердо расставив ноги. На ней черные, высоко подобранные трусы, ноги ее сильно заголены, все строение ног на виду. Она в белых спортивных туфлях, надетых на босу ногу; и то, что туфли на плоской подошве, делает ее стойку еще тверже и плотней – не женской, а мужской или детской. Ноги у нее испачканы, загорелы, блестящи. Это ноги девочки, на которые так часто влияют воздух, солнце, падения на кочки, на траву, удары, что они грубеют, покрываются восковыми шрамами от преждевременно сорванных корок на ссадинах, и колени их делаются шершавыми, как апельсины».
Эти страницы не могли не запомниться и потому становились влиятельными. Не боясь преувеличений, можно сказать, что с тех пор почти ни одно литературное место действия не мыслилось без натянутой если не посредине, так хоть где-то в сторонке волейбольной сетки, без взрывов молодого смеха и звона хорошо надутого мяча.
«Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.
«Хорошие свечки дает Картузик», – подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле.
Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Карту зика.
– Пасовать, – вполголоса строго сказал Картузик.
– Есть пасовать, – также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку».
Это из повести А. Гайдара «Военная тайна». Она была напечатана в 1935 году и хорошо передавала литературно-обшественную атмосферу, ее «температуру». Как всегда у Гайдара, литературная новизна повести не исключала широкого использования сюжетных мотивов, наиболее распространенных в современной ему средней беллетристике. И, как всегда у Гайдара, эти мотивы из литературного шаблона становились знамением времени.
Капиев шагнул далеко в сторону от этой уже сложившейся литературной традиции. В его новеллах читатель увидел стариков, одних лишь стариков – слабых и болезненных. Между тем старость давно была отодвинута на периферию литературы и, если можно так сказать, потеряла самостоятельное значение. Старик, в сущности, мог появиться в книгах тех лет разве что в гриме («Тимур и его команда», где в гриме репетирует роль старика молодой и вполне спортивный инженер Гараев) или в непрезентабельном виде безвредного чудака, оставшегося от старого режима и по ошибке природы задержавшегося в не принадлежавшем ему настоящем.
«Вот кому я не завидую – это старухам, – не понижая голоса, откровенно заявлял обычный зощенковский герой и рассказчик – «полупролетарий». – Вот старухам я, действительно верно, почему-то не завидую. Мне им, как бы сказать, нечего завидовать».
В рассказах Юрия Олеши старики для того и появляются, чтобы молодые указали им их настоящее место. Например: старик и молодой влюбляются в одну и ту же девушку, и она легко и естественно предпочитает молодого («Альдебаран»). Старики состязаются у него с молодыми лишь в таких ситуациях, где победа легко дается молодым, где энциклопедичность ума и старомодная тонкость чувств не спасают стариков, где они неизбежно выглядят смешными и жалкими.
У Капиева даже описание внешности стариков настраивало читателя на совсем иной лад. Оно как бы даже не вязалось с предметом изображения и, во всяком случае, резко выпадало из современной насмешливой и непочтительной литературной традиции.
Одна из новелл, «Земля», начиналась с описания героя, только что вставшего после тяжелой болезни. «После болезни так непередаваемо сладок и свеж этот мир. Чудесное утро!.. Сулейман стоит, выйдя за ворота, весь облитый солнцем, в шубе и опершись на посох. Он еще слаб. Исхудалая, тонкая шея его по-детски обвязана полотенцем. Пальцы руки бледны и нежны. Следы недавней трудной болезни еще не сошли с морщин лица». Уж не забыл ли писатель, о ком он пишет?.. Исхудалая, тонкая шея, пальцы рук бледны и нежны – все это, пожалуй, вполне могло бы служить для описания больного ребенка. А когда, например, автор описывает, как Сулейман держит ладонь козырьком над бровями, а рукава его нового бешмета просторны, и «при этом смуглая рука его обнажается до локтя» – это уже, пожалуй, черты портрета юной девушки, а не больного старика…
Старый поэт описан в новеллах Капиева с сострадательной нежностью – как ребенок. Более того – в его старости найден объект для поэтизации, для любования. Старость выглядит не жалкой, а трогательной.
Старики у Капиева не состязались с молодыми в любовных делах, а вели между собой медлительные разговоры на разные темы – в том числе о старости, болезнях и близящейся смерти.
Но смерть была еще менее желанной темой в литературе тех лет (что, как увидим далее, не осталось вовсе без последствий и для Капиева).
Смерть литературного героя наступала только от вражеской пули или, по крайней мере, от старых ран, но никак не от старческих немощей, как у большинства людей в реальной жизни. Она происходила наспех, и остающиеся быстро смыкали ряды. Таковы были каноны средней литературы. Долгая, на много страниц развернувшаяся смертельная болезнь главного героя в леоновской «Дорога на океан» воспринималась на этом фоне как неожиданность, как исключение.
Разговоры же о смерти считались вовсе непристойным занятием для литературного героя.
Еще в двадцатые годы один из героев Зощенко извинялся за то, что, тяжело заболев, всерьез заговорил с сослуживцем на «мелкомещанскую» тему смерти, стал просить, чтоб не сжигали его в крематории, а похоронили бы как обычно… И сам рассказчик извинялся перед читателем за своего героя, который под конец жизни так неудачно «свернул с героической линии».
В тридцатые годы смерть нередко становится материалом для пародийного, сатирического обыгрывания – и это, разумеется, верный показатель общественного отношения к этой теме, к тому, в каком обличье пристало ей появляться в литературе.
«Тут недавно померла одна старуха. Она придерживалась религии – говела и так далее. Родственники ее отличались тем же самым. И по этой причине решено было устроить старухе соответствующее захоронение».
«На этот раз позвольте рассказать драматический эпизод из жизни умерших людей.
А так как это факт, то мы и не позволим себе в своем изложении допускать слишком много смеха и шуток, чтобы не обидеть оставшихся в живых.
Но поскольку эта история до некоторой степени комична и смех, как говорится, сам по себе может прорваться, то мы заранее попросим у читателя извинения за невольную, быть может, нетактичность по отношению к живым и умершим». Так начинались многие рассказы Зощенко тридцатых годов.
…Будто условились считать смерть каждого человека его сугубо индивидуальным делом, не касающимся других. Литературные герои тех лет, убежденные атеисты в теории, на практике как бы руководствовались неосознанной верой в личное свое бессмертие.
В новеллах Капиева простейшие основания земного человеческого бытия получали свои права, автор не отворачивался от них, не пренебрегал ими как проблемами давно решенными. Величественная скорбь о быстротечности человеческой жизни разлита по всем его новеллам. С равным тщанием выписаны разные человеческие возрасты, и почтительным вниманием окружено движение человека по ступеням его жизни. И неуклонное наступление старости на человека теряет оттенок катастрофы, перед лицом которой можно лишь зажмурить глаза. Оно становится предметом спокойного и мужественного вглядывания. Важной становится мера достоинства, с которой люди переносят свою старость. Перед читателем «Поэта» проходят старики, впадающие в детство, ожесточенные старики, измученные и униженные ожиданием смерти, и старики, несущие свою старость с достоинством и мужеством и потому без смущения и страха заговаривающие об этом печальном обстоятельстве и с молодыми и с ровесниками.
«– Ах, молодость! Ушла ты, оставив мне в обузу эту шкуру старости. Стыд с ней!..
И снова тишина. В комнате темным-темно.
Но вот раздается хруст и легкое шуршание. Сулейман, видимо, меняет позу.
– Габиб! – говорит он с сердцем. – Жизнь неправильно устроена, мальчик! Почему так: человек рождается маленьким, ползающим на четвереньках, падает, встает, вырастает большим, наконец, окреп, пора жить – и на тебе! Оказывается, конец молодости! Человек рождается глупым, слепым, как щенок; делает в жизни множество ошибок, учится, видишь ли, исправляется, наконец, встает на ноги, и вот он цельный, зрелый человек, набрался ума, достиг мудрости, – теперь бы и жить, кажется, по-настоящему, не правда ли? Ан, оказывается, это уже конец, жизнь уже кончена, приходит смерть. Крепко я серчать хочу на такой порядок! Разве не разумней было бы наоборот: человек рождается старым, а потом молодеет, молодеет и чем больше достигает в жизни, тем больше молодеет, – чем медленней, пусть тем медленней, чем скорей, тем скорей, но молодеет, а не стареет! Вот была бы жизнь…
– Увы! – говорю я. – Это невозможно!
– Тце, – раздается в ответ немного погодя. – Тце, тце.
И я вновь не знаю: то ли утверждает Сулейман, то ли отрицает, то ли он огорчен, то ли удивлен…»
Но тема «возвращения молодости» не приобретает в устах Сулеймана и под пером Капиева того практического, прагматического направления, которое несколькими годами ранее вызвало к жизни уже упомянутую нами повесть Зощенко. Правда, и Зощенко заботила не старость сама по себе, а раннее притупление чувств и способностей человека, преждевременное изнурение его душевных и телесных сил – и именно от этой несвоевременной старости искал он рецепта, мечтая «задержать это страшное разложение и распад».
«Все прекрасно и даже величественно на свете, – писал он в комментариях к своей повести, как всегда, стремясь избежать откровенно резонерского тона и бросая на вполне серьезные, казалось бы, слова легкую тень извиняющейся авторской усмешки. – Все замечательно нравится. И все должно нравиться до последних дней, до самого последнего дыхания, до последнего туманного взора.
Как же это сделать? Как достигнуть этого, как сохранить свою юную свежесть и впечатления до конца дней?
Нет, автор не стремится жить до ста лет. Но он до ста лет желает сохранить свою юность и свою молодость».
И будто в ответ на эти страстные вопросы и притязания такая идеальная старость, сохранившая свежесть впечатлений и творческие возможности молодости, была воплощена Капиевым в его герое.
Такая старость не пугала, она была полноправна. Это был особый мир, заслуживающий внимания и пристального интереса.
Старость и молодость без конца смотрятся друг в друга в новеллах Капиева, вступают в состязание, исход которого отнюдь не предрешен.
Юноша-пастух приходит к Сулейману и приносит ему свои стихи (новелла «Белый город»):
На высоких горах
Олень танцует, —
Танцуй, моя молодость,
Пока нет старости.
Не конем, не птицей, —
Молодым поэтом
Дай пройдусь по земле,
Пока нет старости.
– Однако, – грозно спрашивает Сулейман, – «откуда ты знаешь, что старость так уж плоха? Старость, брат, не хуже молодости, коли хочешь знать. Где это ты слышал?…Ты меня спроси! Ты ведь не был стариком, откуда ты знаешь? А я был молод.
– …Да, да, – воскликнул Сулейман, – не думайте, что я шучу! Я совсем не шучу. Молодость – дикий конь, который… гм… гм… ну, что ли, топчет луг. Моло дость – это прыгающий по камням быстрый поток. Вот что молодость! «Шор-шор-шор-шор», а куда бежит, сам не знает. Нет, старость лучше! Старость мудра и для общества полезна. Старость имеет свои берега и течет плавно, не сворачивая с пути. Здесь-то и водится рыба, коли хочешь знать. Спорьте! Что ж вы замолчали оба? Спорьте!
– Хорошо, – сказал тогда юноша и встал. (Должно быть, он подумал, что Сулейман его экзаменует.) – Я отвечу. Может, рыба и водится в тихой воде, но мельницу вращает лишь быстрый поток – это молодость.
– Ого! Смотрите, пожалуйста! – удивился Сулейман. – А зато корабли по нему не плывут. Вот тебе! Мельницу может вращать и ветер. Молодость и ветер, оно и выходит одно и то же…
– Если молодость – ветер, не будь того ветра, и корабли старости стояли бы на месте. Ветер же двигает. Ветер – сила.
– Ну ладно, – прервал Сулейман. – Заладил о ветре. Отвечай, коли так: когда ты спишь, какая пора самая вкусная – вечер, или полночь, или утро?
– Безразлично, – ответил юноша, – сна не чувствуют.
– А вот и нет! – подхватил Сулейман. – Вот ты опять ошибся, юноша: утром сон вкуснее, когда тебя будят, когда надо проснуться, когда гудит сердце. Вот оно! Такова и старость. А вообще, конечно, сна не чувствуют. В этом ты прав. Я ж не говорю, что ты совсем не прав».
…Теперь такой «квалифицированный», виртуозный спор о сравнительных достоинствах старости и молодости, по-видимому, вызовет большее внимание читателей, чем то, на какое мог рассчитывать Капиев в январе 1940 года, когда писал эту новеллу. Только в последние десятилетия старость «дозрела» до размеров проблемы в мировом масштабе. Во всем мире люди живут все дольше – значит, все больше становится стариков.
И ученые разных стран вынуждены свидетельствовать, что старость все более утрачивает – в глазах большинства людей – свою общественную ценность, незаслуженно приобретая черты тайного и позорного недуга, который нельзя вылечить, а должно старательно скрывать его носителю и вежливо не замечать – окружающим. И потому к старости привлечено теперь внимание разных наук – прежде всего социологии и медицины, давно уже выделившей даже особую область – геронтологию. Однако они занимаются, так сказать, лишь технической стороной вопроса. Они не в силах привить обществу «осознанное одобрение», по терминологии одного из ученых, сущности старости, отношение к ней как к одному из вполне полноценных, имеющих самостоятельную значимость этапов человеческой жизни.
Эффенди Капиев провел и детство свое, и молодость среди горских народностей, развитие которых совершалось если не медленнее, чем развитие европейских цивилизаций, то, во всяком случае, не так «фронтально», не затрагивая всех решительно сфер бытия. Полнота жизненного опыта, доступная лишь старикам, все еще была неоспоримой в исполненной опасностей и постоянной борьбы с суровыми природными условиями жизни горца. Советы старших не были пустой заботой о престиже, а покоились на многовековом опыте поколений, все еще не «устаревшем», имевшем безусловную ценность.
«Осознанное одобрение» старости само собой, без полемической раздраженности, естественным образом вылилось из-под пера автора «Поэта». Желая постичь «душу своего древнего горского народа», он осмысливал внутренние законы этой жизни. Результаты этого оказались плодотворны: Капиев пришел в литературу не с пустыми руками – он принес с собой не расхожую, давно разобранную по рукам, а связанную с глубинными основами народной жизни систему ценностей, в которой во все времена нуждается литература, без которой она скудеет и засыхает.
Это была та жизнь, которую он знал и любил, те ценности, в которые он верил, которыми не хотел жертвовать. Потому, быть может, слова, над которыми мучился он по ночам за своим письменным столом в Пятигорске, не сгорели в легком пламени кратковременных диспутов, а спустя десятилетия разгораются вновь и излучают тепло серьезной и искренней человеческой мысли.








