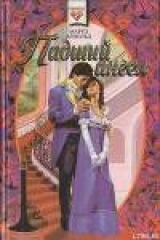
Текст книги "Падший ангел (Женщина для офицеров) "
Автор книги: Марго Арнольд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что заблуждалась. Наверное, в тот день я собственными руками разрушила свое счастье. Счастье, каким видел его он, счастье, которым мы могли бы наслаждаться по сей день. Не найдя в себе сил, чтобы собственной любовью победить возможные тяготы новой жизни, я навлекла на нас обоих страдания куда более страшные. Что ж, я всегда дорого платила за свои ошибки.
– Все это прекрасные мечты, дорогой, не более того, – сказала я спокойно, – и, наверное, ты не хуже меня знаешь это. Если бы ты был так же свободен, как и я, то я, не задумываясь, пошла бы за тобой хоть на край света, о чем тебе хорошо известно. Но ты не свободен и, видимо, навсегда. Так будем жить настоящим. Вероятно, это все, что нам остается. Нужно смириться с этим, и, пожалуйста, давай не будем истязать себя, стремясь к невозможному. Каждое мгновение, проведенное нами вместе, дороже золота, не станем же губить те бесценные минуты, которые нам еще отпущены, раздумьями о будущем. Оно нам не принадлежит.
Отвернувшись от меня, Дэвид вновь облокотился на парапет и опустил голову на ладони. Я постояла рядом, позволив ему некоторое время побыть наедине с самим собой, а потом мягко тронула его за плечо.
– Пожалуйста, Дэвид, не надо. Я не хочу вновь заводить разговор, который столь мучителен для нас обоих. Давай жить каждым наступающим днем, как делали это до сих пор. Хотя на какое-то время мы можем отрешиться от внешнего мира, и мне хотелось бы, чтобы это время длилось как можно дольше.
Он обернулся, взял меня за руку и зарылся лицом в мои волосы.
– Ах, Элизабет, я так люблю тебя, что не могу выразить это словами. Нет ничего, что я не сделал бы ради тебя, и я выполню все, что только ты пожелаешь. Но послушай, любовь моя, ведь ты никогда не будешь свободна от меня, как и я никогда не освобожусь от тебя, – что бы ни случилось, как бы далеко ни разбросала нас жизнь. Разве ты не чувствуешь этого?
Да, я чувствовала это, и мы целовались, целовались без устали, пытаясь уйти от боли, которая уже вошла в наши сердца.
Несколько дней спустя Дэвид пришел в веселом расположении духа и, обхватив меня за талию, воскликнул:
– Бери свой чепчик, женщина, и пойдем со мной! Мы отправляемся на прогулку.
– По какому поводу такая спешка? – рассмеялась я.
– Мне нужен твой маленький портрет, который можно носить на шее, и я нашел здесь неподалеку, в Рэе, человека, который такие портреты пишет. Что же касается спешки, то в последние дни я всегда спешу. Разве ты еще не заметила этого?
И он начал покрывать мое лицо поцелуями.
– Ах, Дэвид, – с улыбкой отстранилась я от него, – если речь только о маленьком портретике, то у меня здесь есть один такой.
Порывшись в ящике с драгоценностями, я нашла миниатюру, которую сэр Генри писал с меня в Маунт-Меноне.
Дэвид бросил на картинку критический взгляд.
– Недурно, – произнес он холодным тоном, и глаза его приобрели стальной оттенок. Он вернул мне портрет. – Но мне нужен мой собственный. Так ты идешь со мной или мне силой тебя тащить?
– Я пойду лишь в том случае, если мне, в свою очередь, достанется твой портрет, – надула я губы.
Его лицо расплылось в улыбке.
– Любая твоя прихоть для меня закон, если портретисту это под силу.
Миниатюрист оказался маленьким смешным человечком, почти карликом, с огромной головой, которая, казалось, вот-вот свалится с длинной, как стебель, шеи. Но, будучи подлинным мастером своего дела, он великолепно передал наши черты. Мы оба выглядели очень серьезно и торжественно, а Дэвид в своей строгой форме – даже сурово. Однако художник смог уловить главное и единственно важное – выражение наших глаз, когда мы смотрели друг на друга, позируя для него. Теперь, когда я пишу эти строки, два маленьких портрета лежат рядом со мною. Вместе с двумя простыми золотыми кольцами они – самое ценное из всего, что есть у меня в жизни.
В то время как я позировала для первого наброска, Дэвид осматривал лавку, поскольку художник оказался одновременно часовщиком и ювелиром. В конце концов он, кажется, нашел то, что искал, и принес мне эту вещицу, сжимая в кулаке. Когда он разжал пальцы, на ладони оказалось золотое колечко с маленькой печаткой, на которой было изображено рукопожатие. Дэвид торжественно показал мне внутреннюю часть ободка. Присмотревшись, я увидела выгравированную надпись: «Как были мы вместе при жизни, так будем и после нее» и пару инициалов – Э. К. и Д. К.
Миниатюрист обернулся, чтобы посмотреть, что там такое.
– А-а, вижу, вы отыскали колечко с девизом, – проскрипел он смешным фальцетом. – Очень старинное, должно быть, шестнадцатого века.
– А для чего такие колечки делались? – полюбопытствовала я.
– В старые времена ими, бывало, обменивались при помолвке, ведь тогда еще было не так много красивых камушков, как сейчас. А иногда их использовали и как свадебные кольца – вот в таких случаях на них и делали надписи. Потешные иной раз встречаются. Помню, как-то раз прочитал на одном кольце: «Господи, помоги нам обоим».
И он пронзительно закудахтал, что должно было означать смех.
Глядя на старого уродца, не удержалась от улыбки и я, но Дэвид был по-прежнему поглощен находкой.
– Не мог бы ты изменить инициалы и вписать дату? – спросил он.
– Это очень просто, – ответил старик. – Скажите, что вам нужно, и я все исполню в лучшем виде.
Дэвид сделал заказ, но названная им дата изумила меня – смысл ее был для меня непостижим. Он назвал 18 октября 1798 года.
– Почему именно такая дата, а не сегодняшний день? – удивленно прошептала я.
– Это дата нашей первой встречи, – невозмутимо отвечал Дэвид. – Она мне кажется весьма знаменательной, ведь с тех пор мы уже не были свободны друг от друга, не так ли?
Мне нечего было возразить. На сей раз он был, несомненно, прав.
Вскоре работа над миниатюрами и кольцом была завершена, и мы получили свой заказ. Портреты были заключены в медальоны черного дерева: мой – на толстом шелковом шнурке, Дэвида – на тонкой золотой цепочке. Мы торжественно повесили свои портреты друг другу на шею. И тут мне стало дурно от осознания простой истины: «Скоро, слишком скоро мне придется снять его, когда я пойду в объятия другого мужчины». Вынув из коробочки кольцо, Дэвид надел его мне на палец – в точности, как сделал бы это на бракосочетании.
– Сентенция на нем не отличается красноречием, – сказал он с затаенной грустью, – но я и сам не очень-то красноречив. Эти простые слова трогательны в своей наивности. И пусть будет так, как здесь сказано: в жизни и смерти неразделимы. Носи его всегда, любимая моя, – ради меня.
Я выполняю его просьбу.
Минул месяц – как я и опасалась, слишком быстро. Однажды утром я лежала в объятиях Дэвида, пальцы мои блуждали по следам его ран. Он был в полудреме, голова его покоилась на моих разметавшихся волосах. Как я любила эти мгновения – столь нежные и всепоглощающие, но вместе с тем проникнутые покоем!
– Дорогая, тебе обязательно нужно оставаться в Рэе? – сонно пробормотал он, зарывшись лицом в мои волосы.
– А разве тебе здесь не нравится? – прильнула я к нему.
– Не о том речь, но я подыскал коттедж в Гастингсе. Если бы ты перебралась туда, мы могли бы быть вместе каждый день и мне не пришлось бы набивать на мягком месте синяки, несясь галопом десять миль, – тихо засмеялся он, еще не проснувшись окончательно.
– Но разве тебе будет удобно, если на батарее узнают о моем существовании?
Дэвид лишь крепче сжал меня в объятиях.
– Любимая моя, разве это имеет для меня хоть какое-то значение? К тому же коттедж находится на Замковой горе, а батарея расположена за две мили от города. Им нет нужды знать о тебе, коли ты этого не хочешь.
– Здесь у меня полно вещей, – разволновалась я, – целый воз наберется. Представляешь, какая это морока?
– Никакой мороки. – Его голос был все еще сонным, но Дэвид уже начал просыпаться. Его руки шаловливо блуждали по моим грудям. – Мы можем раздобыть повозку и превратиться на один день в фермера с женой, приехавших в город на ярмарку.
Руки его играли все оживленнее, и мои глаза начал застилать розовый туман.
– Верно, можно сделать и так, – томно протянула я, и розовый туман скрыл от меня все, кроме нас двоих, слившихся, как всегда, в единое целое.
Итак, мы уложили все мои пожитки в большую крестьянскую телегу и тряслись в ней целых десять миль до Гастингса. Это была незабываемая поездка! Дэвид – вылитый деревенский парень в штанах до колен, холщовой рубахе и соломенной шляпе, сбитой на затылок, – ловко управлял повозкой, натягивая загорелыми мускулистыми руками поводья и нахлестывая по бокам ленивых лошадей. А я подпрыгивала на сиденье рядом с ним – ни дать ни взять фермерская жена в широком чепце и клетчатом хлопковом платье. И все же я была счастливее самой королевы. Искрилось море под сияющим солнцем, из-под колес поднимались белые клубы меловой пыли, а мы купались в лучах счастья.
Марта отнеслась к переезду без малейшего ропота. Мне думается, она восприняла его даже с некоторым облегчением, поскольку отныне была избавлена от моих капризов в те дни, когда Дэвид отсутствовал. Новый коттедж был далеко не так вместителен и красив, как тот, что мы оставили в Рэе, но он уютно примостился у стены замка. Гуляя там вечерами, мы смотрели на Пролив, в ту сторону, где на французском берегу жгла свои походные костры наполеоновская «Армия Англии» в ожидании приказа ринуться к британским берегам.
– Как ты думаешь, кончится ли это когда-нибудь? – спросила я Дэвида во время одной из прогулок.
Он пожал плечами.
– Пока Наполеон способен вести за собой армию, вряд ли Англия будет в безопасности. Когда-нибудь его сила будет сломлена раз и навсегда, но не думаю, что это время уже наступило, и молю Господа, чтобы у нас нашелся генерал подходящего калибра. Иначе нам конец.
От этого разговора мне стало не по себе, и я теснее прижалась к Дэвиду, желая в душе, чтобы он был кем угодно, только не солдатом.
Иногда наши прогулки продолжались до глубокой ночи, и я заводила разговор о звездах, демонстрируя познания, приобретенные за годы, проведенные в Маунт-Меноне. Часто я обнаруживала, что внимание Дэвида сосредоточено не на звездах, а на мне, и тогда начинала выговаривать ему. Крэн в таком случае непременно высказался бы в том смысле, что ему вовсе не обязательно разглядывать Венеру в небесах, когда существует Венера на земле, к тому же у него под боком. Дэвид же изъяснялся просто: «Уж лучше я посмотрю на тебя, любовь моя», – и лучше сказать не смог бы никто.
Дни – один прекраснее другого – бежали как песок сквозь пальцы. Приближалось время моего отъезда. С момента нашего памятного разговора на колокольне Дэвид ни разу не нарушил моего желания, и мы по взаимному уговору не говорили о будущем. Теперь я знаю, что мне все же следовало затронуть запретную тему.
И вот я вновь лежала в его объятиях, на сей раз чувствуя себя скованной и жалкой под грузом того, что мне сейчас предстояло сказать. Наконец я решилась.
– Дорогой, – прошептала я, – три месяца почти прошли. Скоро мне придется ехать обратно в Лондон.
Он прижал меня к себе.
– Так ли уж нужно тебе ехать? Раньше я старался не задумываться об этом. Я понимаю, этот коттедж не Бог весть что, но, как только вопрос с лейтенантством Ричарда будет решен, все несколько упростится, и тогда я смогу подыскать в городе что-то получше. Разлука с тобой будет для меня невыносима. Не сейчас, дорогая, умоляю, не сейчас.
Но что толку в мольбах? Я знала, что Спейхауз не будет ждать слишком долго и начнет разыскивать меня. И даже если бы я рискнула нарушить нашу с ним договоренность, оставшись здесь, как того хотелось Дэвиду, наша волшебная жизнь продлилась бы в лучшем случае не более нескольких лет, а в худшем – еще несколько недель. Рано или поздно, если не я его, то он вынужден был бы оставить меня, а с этим я не могла смириться.
К тому же была еще одна веская причина, побуждавшая меня к отъезду. Теперь я была вполне уверена, что жду ребенка от Дэвида. С самой первой ночи нашего любовного безумия я не применяла ни одного из тех средств, с помощью которых предохранялась на протяжении многих лет. Зная с самого начала, что мне придется потерять Дэвида, я в глубине души хотела, чтобы со мной осталась его частица, которую никто не сможет у меня отнять. Я желала ребенка – отчаянно, безумно, но не хотела, чтобы Дэвид знал об этом. Если бы он узнал, то никогда не избавился бы от чувства ответственности передо мной и ребенком, а ему и без того приходилось нести тяжелое бремя. Это был бы его ребенок, но он всецело принадлежал бы мне, и я сама взлелеяла бы наше дитя – живое свидетельство моей первой, последней и единственной любви.
В ответ на все его мольбы я непреклонно качала головой.
– Помни о нашем уговоре, дорогой. Свободной я пришла к тебе, свободной и уйду. И ухожу я не потому, что мне так хочется, а потому, что вынуждена. Ты единственный мужчина, которого я люблю и буду вечно любить, единственный, кто значил и будет значить все в моей жизни. Теряя тебя, я теряю половину самой себя, и, пожалуйста, не заставляй меня страдать больше, чем я уже страдаю. За эти три месяца мы испытали счастье большее, чем то, которое выпадает на долю большинства людей за всю их жизнь. Но мы не в праве надеяться на то, что все это будет длиться вечно, – так уж складывается наша жизнь.
– Я не говорю, что мы никогда не встретимся вновь, – продолжала я, – это было бы слишком неправильно и жестоко, но сейчас у меня, как и у тебя, есть обязанности, от которых никуда не уйти, и я смогу их выполнить лишь в том случае, если избавлюсь от постоянной мучительной потребности в тебе. Ты должен дать мне слово, что по меньшей мере год не будешь разыскивать меня. После того, как боль разлуки немного утихнет, мы могли бы возобновить отношения, которые поддерживали до моей поездки в Рэй. Если, конечно, это возможно.
– Неужели ты в самом деле думаешь, что это в наших силах? – Глаза Дэвида потемнели от боли. – Что мы можем быть вместе, но не быть любовниками?
– Что делать, если так складываются обстоятельства, – вздохнула я. – Это наверняка лучше, чем никогда не увидеться вновь, разве не так?
Говоря это, я вполне отдавала себе отчет в том, что не права, хотя он и дал горькую клятву неукоснительно выполнить мою волю. Я приняла твердое решение, и все же где-то в глубине души мелькала мысль, не совершаю ли я жестокую ошибку.
Приближался конец октября. Погода и воды Пролива стали серыми, совсем как наше настроение в преддверии близкой разлуки. Дэвид был более тих и сдержан, чем обычно, а Марта, видя мою подавленность, однажды, когда мы были наедине, все же решила высказаться.
– Почему бы вам не остаться, коли он того желает? Если вы беспокоитесь насчет Спейхауза, то Джереми придумает что-нибудь, чтобы отвадить его от вас. Оставайтесь же и ловите свое счастье, пока оно дается вам в руки.
В ответ я скорбно покачала головой.
– Это бессмысленно, Марта. Агония неизбежна, и, если я не покину его сейчас, рано или поздно наступит Время, когда он будет вынужден покинуть меня, а я этого не вынесу.
О ребенке я ей пока ничего не сказала. Марта посмотрела на меня с похоронной серьезностью.
– Любовь и гордость – плохие попутчики, – сурово возразила она, – и от своей гордости вы пострадаете больше, чем от любви.
– Ничего-то ты не понимаешь, Марта, – произнесла я устало, – а потому давай-ка закроем эту тему.
И все же, думается мне, она меня отлично понимала.
Я обманула Дэвида, сказав ему, что уезжаю в субботу. В действительности я собралась покинуть город на день раньше. Я страшно боялась момента прощания, а потому решила бежать тайком. Я направила Джереми секретное послание с просьбой прислать за мной карету. Вместе с экипажем от него прибыла записка, в которой говорилось, что по прибытии я должна ехать прямиком к нему, поскольку у него для меня есть важные новости.
В нашу последнюю ночь – ночь невыразимой печали – я всецело отдалась порыву необузданной страсти, едва Дэвид попал в мои объятия. И когда он уснул, утомленный моими исступленными ласками, я продолжала изо всех сил прижимать моего любимого к себе, стараясь запечатлеть в памяти каждую его черточку. Я мечтала умереть, как вакханка после оргии, однако знала, что столь легкий уход из жизни не для меня. Страдания казались невыносимыми, но мне тогда было невдомек, что это только начало настоящих мук.
Наступил день, и Дэвиду было пора возвращаться на батарею. Я, как всегда, нежно попрощалась с ним, но, произнося свое обычное «прощай», не позволила себе пролить ни единой слезинки. Он уехал, а я села за прощальное письмо, чтобы излить всю свою любовь к нему, всю печаль. Я клялась в вечной любви и напоминала ему о его обете. Во мне теплилась надежда, что когда он оправится от первого удара в связи с моим отъездом, то поймет: так лучше для нас обоих. Выводя строки прощального послания, я всей своей израненной душой чувствовала, какое горе меня постигло.
В то время как я писала, Марта с угрюмым видом укладывала вещи. Она не одобряла моего поступка, причем и не думала скрывать этого, но что мне было за дело! Ведь именно мое, а не ее сердце сейчас разрывалось на части. Наконец все дела были завершены, и я в последний раз затворила дверь – за своей жизнью, за своим счастьем – и села в карету. Сквозь тронутые осенним багрянцем перелески Суссекса она повезла меня к теням и призракам, которые поджидали меня в Лондоне. Я проплакала всю дорогу.
14
Все еще рыдая, я явилась к Джереми, который, как всегда, хорошо подготовился к встрече, приготовив для меня кипу носовых платков и грубоватые утешения. Однако он не смог вытянуть из меня ничего, кроме всхлипываний, а Марта, уподобившись ледяному обелиску, продолжала молчаливо выражать недовольство всем происходящим. Поэтому ему не оставалось ничего иного, как уложить меня в постель, заставив перед этим выпить полный бокал бренди, а самому набраться терпения в ожидании лучших времен. После всех треволнений бренди сразу же подействовал на меня, и я уснула глубоким сном. Мне снилось, что все тревоги позади и я вновь нахожусь в нежных объятиях моего Дэвида.
Следующий день вернул меня к действительности, и первым, кого я увидела, был Джереми. Мягко ступая, он вошел ко мне, едва Марта доложила ему о моем пробуждении. При виде его на моих глазах тут же выступили слезы, но он твердо остановил меня:
– Нет, Элизабет, у тебя нет времени на скорбь.
И затем, присев ко мне на краешек постели, стал рассказывать:
– Уже целую неделю Спейхауз не слезает с меня, требуя раскрыть твое местонахождение. Кажется, он в очередной раз принял новое решение. Его жена совсем недавно вернулась к себе на север, вот он и решил, что теперь ему нечего опасаться, а потому желает, чтобы ты отправилась в его дом на Гросвенор-сквер. Он уж совсем было собрался в экспедицию за город на твои поиски, но мне удалось отговорить его, сказав, что сейчас для этого неподходящий момент, так как ты переживаешь утрату близкого человека. Мне такое объяснение показалось весьма удачным, поскольку в ближайшем будущем оно поможет снять вопросы о причинах твоего дурного настроения. Приготовься при встрече услышать от него соболезнования – он ведь, как тебе известно, человек неплохой. Чем скорее ты поедешь к нему, тем лучше. Короче говоря, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Пойми, Элизабет, Прескотт уже в прошлом, а у тебя только один путь – вперед.
Мне с трудом удалось сдержать себя.
– Ты на удивление жесток, – сказала я ему, стараясь, чтобы голос мой звучал ровно. – Должно быть, легче живется, когда у тебя совсем нет сердца. Ты дергаешь за ниточки, и марионетки танцуют – вот твой идеал счастья, не так ли? Какое тебе дело до их чувств, когда речь идет о точном выполнении твоих блестящих планов? Если бы я столь глубоко не презирала тебя, то наверняка позавидовала бы твоему олимпийскому спокойствию.
Внезапно он проказливо ухмыльнулся.
– Ты права, Элизабет. Давай, нападай на меня, поддай мне жару. У меня шкура толстая – все снесет. Только не делай того же со Спейхаузом, а то он, не ровен час, рассыплется в прах от испуга. Так что, в самом деле, прибереги-ка лучше свои проклятия для меня.
– Если бы я не боялась, что это будет иметь неблагоприятные последствия для Дэвида, – сказала я, кипя от злости, – то расстроила бы сделку только ради того, чтобы посмотреть, как ты будешь выпутываться из положения. Но пусть не болит об этом твоя злокозненная голова – я пойду куда надо. И уверяю тебя, Спейхауз получит от меня такие нежности, что больше моего обрадуется, когда истекут оговоренные три месяца. Заруби это себе на носу.
Джереми вновь обрел свою обычную холодноватую манеру, голос его звучал спокойно.
– Дело твое, Элизабет. Меня мало волнует, почему ты собралась вымещать злобу на человеке лишь за то, что он любит тебя.
– Любит! вновь взорвалась я. – Да что этот Спейхауз знает о любви?
– Лишь то, чему научила его ты, – грустно ответил Джереми. – Бедняга… Взяв его в оборот, ты открыла ему глаза, показала мир, в существование которого он не верил. И ты не можешь винить его за то, что он до сих пор ожидает от тебя рая, пусть ты в одночасье и превратилась из ангела в дьявола. Хоть я и люблю тебя, Элизабет, а все же не могу забыть, что каждый шаг в этом деле сделан по твоему настоянию, а потому, если я и могу сочувствовать кому-то, то в данном случае мои симпатии на стороне Спейхауза.
Его слова несколько отрезвили меня, хотя и не облегчили терзавшую меня боль.
– Если я отправлюсь к нему на Гросвенор-сквер, то как быть с договоренностью насчет моего дома?
– Я продлил договор о его аренде еще на три месяца, – оживился Джереми. – За это время расходы на дом вполне окупятся, а потому нет никаких причин для беспокойства. К тому же Спейхауз готов взять на себя расходы по содержанию Марты как твоей служанки, а также держать для тебя личный экипаж. Когда я могу сообщить ему о твоем приезде?
– Я и сама могу поехать к нему, – ответила я ледяным тоном. – Можешь не беспокоиться, я не задержусь под крышей этого дома ни на секунду дольше, чем требуют дела.
Я медленно оделась и пошла к карете, где по-прежнему лежали тюки с моими вещами. Мое прощание с Джереми не обошлось без пары резкостей. В скверном настроении я проследовала к дому номер 12 на Гросвенор-сквер. Дверь открыл слуга, которому я властно приказала проводить меня к хозяину. Однако, услышав мой голос от парадного, Эдгар выскочил из кабинета и сам сбежал вниз встретить меня. На его бледных щеках выступил румянец волнения, а в словах приветствия было так много счастья и заботы, что лед неприступности, которую я напустила на себя, не мог не оттаять. А из его выцветших глаз едва не лились слезы сочувствия. Он провел меня в гостиную так бережно, словно я была инвалидом, едва оправившимся от долгой и опасной болезни. Усадив меня, Спейхауз буквально рухнул передо мной на колени и, нежно взяв за руку, принялся изливать соболезнования по поводу постигшей меня трагической утраты. Почувствовав смущение, я от души пожалела, что своевременно не спросила у Джереми, какую именно «невосполнимую утрату» он для меня придумал.
Бедный Эдгар с неподдельной искренностью бормотал о том, как рад меня видеть, но не осмелится нарушить мое уединение, пока я не оправлюсь от горя. Глядя на его лошадиное аристократическое лицо, я поняла, насколько нелепо было бы отыгрываться на нем за собственные сердечные муки. Это было бы хуже, чем пнуть бездомную собаку.
Я сидела горестная и подавленная. Бог знает, зачем мне это было нужно. Наверное, чтобы укрепить его в уверенности, что меня постигло огромное несчастье. Он, запинаясь, говорил еще что-то, потом его бормотание прекратилось. Тронутая душевной простотой этого человека, взглядом его близоруких глаз, светившихся подлинным сочувствием, я мягко проворковала, что если он даст мне несколько дней, чтобы собраться с силами после всех пережитых мною горестей, то я постараюсь забыть о собственной беде и подарить счастье ему.
Эдгар еще раз нежно поцеловал мне руку.
– Одно лишь то, что ты здесь, рядом со мной, делает меня счастливым, Элизабет, – проговорил он, спотыкаясь на каждом слове. – Стоя у ворот рая, можно и потерпеть, ожидая, пока они распахнутся.
Его слова так напомнили мне другие, бесконечно более дорогие, что я не удержалась и разрыдалась вновь. Бедный Эдгар принялся хлопотать, пытаясь утешить меня, но потом, отчаявшись, побежал на поиски Марты, а сам, подобно бледному духу, чувствующему за собой вину, скрылся в кабинете. Понемногу я успокоилась и отправила Джереми записку с вопросом о том, какая в конце концов трагическая потеря меня постигла.
На следующее утро Джереми сам явился с ответом.
– Я сказал ему, – сообщил он, – что ты долгое время была отлучена от семьи из-за ранней неудачной любви, однако несколько месяцев назад твои родители тяжело заболели, причем, заметь, оба. Будучи их единственной дочерью, ты, едва узнав об этом, поспешила домой, чтобы примириться с близкими. Они же, несмотря на то, что ты долго и терпеливо ухаживала за ними, не смогли победить болезнь и тихо скончались, на последнем дыхании прошептав тебе свое благословение.
– И он тебе поверил? – спросила я недоверчиво.
– Спейхауз, – веско сказал Джереми, – способен поверить во что угодно.
Именно тогда в уме моем зародился замысел сорвать в подходящее время странный и прекрасный плод.
К концу недели я сочла, что достаточно долго испытывала терпение Эдгара, и исполнила сладкую песнь сирены, приглашая его в вожделенный рай. Он тут же поспешил ко мне – исполненный желания и в то же время, как всегда, робкий. Его любовь напоминала постоянные сбивчивые извинения. Но это наполняло его таким счастьем, что переносить близость с ним было не так уж тяжело. К тому же я быстро нашла способ оставаться одной, если мне того хотелось: достаточно было легкому облачку грусти затуманить мой взор, как Эдгар в спешке ретировался с моей кровати, как будто бы он причинил мне невыносимые страдания и не в силах видеть это.
Все эти дни я вспоминала о его существовании лишь в те редкие моменты, когда он, напоминая привидение в офицерской форме, заскакивал ко мне и затем снова убегал, чтобы отправиться на Уайтхолл или в свой клуб. Сама того не ожидая, в доме на Гросвенор-сквер я обрела покой. И здание, и его обстановка отличались особой изысканностью, которая появляется лишь там, где долгие годы живут люди с утонченными чувствами и вкусом. Все здесь было гармонично, как в футе Баха. Все здесь успокаивало, манило, радовало глаз и сердце. К тому же в отличие от моего дома ничто тут не пробуждало дорогих и мучительных воспоминаний. И все же, несмотря на окружающие меня красоту и великолепие, я часто мысленно переносилась из царственных хором в маленький темный коттедж, прилепившийся к склону холма. Мое сердце вновь пронзала боль, и я желала себе скорой смерти. Я пыталась забыться, погружаясь в чтение книг из обширной домашней библиотеки, но делала это через силу. Постижение нового впервые казалось мне пустым и бессмысленным занятием, черные мысли не отпускали мой мозг.
Я начала худеть, черты моего лица заострились. Из-за беременности я испытывала по утрам жестокие приступы тошноты, и меня мутило от одного вида еды. Хотя я и пускалась на всевозможные ухищрения, чтобы выглядеть как можно свежее, когда дома бывал Эдгар, от меня не укрывались тревожные взгляды, которые он порой бросал на меня. В такие моменты он бывал особенно предупредителен и всеми силами пытался услужить, как хорошо вышколенный пес. Все встало на свои места однажды утром, когда он вошел ко мне в комнату, где я как раз судорожно корчилась над тазом. Зрелище было не из приятных. Из горла лилась лишь какая-то светлая жидкость, рвотные судороги полностью обессилили меня, голова шла кругом. Подбежав, он обвил меня руками.
– Элизабет, родная моя, ты больна. Нужно немедленно вызвать врача.
– От этой болезни ни у одного доктора нет лекарства, – простонала я и слабо взмахнула рукой, жестом показывая, чтобы он отошел прочь.
Его лицо стало пепельно-серым. Скорее всего мой бедный любовник подумал, что я умираю от той же таинственной болезни, которая ранее подкосила моих воображаемых родителей.
– Ах, любовь моя, скажи, что же гнетет тебя? – спросил он дрогнувшим голосом.
– У меня будет ребенок – вот что, – ответила я раздраженным тоном.
Он покачнулся, как будто теряя равновесие. Казалось, он вот-вот рухнет без чувств.
– У тебя будет ребенок… от меня? – прошептал Эдгар.
– Уж не обвиняешь ли ты меня в распущенности? – огрызнулась я, потому что чувствовала себя прескверно. – Если это так, то, может быть, ты хочешь, чтобы я немедленно ушла отсюда?
– О, нет-нет, – почти застонал он, – вовсе нет.
Я с удивлением и ужасом увидела, как по его щекам потекли слезы.
Упав передо мной на колени и обхватив меня руками, Эдгар прижался лицом к моей груди.
– Я и думать не смел о таком счастье. Я только мечтал об этом, но не думал, что это возможно. Это самое прекрасное из всего, что случалось в моей жизни. Видишь ли, я последний в своем роду. У нас с Мэри-Энн, моей женой, нет детей. Вот она и говорила, что все это потому, что моя линия сошла на нет, что это не ее вина, а моя. Ну, в общем, что у меня недостаточно мужской силы, чтобы иметь детей.
От волнения у него перехватило горло, и он запнулся, не разжимая объятий. Ранее мне часто приходилось стыдиться самой себя, но никогда еще это чувство не охватывало меня с такой силой. С моих уст едва не сорвалась неприглядная правда, но он вдруг поднял лицо. Покрытое слезами, оно светилось такой радостью и счастьем, что у меня язык присох к небу.
Медленно поднявшись с колен, Эдгар приосанился. В его позе появилось какое-то новое достоинство, невиданная дотоле уверенность в себе.
– Я был последним отпрыском рода, получившего свое гордое имя задолго до того, как Завоеватель[23]23
Вильгельм I Завоеватель – нормандский герцог, ставший королем Англии после того, как его войска, вторгшиеся из Франции, разбили англосаксов в битве при Гастингсе 14 октября 1066 года.
[Закрыть] запятнал Англию норманнской кровью. Сознание того, что мне некому передать славное наследие, всю жизнь преследовало меня, не давая почувствовать себя настоящим мужчиной. Но ты, любимая, драгоценная моя, преобразила меня. Ты, ангел мой, вновь вселила в меня жизнь и надежду. – Он решительно вцепился мне в плечи. – Если родится мальчик, он будет носить мое имя. Спейхауз и все остальное, что мне принадлежит, перейдет к нему. Если это будет девочка, она тоже унаследует мое имя, и я обеспечу ее всем, чем только смогу.
– Однако, – возразила я, чувствуя, как из-за столь неожиданного поворота событий сжалось от тревоги сердце, – ребенок будет моим, а не твоим. У тебя не будет на него юридических прав, и ты не сможешь отнять его у меня.








