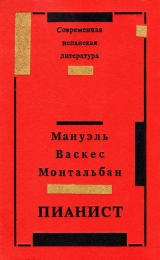
Текст книги "Пианист"
Автор книги: Мануэль Васкес Монтальбан
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Росель попадает в Париже в мир бурлящей интеллектуальной жизни, где схлестываются противостоящие друг другу эстетические школы и художественные направления. Как раз в этот момент достигает апогея кризис сюрреализма, печатью которого в 20 – 30-е годы были отмечены литература, изобразительные искусства, театр и кинематограф, музыка Запада. Прогрессивные деятели культуры, привлеченные в свое время мятежным духом сюрреалистов, бунтовавших против косного буржуазного духа в искусстве и смело экспериментировавших в поисках новых средств выражения, стали отходить от этого течения, пытаясь найти более прямой язык с народом, ибо понимали, что наступление фашизма грозит человечеству вообще и культуре в целом. Те художники, что не могли вырваться из узкого мирка экспериментальных изысканий к социальным и политическим проблемам, но почувствовали, что почва уходит у них из-под ног, метались в поисках новых ориентиров – такие метания, в частности, привели к самоубийству писателя-сюрреалиста Рене Кревеля, имя которого так часто мелькает в этой части романа. [164]164
Истинные обстоятельства гибели Р. Кревеля описаны очевидцем событий И. Эренбургом в его книге «Люди, годы, жизнь». М., Советский писатель, 1963, с. 474–475.
[Закрыть]
Смятение в рядах левых в Европе того времени усугублялось еще и тем, что как раз в те критические годы из Советской России, бывшей для многих демократов надеждой и оплотом прогресса, стали приходить тревожные вести об усилении массовых репрессий, жертвами которых часто становились видные участники Октябрьской революции, давно известные и уважаемые на Западе. Непонимание вызывало многое, в том числе и догматический курс в области культурной политики: не случайно в среде музыкантов, показанной в «Пианисте», царит недоумение по поводу оценки, данной в Москве творчеству Шостаковича, с первых же его шагов признанного крупнейшим художником, выражавшим революционный пафос эпохи.
Не будем поддаваться соблазну упрощать правду истории, подгоняя ее под сегодняшний день: конечно же, и тогда в Европе большинство коммунистов, да и большая часть рабочего класса, твердо верили, что если в Кремле решено проводить такую политику – для этого есть веские основания. Тем не менее даже среди самых убежденных иностранных коммунистов происходившие в Москве процессы не всегда встречали полное понимание. А уж среди той части антибуржуазной интеллигенции, которая, не разделяя коммунистических взглядов, тем не менее в 20 – 30-е годы с искренней и глубокой симпатией поддерживала грандиозный социальный эксперимент, предпринятый в Советской России, «московские процессы», все из них вытекавшее и их сопровождавшее вызывали скепсис и горечь, а порою и энергичное неприятие, глубокую переоценку ценностей.
Все это – важнейший фактор, обусловливавший умонастроения во многих странах мира в канун решающей схватки с фашизмом, и Васкес Монтальбан, стремящийся всегда быть верным реальности, какой бы неприятной она ни была, не замалчивает эту горькую правду, реконструируя в своем романе обстановку того предгрозового времени.
С горечью показывает Васкес Монтальбан, как левые силы раздирают изнутри бесплодные распри, а талантливые деятели культуры, которым принадлежит особенно важная роль в борьбе за сохранение цивилизации, утеряв единство цели, погрязают в мелкой грызне вокруг всевозможных «измов», в то время как приспособленцы и циники типа Дориа паразитируют на этих чисто творческих разногласиях, провозглашая свою «аполитичность», которая на поверку в будущем трансформируется в коллаборационизм. Все это, по мысли автора, и привело к тому, что в решающий момент схватки с «коричневой чумой» – как в Испании, так и во Франции – левые силы, в том числе и творческая интеллигенция, оказались раздробленными, неспособными сразу же дать должный ответ на испытание историей.
С той поры проходит полстолетия. И снова история дала левым силам в Испании шанс резко повернуть течение событий: на этот раз после смерти Франко.
Но опять, если говорить о субъективных причинах, сказался первородный грех, давно присущий испанским левым, – непомерный индивидуализм, препятствующий им действовать сплоченно и сообща. Хотя именно они внесли решающий вклад в то, что франкистский режим еще до смерти каудильо был подточен изнутри, а после смерти Франко быстро рухнул, прогрессивные партии, в том числе и коммунисты, и в этот критический момент оказались не на высоте положения. Снова они пришли к нему глубоко расколотыми и ослабленными.
Это обстоятельство ярко и откровенно показано в той части романа, где действие происходит летом 1983 года: порожденные такой ситуацией чувства разочарования и пессимизма пронизывают в нем разговоры и споры молодых героев – представителей своего рода «потерянного поколения» Испании.
Обращаясь к этому периоду и показывая широко распространившиеся среди испанской интеллигенции настроения глубокого пессимизма, писатель далек от сгущения мрачных красок, он верен правде жизни. Ибо, хотя крушение последнего фашистского режима в Европе вызвало бурный восторг в Испании и далеко за ее пределами, после этого события за Пиренеями развивались весьма сложными путями и не всегда так, как того желал народ.
Вот, например, как определяет кривую общественных настроений в Испании после смерти Франко крупнейший и авторитетный историк Серхио Вилар, давая периодизацию этого отрезка времени в своей монографии «Удивительное десятилетие. 1976–1986»: первый период (1976–1978) – общий подъем в обществе; второй период (1978–1982) – разочарование и апатия; третий период (1982–1985) – те, кто называют себя левыми, правят в интересах правых. [165]165
Vilar, Sergio. La década sorprendente, 1976–1986. Barcelona, Planeta, 1986, p. 7–8.
[Закрыть]В этой схематической разбивке по годам последнего десятилетия истории Испании точно и верно прослежена внутренняя динамика общественных настроений в стране.
Действительно, демократизация, последовавшая в Испании сразу же после смерти каудильо и поддержанная подавляющим большинством во всей стране, получившая поддержку со стороны прогрессивной мировой общественности, во многом ограничилась, однако, лишь демонтажем устаревшей политической надстройки, не затронув глубинных экономических и социальных структур. Как отмечает другой испанский исследователь, социолог Амандо де Мигель, которого мы уже цитировали, после кончины каудильо у власти в Испании утвердилась либеральная буржуазия в лице современного неокапитализма, во многом взращенного в недрах того же франкистского режима, но стремившегося к модернизации политической структуры в стране; [166]166
Мигель, Амандо де. 40 миллионов испанцев 40 лет спустя. М., Прогресс, 1985, с. 332.
[Закрыть]эта буржуазия сумела политически «переиграть» рабочий класс и его авангард – левых, которые были движущей силой в борьбе против диктатуры.
Конечно же, в постфранкистский период в Испании стало легче жить и дышаться – это несомненно. И все же многие испанцы получили не то, чего они добивались: почти сорок лет они связывали с падением фашизма надежды на широкую народную демократию, а получили типичную буржуазную демократию, скроенную по меркам Западной Европы и к тому же принесшую новые тяготы народным массам. Верно, что в 1982 году был отмечен новый всплеск активности в обществе, связанный с надеждами на победу Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) на всеобщих выборах. Но эта партия, придя к власти, стала отступать от своих предвыборных обещаний. За этим последовал уже глубокий спад настроений в обществе, столь сильно показанный в романе Васкеса Монтальбана. И он психологически обоснован – слишком много сил у левых ушло на долгое сопротивление франкизму, на то, чтобы добиться демократизации, а тут еще они попали в ловушку: бороться против процесса развития Испании в рамках буржуазной демократии означало бы играть на руку сторонникам старого, которые еще настроены агрессивно, а мириться с происходящим – невозможно. Отсюда – упадок духа у многих, отход от политики, социальный пессимизм, всеобщее разочарование…
Погляди, что они со мной сделали.
Это – лучшее, что у меня было, но пришли
они и подменили мне песню, мама.
Посмотри, что они со мной сделали.
Это – лучшее, что во мне было, но пришли
они и расплющили мне мозг,
как яичную скорлупу, мама…
Эти стихи из популярной песенки 50-х годов, вынесенные в эпиграф к роману, задают общую тональность книге, но особенно первой ее части – она вспоминается героям романа в кабаре «Капабланка», куда они пришли, чтобы, как едко шутит один из них, «прикоснуться к истокам», вспомнить годы своей юности, связанные с антифранкистским студенческим движением.
Принимать жизнь, какой она сложилась у «поколения 40-летних» – Вентуры, Делапьера, Луисы и Ирене, – оснований нет. Все они – в прошлом активные участники сопротивления диктатуре, причем в рядах коммунистической партии, бывшей практически единственной, которая боролась против режима, а потому притягивающей к себе всех недовольных Франко. Они, в отличие от окружающих приспособленцев, не нашли себе места в новой жизни.
Причина их разочарования более глубока, чем просто житейская неустроенность, – она вызвана тем, что окружающая их действительность оказалась совсем иной, чем им мечталось в лучшие годы. Многие из них вышли в свое время из рядов компартии, некоторые побывали в рядах «леваков», кое-кто даже уходил в буддизм и всевозможную мистику. Но всех их упорно гложет желание понять, почему же все так повернулось. Только об этом – их разговоры, споры, дискуссии.
«Мы шли вперед, как таран, намереваясь разрушить Бастилию, а так ничего и не разрушили», – говорит один из героев.
«Сколько рабочих погибло во время гражданской войны, скольких потом уничтожили, скольких преследовали и бросили в тюрьмы, чтобы франкизм мог жить-поживать, пока медленно, но верно восстанавливался авангард?» – вторит ему другой.
«Авангард был скроен точно по мерке ситуации, он был слабым и шел на соглашение каждый раз, когда ему это предлагали», – подытоживает третий.
В общем контексте первой части романа последние слова очень важны. Теперь в Испании стало общепризнанной истиной, что если бы левые силы оказались более сплоченными к моменту смерти Франко, то и изменения в стране – причем не только политические, но и экономические, социальные и духовные – могли бы стать безусловно более глубокими и позитивными. Но этому, как и полвека назад, помешало то обстоятельство, что испанские левые не сумели преодолеть то, что их разъединяет, создать единый фронт, выражающий коренные интересы Царода, снова они погрязли в «выяснении отношений», мелких стычках и раздорах, в результате которых стремительно сами разрушались, дробясь на все более мелкие группки.
Роман «Пианист» пронизан горечью, но не безысходен: это просто не соответствовало бы взглядам и настрою самого Васкеса Монтальбана. В том же интервью по поводу выхода «Пианиста», которое уже цитировалось, писатель говорил: «Причины нынешнего разочарования очевидны: они вызваны тем, что многие надежды не оправдались. Но тем более необходимо сейчас активное критическое начало, а не пассивность». И тут же Васкес Монтальбан добавлял: главная задача теперь – не дать, чтобы разочарование, особенно сильно распространившееся среди интеллигенции, охватило все общество, ибо это было бы равнозначно «посмертной победе франкизма». [167]167
«Mundo obrero», 4. IV. 1985, p. 29.
[Закрыть]
Как же совмещается такая наступательная, исполненная исторического оптимизма позиция писателя с той неприглядной и обескураживающей картиной, которая предстает в его романе, когда автор показывает сегодняшний день Испании?
Вернемся еще раз к концу первой части «Пианиста», хронологически являющейся его развязкой. В чадном сумраке «Капабланки» писатель собирает почти всех персонажей своего произведения.
Не случайно писатель приводит их в кабаре, «гвоздем программы» в котором являются паясничанье и кривлянье травести. Васкес Монтальбан не ограничивается противопоставлением этой чудовищной пародии на культуру чистому и вечному искусству маэстро Роселя, подчеркивая тем самым свое неприятие заполнившей Испанию 80-х годов развлекательной «культуры» коммерческого толка, рассчитанной на самый низменный вкус. Разгул травести в «Капабланке» – символ более глубокого значения, и ключ к такой символике можно найти в предшествующей этой сцене оценочной фразе автора: «Эти жалкие, потрепанные травести-превращенцы наводили на мысль о пародии, вот так же выглядел и Режим…»
Действительно, диктатура Франко, поначалу победоносно объявлявшая себя фашистско-авторитарным государством, затем под давлением обстоятельств хамелеонски трансформировавшаяся в либерально-неокапиталистический строй, лихорадочно рвавшая со своим неприглядным прошлым, чтобы выжить в современном мире, была вынуждена постоянно менять маски, прятать свою подлинную сущность. Однако инерция «травестирования» в испанской политике, по справедливой мысли Васкеса Монтальбана, увы, сохранилась за Пиренеями и после кончины каудильо: нынешняя демократия в Испании также не соответствует тому, чем она себя провозглашает, – левые правят в интересах правых, глубинные структуры страны остаются прежними. «Смена масок» продолжается. И приспособленцы разного рода – как старые, так и новоявленные – охотно принимают правила такой игры, дающей им возможность преуспевать. Но не все в Испании согласны с этим. Водораздел в скопище лиц, мелькающих в «Капабланке», вполне четок и ясен. Противостояние Росель – Дориа здесь становится гораздо шире. Купающемуся в лучах славы самодовольному композитору, представителям местных и центральных властей – от буржуазных националистов из Барселоны до социалистов из Мадрида, – интеллигентам-отступникам из бывшей компании Вентуры явно противостоят уже не только старый маэстро, но и Вентура с друзьями – хотя жизнь пошатнула их былые представления, хотя они сомневаются и мучаются, исконные жизненные установки у них прежние. А потому они, идеалисты, прячущиеся за маской показного цинизма и фривольности, не приемлют поучений изворотливых прагматиков – своих бывших друзей и однокашников, которые приспособились к новой реальности и благополучно преуспевают в ней.
В романе Васкеса Монтальбана вообще нет ничего случайного. А потому глубокого смысла исполнен тот факт, что Вентуру неудержимо тянет к внешне невзрачному человеку за роялем, от которого, словно мощные флюиды, исходит таинственная сила. Притягивает она потому, что Вентуре и его друзьям этой силы как раз недостает сейчас, когда они переживают тяжелый душевный кризис, а потому они хотят понять источники ее, как бы зарядиться ею. Сила же эта – в чистоте и стойкости этической позиции старого пианиста, который, несмотря на все невзгоды и страдания, подходит к своему концу победителем.
Разве можно представить себе этого тщедушного телом, но несгибаемого духом человека повторяющим что-нибудь подобное тому, о чем цинично говорит один из 40-летних – Шуберт, который уже готов пойти на компромисс с жизнью: «Я колеблюсь, еще не знаю – поддержать ли игру социалистов, чтобы сделать карьерку и скопить на старость, или же отступить на прежние идеологические позиции и подождать до лучших времен?»
В этом сопоставлении двух поколений левых – глубокая символика. Суть ее в том, что, по мысли Васкеса Монтальбана, одна из главных возможностей восстановления позиций коммунистов в Испании, которая помогла бы им преодолеть разобщенность и вернуть свой былой вес в обществе, – это возврат к их этически чистым истокам. Ибо идея коммунизма умереть не может, она вечна: когда разочарование и апатия пройдут, общество потянется к новым рубежам, и тогда только эта идея, сохранившая первозданную чистоту и благородство, сможет повести за собой народ.
Такая интерпретация «Пианиста» вытекает при пристальном чтении романа. Но она подтверждается и словами, которые произнес его автор, рассказывая о том, с каким настроением он писал это произведение. «Что касается восстановления позиций левых, – говорил он, – то я считаю, что оно не только возможно, но и крайне необходимо, а потому они, и особенно интеллигенция, не вправе прятаться по «зимним квартирам». Восстановление позиций левых – важнейшая задача. Только у них – и прежде всего у коммунистов – сохранился кредит доверия со стороны народа, только они обладают этической силой, которой нет ни у какой другой политической партии в стране, и эта истина полностью проявила себя в годы борьбы против фашизма». [168]168
«Mundo obrero», 4. IV. 1985, p. 28.
[Закрыть]
Таков пафос романа «Пианист» – этико-философский, но вместе с тем и актуально-политический.
Разве после всего этого можно считать маэстро Роселя неудачником, если подходить к понятию «победа» по большому счету? Его сила в том, что он сумел сохранить чистоту и благородство нравственного заряда, пронести его через всю жизнь, что он передает эту силу и своим единомышленникам из последующего поколения.
Хуан Кобо







