Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931
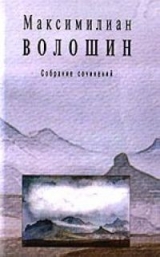
Текст книги "Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
Таноб
1
От Иоанна Лествичника чтенье:
«Я посетил взыскуемый Таноб
И видел сих невинных осужденцев.
Никем не мучимы, себя же мучат сами.
Томясь, томят томящего их дух.
Со связанными за спиной руками
Стоят всю ночь, не подгибая ног,
Одолеваемые сном, качаясь,
Себе ж покоя не дая на миг.
Иные же себя томяще зноем,
Иные холодом, иные, ковш
Воды пригубив, отвергают, только б
Не умереть от жажды, хлеб иные,
Отведав, прочь бросают, говоря,
Что жившие по-скотски недостойны
Вкушать от пищи человеческой,
Иные как о мертвецах рыдают
О душах собственных, иные слезы
Удерживают, а когда не могут
Терпеть – кричат. Иные головами
Поникшими мотают, точно львы
Рыкающе и воя протяженно.
Иные молят Бога покарать
Проказою, безумьем, беснованьем,
Лишь бы не быть на муки осужденным
На вечные. И ничего не слышно
Опричь: „Увы! Увы!“ и „Горе! Горе!“
Да тусклые и впалые глаза,
Лишенные ресниц глазничных веки,
Зеленые покойницкие лица,
Хрипящие от напряженья перси,
Кровавые мокроты от биенья
В грудь кулаком, сухие языки,
Висящие из воспаленных уст,
Как у собак. Всё темно, грязно, смрадно».
2
Горючим ядом было христианство.
Ужаленная им душа металась,
В неистовстве и корчах совлекая
Отравленный хитон Геракла – плоть.
Живая глина обжигалась в жгучем
Вникающем и плавящем огне.
Душа в борьбе и муках извергала
Отстоенную радость бытия
И полноту языческого мира.
Был так велик небесной кары страх,
Что муки всех прижизненных застенков
Казались предпочтительны. Костры
Пылали вдохновенно, очищая
От одержимости и ересей
Заблудшие, мятущиеся души.
Доминиканцы жгли еретиков,
А университеты жгли колдуний.
Но был хитер и ловок Сатана:
Природа мстила, тело издевалось, –
Могучая заклепанная хоть
Искала выхода. В глухом подполье
Монах гноил бунтующую плоть
И мастурбировал, молясь Мадонне.
Монахини, в экстазе отдаваясь
Грядущему в полночи жениху,
В последней спазме не могли различить
Иисусов лик от лика Сатаны.
Весь мир казался трупом, Солнце – печью
Для грешников, Спаситель – палачом.
3
Водитель душ измученную душу
Брал за руку и разверзал пред ней
Зияющую емкость преисподней
Во всю ее длину и глубину.
И грешник видел пламя океана
Багрового и черного, а в нем,
В струях огня и в огневертях мрака
Бесчисленные души осужденных,
Как руны рыб в провалах жгучих бездн.
Он чувствовал невыносимый смрад,
Дух замирал от серного удушья
Под шквалами кощунств и богохульств;
От зноя на лице дымилась кожа,
Он сам себе казался гнойником;
Слюна и рвота подступали к горлу.
Он видел стены медного Кремля,
А посреди на рдяно-сизом троне
Из сталактитов пламени – Царя
С чудовищным, оцепенелым ликом
Литого золота. Вкруг сонмы сонм
Отпадших ангелов и человечий
Мир, отданный в управу Сатане:
Нет выхода, нет меры, нет спасенья!
Таков был мир: посередине – Дьявол –
Дух разложенья, воля вещества,
Князь времени, Владыка земной плоти –
И Бог, пришедший яко тать в ночи –
Поруганный, исхлестанный, распятый.
В последней безысходности пред ним
Развертывалось новое виденье:
Святые пажити, маслины и сады
И лилии убогой Галилеи…
Крылатый вестник девичьих светлиц
И девушка с божественным младенцем.
В тщете земной единственной надеждой
Был образ Богоматери: она
Сама была материей и плотью,
Еще неопороченной грехом,
Сияющей первичным светом, тварью,
Взнесенной выше ангелов, землей
Рождающей и девственной, обетом,
Что такова в грядущем станет персть,
Когда преодолеет разложенье
Греха и смерти в недрах бытия.
И к ней тянулись упованья мира,
Как океаны тянутся к луне.
4
Мечты и бред, рожденные темницей,
Решетки и затворы расшатал
Каноник Фрауенбургского собора
Смиреннейший Коперник. Галилей,
Неистовый и зоркий, вышиб двери,
Размыкал своды, кладку разметал
Напористый и доскональный Кеплер,
А Ньютон – Дантов Космос, как чулок
Распялив, выворотил наизнанку.
Всё то, что раньше было Сатаной,
Грехом, распадом, косностью и плотью,
Всё вещество в его ночных корнях,
Извилинах, наростах и уклонах –
Вся темная изнанка бытия
Легла фундаментом при новой стройке.
Теперь реальным стало только то,
Что было можно взвесить и измерить,
Коснуться пястью, выразить числом.
И новая вселенная возникла
Под пальцами апостола Фомы.
Он сам ощупал звезды, взвесил землю,
Распялил луч в трехгранности стекла,
Сквозь трещины распластанного спектра
Туманностей исследовал состав,
Хвостов комет и бег миров в пространстве,
Он малый атом ногтем расщепил
И стрелы солнца взвесил на ладони.
В два-три столетья был преображен
Весь старый мир: разрушен и отстроен.
На миллионы световых годов
Раздвинута темница мирозданья,
Хрустальный свод расколот на куски
И небеса проветрены от Бога.
5
Наедине с природой человек
Как будто озверел от любопытства:
В лабораториях и тайниках
Ее пытал, допрашивал с пристрастьем,
Читал в мозгу со скальпелем в руке,
На реактивы пробовал дыханье,
Старухам в пах вшивал звериный пол.
Отрубленные пальцы в термостатах,
В растворах вырезанные сердца
Пульсировали собственною жизнью:
Разъятый труп кусками рос и цвел.
Природа, одурелая от пыток,
Под микроскопом выдала свои
От века сокровеннейшие тайны:
Механику обрядов бытия.
С таким же исступлением, как раньше
В себе стремился выжечь человек
Всё то, что было плотью, так теперь
Отвсюду вытравлял заразу духа,
Охолощал не тело, а мечту,
Мозги дезинфицировал от веры,
Накладывал запреты и табу
На всё, что не сводилось к механизму:
На откровенье, таинство, экстаз…
Огородил свой разум частоколом
Торчащих фактов, терминов и цифр
И до последних граней мирозданья
Раздвинул свой безвыходный Таноб.
6
Но так едка была его пытливость,
И разум вскрыл такие недра недр,
Что самая материя иссякла,
Истаяла под ощупью руки…
От чувственных реальностей осталась
Сомнительная вечность вещества,
Подточенного тлёю Энтропии;
От выверенных Кантовых часов,
Секундами отсчитывавших время, –
Метель случайных вихрей в пустоте,
Простой распад усталых равновесий.
Мир стер зубцы Лапласовых колес,
Заржавели Ньютоновы пружины,
Эвклидов куб – наглядный и простой –
Оборотился Римановой сферой:
Вчера Фома из самого себя
Ступнею мерил радиус вселенной
И пядями окружность. А теперь,
Сам выпяченный на поверхность шара,
Не мог проникнуть лотом в глубину:
Отвес, скользя, чертил меридианы.
Так он постиг, что тяготенье тел
Есть внутренняя кривизна пространства,
И разум, исследивший все пути,
Наткнулся сам на собственные грани:
Библейский змий поймал себя за хвост.
7
Строители коралловых атоллов
На дне времен, среди безмерных вод –
В ограде кольцевых нагромождений
Своих систем – мы сами свой Таноб.
Мир познанный есть искаженье мира,
И человек недаром осужден
В святилищах устраивать застенки,
Идеи обжигать на кирпичи,
Из вечных истин строить казематы
И вновь взрывать кристаллы и пласты
И догматы отстоенной культуры:
Познание должно окостенеть,
Чтоб дать жерло и направленье взрыву.
История проникнута до дна
Колоидальной спазмой аскетизма,
Сжимающею взрывы мятежей.
Свободы нет, но есть освобожденье!
Наш дух – междупланетная ракета,
Которая, взрываясь из себя,
Взвивается со дна времен, как пламя.
16 мая 1926
Коктебель
Коктебельские берега
Эти пределы священны уж тем, что однажды под вечер
Пушкин на них поглядел с корабля по дороге в Гурзуф.
25 декабря <1926
Коктебель>
Дом поэта
Дверь отперта. Переступи порог.
Мой дом раскрыт навстречу всех дорог.
В прохладных кельях, беленных известкой,
Вздыхает ветр, живет глухой раскат
Волны, взмывающей на берег плоский,
Полынный дух и жесткий треск цикад.
А за окном расплавленное море
Горит парчой в лазоревом просторе.
Окрестные холмы вызорены
Колючим солнцем. Серебро полыни
На шиферных окалинах пустыни
Торчит вихром косматой седины.
Земля могил, молитв и медитаций –
Она у дома вырастила мне
Скупой посев айлантов и акаций
В ограде тамарисков. В глубине
За их листвой, разодранной ветрами,
Скалистых гор зубчатый окоем
Замкнул залив Алкеевым стихом,
Асимметрично-строгими строфами.
Здесь стык хребтов Кавказа и Балкан,
И побережьям этих скудных стран
Великий пафос лирики завещан
С первоначальных дней, когда вулкан
Метал огонь из недр глубинных трещин
И дымный факел в небе потрясал.
Вон там – за профилем прибрежных скал,
Запечатлевшим некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощечье и подлобье),
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костер,
Широко вздувший каменное пламя, –
Из сизой мглы, над морем вдалеке
Встает стена… Но сказ о Карадаге
Не выцветить ни кистью на бумаге,
Не высловить на скудном языке.
Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань…
Но грудь узка для этого дыханья,
Для этих слов тесна моя гортань.
Заклепаны клокочущие пасти.
В остывших недрах мрак и тишина.
Но спазмами и судорогой страсти
Здесь вся земля от века сведена.
И та же страсть и тот же мрачный гений
В борьбе племен и в смене поколений.
Доселе грезят берега мои
Смоленые ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залегла,
Провалами беспамятства чернея.
Наносы рек на сажень глубины
Насыщены камнями, черепками,
Могильниками, пеплом, костяками.
В одно русло дождями сметены
И грубые обжиги неолита,
И скорлупа милетских тонких ваз,
И позвонки каких-то пришлых рас,
Чей облик стерт, а имя позабыто.
Сарматский меч и скифская стрела,
Ольвийский герб, слезница из стекла,
Татарский глёт зеленовато-бусый
Соседствуют с венецианской бусой.
А в кладке стен кордонного поста
Среди булыжников оцепенели
Узорная арабская плита
И угол византийской капители.
Каких последов в этой почве нет
Для археолога и нумизмата –
От римских блях и эллинских монет
До пуговицы русского солдата.
Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень –
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы – Россия – не пришли.
За полтораста лет – с Екатерины –
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды.
Но скорбный лик оцепенелой маски
Идет к холмам Гомеровой страны,
И патетически обнажены
Ее хребты и мускулы и связки.
Но тени тех, кого здесь звал Улисс,
Опять вином и кровью напились
В недавние трагические годы.
Усобица и голод и война,
Крестя мечом и пламенем народы,
Весь древний Ужас подняли со дна.
В те дни мой дом – слепой и запустелый –
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер –
Фанатики непримиримых вер –
Искали здесь под кровлею поэта
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал всё, чтоб братьям помешать
Себя – губить, друг друга – истреблять,
И сам читал – в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя.
Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил:
Ни власть не отняла, ни враг не сжег,
Не предал друг, грабитель не ограбил.
Утихла буря. Догорел пожар.
Я принял жизнь и этот дом как дар
Нечаянный – мне вверенный судьбою,
Как знак, что я усыновлен землею.
Всей грудью к морю, прямо на восток,
Обращена, как церковь, мастерская,
И снова человеческий поток
Сквозь дверь ее течет, не иссякая.
Войди, мой гость: стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога…
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.
Мой кров – убог. И времена – суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь – их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шепот
Не заглушит ни зимний ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
Мои ж уста давно замкнуты… Пусть!
Почетней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
И ты, и я – мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни ее немой укор.
И сам избрал пустынный сей затвор
Землею добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.
Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет всё – Европа и Россия.
Гражданских смут горючая стихия
Развеется… Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи…
Ветшают дни, проходит человек.
Но небо и земля – извечно те же.
Поэтому живи текущим днем.
Благослови свой синий окоем.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
25 декабря 1926
Коктебель
Четверть века
(1900–1925)
Каждый рождается дважды. Не я ли
В духе родился на стыке веков?
В год изначальный двадцатого века
Начал головокружительный бег.
Мудрой судьбою закинутый в сердце
Азии, я ли не испытал
В двадцать три года всю гордость изгнанья
В рыжих песках туркестанских пустынь?
В жизни на этой магической грани
Каждый впервые себя сознает
Завоевателем древних империй
И заклинателем будущих царств.
Я проходил по тропам Тамерлана,
Отягощенный добычей веков,
В жизнь унося миллионы сокровищ
В памяти, в сердце, в ушах и в глазах.
Солнце гудело, как шмель, упоенный
Зноем, цветами и запахом трав,
Век разметал в триумфальных закатах
Рдяные перья и веера.
Ширились оплеча жадные крылья,
И от пространств пламенели ступни,
Были подтянуты чресла и вздуты
Ветром апостольские паруса.
Дух мой отчаливал в желтых закатах
На засмоленной рыбацкой ладье –
С Павлом – от пристаней Антиохии,
Из Монсеррата – с Лойолою в Рим.
Алые птицы летели на запад,
Шли караваны, клубились пески,
Звали на завоевание мира
Синие дали и свертки путей.
Взглядом я мерил с престолов Памира
Поприща западной тесной земли,
Где в утаенных портах Средиземья,
На берегах атлантических рек
Нагромоздили арийские расы
Улья осиных разбойничьих гнезд.
Как я любил этот кактус Европы
На окоеме Азийских пустынь –
Эту кипящую магму народов
Под неустойчивой скорлупой,
Это огромное содроганье
Жизни, заклепанной в недрах машин,
Эти высокие камни соборов,
Этот горячечный бред мостовых,
Варварский мир современной культуры,
Сосредоточившей жадность и ум,
Волю и веру в безвыходном беге
И в напряженности скоростей.
Я со ступеней тысячелетий,
С этих высот незапамятных царств,
Видел воочью всю юность Европы,
Всю непочатую ярь ее сил.
Здесь, у истоков Арийского мира,
Я, преклонившись, ощупал рукой
Наши утробные корни и связи,
Вросшие в самые недра земли.
Я ощутил на ладони биенье
И напряженье артерий и вен –
Неперекушенную пуповину
Древней Праматери рас и богов.
Я возвращался, чтоб взять и усвоить,
Всё перечувствовать, всё пережить,
Чтобы связать половодное устье
С чистым истоком Азийских высот.
С чем мне сравнить ликованье полета
Из Самарканда на запад – в Париж?
Взгляд Галилея на кольца Сатурна…
Знамя Писарро над сонмами вод…
Было… всё было… так полно, так много,
Больше, чем сердце может вместить:
И золотые ковчеги религий,
И сумасшедшие тромбы идей…
Хмель городов, динамит библиотек,
Книг и музеев отстоенный яд.
Радость ракеты рассыпаться в искры,
Воля бетона застыть, как базальт.
Всё упоение ритма и слова,
Весь Апокалипсис туч и зарниц,
Пламя горячки и трепет озноба
От надвигающихся катастроф.
Я был свидетелем сдвигов сознанья,
Геологических оползней душ
И лихорадочной перестройки
Космоса в «двадцать вторых степенях».
И над широкой излучиной Рейна
Сполохов первых пожарищ войны
На ступенях Иоаннова Зданья
И на сферических куполах.
Тот, кто не пережил годы затишья
Перед началом великой войны,
Тот никогда не узнает свободы
Мудрых скитаний по древней земле.
В годы, когда расточала Европа
Золото внуков и кровь сыновей
На роковых перепутьях Шампани,
В польских болотах и в прусских песках,
Верный латинскому духу и строю,
Сводам Сорбонны и умным садам,
Я ни германского дуба не предал,
Кельтской омеле не изменил.
Я прозревал не разрыв, а слиянье
В этой звериной грызне государств,
Смутную волю к последнему сплаву
Отъединенных историей рас.
Но посреди ратоборства народов
Властно окликнут с Востока, я был
Брошен в плавильные горны России
И в сумасшествие Мартобря.
Здесь, в тесноте, на дне преисподней,
Я пережил испытанье огнем:
Страшный черед всеросийских ордалий,
Новым тавром заклеймивших наш дух.
Видел позорное самоубийство
Трона, династии, срам алтарей,
Славу «Какангелия» от Маркса[5]5
Σΰ – хороший, χαχos – дурной, злой; «как-ангелие» = зловестие.
[Закрыть],
Новой враждой разделившего мир.
В шквалах убийств, в исступленьи усобиц
Я охранял всеединство любви,
Я заклинал твои судьбы, Россия,
С углем на сердце, с кляпом во рту.
Даже в подвалах двадцатого года,
Даже средь смрада голодных жилищ
Я бы не отдал всей жизни за веру
Этих пронзительно зорких минут.
Но… я утратил тебя, моя юность,
На перепутьях и росстанях Понта,
В зимних норд-остах, в тоске Сивашей…
Из напряженного стержня столетья
Ныне я кинут во внешнюю хлябь,
Где только ветер, пустыня и море
И под ногой содроганье земли…
Свист урагана и топот галопа
Эхом еще отдается в ушах,
Стремя у стремени четверть пробега,
Век – мой ровесник, мы вместе прошли.
16 декабря 1927
Коктебель
В дни землетрясения
«Весь жемчужный окоем…»
Весь жемчужный окоем
Облаков, воды и света
Ясновиденьем поэта
Я прочел в лице твоем.
Всё земное – отраженье,
Отсвет веры, блеск мечты…
Лика милого черты –
Всех миров преображенье.
16 июня 1928
Коктебель
Аделаида Герцык
Лгать не могла. Но правды никогда
Из уст ее не приходилось слышать –
Захватанной, публичной, тусклой правды,
Которой одурманен человек.
В ее речах суровая основа
Житейской поскони преображалась
В священную, мерцающую ткань –
Покров Изиды. Под ее ногами
Цвели, как луг, побегами мистерий
Паркеты зал и камни мостовых.
Действительность бесследно истлевала
Под пальцами рассеянной руки.
Ей грамота мешала с детства книге
И обедняла щедрый смысл письмен.
А физики напрасные законы
Лишали власти таинства игры.
Своих стихов прерывистые строки,
Свистящие, как шелест древних трав,
Она шептала с вещим напряженьем,
Как заговор от сглаза и огня.
Слепая – здесь, физически – глухая, –
Юродивая, старица, дитя, –
Смиренно шла сквозь все обряды жизни:
Хозяйство, брак, детей и нищету.
События житейских повечерий –
(Черед родин, болезней и смертей) –
В душе ее отображались снами –
Сигналами иного бытия.
Когда ж вся жизнь ощерилась годами
Расстрелов, голода, усобиц и вражды,
Она, с доверьем подавая руку,
Пошла за ней на рынок и в тюрьму.
И, нищенствуя долу, литургию
На небе слышала и поняла,
Что хлеб – воистину есть плоть Христова,
Что кровь и скорбь – воистину вино.
И смерть пришла, и смерти не узнала:
Вдруг растворилась в сумраке долин,
В молчании полынных плоскогорий,
В седых камнях Сугдейской старины.
10 февраля 1929
Коктебель
Сказание об иноке Епифании
1
Родился я в деревне. Как скончались
Отец и мать, ушел взыскати
Пути спасения в обитель к преподобным
Зосиме и Савватию. Там иноческий образ
Сподобился принять. И попустил Господь
На стол на патриарший наскочити
В те поры Никону. А Никон окаянный
Арсена-жидовина
В печатный двор печатать посадил.
Тот грек и жидовин в трех землях трижды
Отрекся от Христа для мудрости бесовской
И зачал плевелы в церковны книги сеять.
Тут плач и стон в обители пошел:
Увы и горе! Пала наша вера.
В печали и тоске, с благословенья
Отца духовного, взяв книги и иная,
Потребная в молитвах, аз изыдох
В пустыню дальнюю на остров на Виданьской –
От озера Онега двенадцать верст.
Построил келейку безмолвья ради
И жил, молясь, питаясь рукодельем.
О, ты моя прекрасная пустыня!
Раз, надобен от кельи отлучиться,
Я образ Богоматери с Младенцем –
Вольяшный, медный – поставил ко стене:
«Ну, Свет-Христос и Богородица, храните
И образ свой, и нашу с вами келью».
Пришел на третий день и издали увидел
Келейку малую как головню дымящу.
И зачал зря вопить: «Почто презрела
Мое моление? Приказу не послушала? Келейку
Мою и Твоея не сохранила?» Идох
До кельи обгорелой, ан кругом
Сенишко погорело вместе с кровлей,
А в кельи чисто: огнь не смел войти.
И образ на стене стоит – сияет.
В лесу окрест живуще бесы люты.
И стали в келью приходить ночами.
Страшат и давят: сердце замирает,
Власы встают, дрожат и плоть, и кости.
О полночи пришли однажды двое:
Один был наг, другой одет в кафтане.
И, взяв скамью – на ней же почиваю, –
Нача меня качати, как младенца.
Я ж, осерчав, восстал с одра и беса
Взял поперек и бить учал
Бесищем тем о лавку, вопиюще:
«Небесная Царица, помоги мне».
А бес другой к земле прилип от страха,
Не может ног от пола оторвать.
И сам не вем, как бес в руках изгинул.
Возбнухся ото сна – зело устал, – а руки
Мокром мокры от скверного мясища.
В другой же раз, уснуть я не успел –
Сенные двери пылко растворились,
И в келью бес вскочил, что лютый тать,
Согнул меня и сжал так крепко, туго,
Что пикнуть мне не можно, ни дохнуть.
Уж еле-еле пискнул: «Помози ми».
И сгинул бес, а я же со слезами
Глаголю к образу: «Владычица, почто
Не бережешь меня? Ведь в мале-мале
Злодей не погубил». Тут сон нашел
С печали той великия, и вижу,
Что Богородица из образа склонилась,
Руками беса мучает, измяла
Злодея моего и мне дала.
Я с радости учал его крушить и мять,
Как ветошь драную, и выкинул в окошко:
Измучил ты меня и сам пропал.
По долгой по молитве взглянул в окно – светает.
Лежит бесище то, как мокрое тряпье.
Помале дрогнул и ногу подтянул,
А после руку…
И паки ожил. Встал, как будто пьян.
И говорит: «Ужо к тебе не буду, –
Пойду на Вытегру». А я ему: «Не смей
Ходить на Вытегру – там волость людна.
Иди, где нет людей». А он, как сонный,
От келейки по просеке пошел.
Увидел хитрый Дьявол, что не может
Ни сжечь меня, ни силой побороть,
Так насади мне в келию червей,
Рекомых мравии. Начаша мураши
Мне тайны уды ясть, и ничего иного –
Ни рук, ни ног, а токмо тайны уды.
И горько мне и больно – инда плачу.
Аз стал их, грешный, варом обливать,
Рукой ловить, топтать ногой, они же
Под стены проползают. Окопал я
Всю келейку и камнем затолок.
Они ж сквозь камни лезут и под печь.
Кошницею в реке топить носил.
Мешок на уды шил: не помогло – кусают.
Ни рукоделья делать, ни обедать,
Ни правил править. Бесьей той напасти
Три было месяца. На последях
Обедать сел, закутав уды крепко.
Они ж, не вем как, – все-таки кусают.
Не до обеда стало: слезы потекли.
Пречистую тревожить всё стеснялся,
А тут взмолился к образу: «Спаси,
Владычица, от бесьей сей напасти».
И вот с того же часа
Мне уды грызть не стали мураши.
Колико немощна вся сила человека.
Худого мравия не может одолеть,
Не токмо Дьявола, без Божьей благодати.
2
Пока в пустыне с бесами боролся,
Иной великой Дьявол Церковь мучал
И праведную веру искажал,
Как мурашей, святые гнезда шпарил,
Да и до нас дошел.
Отец Илья, игумен Соловецкий,
Велел писать мне книги в обличенье
Антихриста, в спасение Царя.
Никонианцы, взяв меня в пустыне,
В темнице утомили, а потом
Пред всем народом пустозерским руку
На площади мне секли. Внидох паки
В темницу лютую и начал умирать.
Весь был в поту, и внутренность горела.
На лавку лег и руку свесил – думал
Души исходу лучше часа нет.
Темница стала мокрая, а смерть нейдет.
Десятник Симеон засушины отмыл
И серою еловой помазал рану.
И снова маялся я днями на соломе.
На день седьмой на лавку всполз и руку
Отсечену на сердце положил.
И чую: Богородица мне руку
Перстами осязает. Я Ее хотел
За руку удержать, а пальцев нету.
Очнулся, а рука платком повязана.
Ощупал левой сеченую руку:
И пальцев нет, и боли нет, а в сердце радость.
Был на Москве в подворье у Николы
Угрешского. И прискочи тут скоро
Стрелецкий голова – Бухвостов – лют разбойник
И поволок на плаху на Болото.
Язык урезал мне и прочь помчал.
В телеге душу мало не вытряс мне,
Столь боль была люта…
О, горе дней тех! Из моей пустыни
Пошел Царя спасать, а языка не стало.
Что нужного, и то мне молвить нечем.
Вздохнул я к Господу из глубины души:
«О скорого услышанья Христова!»
С того язык от корня и пополз,
И до зубов дошел, и стал глаголить ясно.
Свезли меня в темницу в Пустозерье.
По двух годех пришел ко мне мучитель
Елагин – полуголова стрелецкой,
Чтоб нудить нас отречься веры старой.
И непослушливым велел он паки
Языки резать, руки обрубать.
Пришел ко мне палач с ножом, с клещами
Гортань мне отворять, а я вздохнул
Из сердца умиленно: «Помоги мне».
И в мале ощутил, как бы сквозь сон,
Как мне палач язык под корень резал
И руку правую на плахе отсекал.
(Как впервой резали – что лютый змей кусал.)
До Вологды шла кровь проходом задним.
Теперь в тюрьме три дня я умирал.
Пять дней точилась кровь из сеченой ладони.
Где был язык во рте – слин стало много,
И что под головой – всё слинами омочишь,
И ясть нельзя, понеже яди
Во рту вращати нечем.
Егда дадут мне рыбы, щей да хлеба,
Сомну в единый ком, да тако вдруг глотаю.
А по отъятии болезни от руки
Я начал правило в уме творити.
Псалмы читаю, а дойду до места:
«Возрадуется мой язык о правде Твоея», –
Вздохну из глубины – слезишка
Из глазу и покатится:
«А мне чем радоваться? Языка и нету».
И паки: «Веселися сердце, радуйся язык».
Я ж, зря на крест, реку: «Куда язык мой дели?
Нет языка в устах, и сердце плачет».
Так больше двух недель прошло, а всё молю,
Чтоб Богородица язык мне воротила.
Возлег на одр, заснул и вижу: поле
Великое да светлое – конца нет…
Налево же на воздухе повыше
Лежат два языка мои:
Московский – бледноват, а пустозерской
Зело краснешенек.
Взял на руку красной и зрю прилежно:
Ворошится живой он на ладони,
А я дивлюсь красе и живости его.
Учал его вертеть в руках, расправил
И местом рваным к резаному месту,
Идеже прежде был, его приставил, –
Он к корню и прильни, где рос с рожденья.
Возбнух я радостен: что хочет сие быти?
От времени того по малу-малу
Дойде язык мой паки до зубов
И полон бысть. К яденью и молитве
По-прежнему способен, как в пустыне.
И слин нелепых во устах не стало,
И есть язык, мне Богом данный, – новый –
Короче старого, да мало толще.
И ныне веселюсь, и славлю, и пою
Скорозаступнице, язык мне давшей новой.
3
Сказанье о кончине
Страдальца Епифания и прочих,
С ним вместе пострадавших в Пустозерске:
Был инок Епифаний положен в сруб,
Обложенный соломой, щепой и берестом
И политый смолою.
А вместе Федор, Аввакум и Лазарь.
Когда костер зажгли, в огне запели дружно:
«Владычица, рабов своих прими!»
С гудением великим огнь, как столб,
Поднялся в воздухе, и видели стрельцы
И люди пустозерские, как инок Епифаний
Поднялся в пламени божественною силой
Вверх к небесам и стал невидим глазу.
Тела и ризы прочих не сгорели,
А Епифания останков не нашли.
16 февраля 1929
Коктебель








