Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931
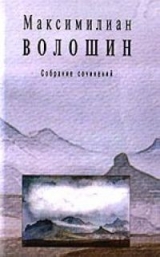
Текст книги "Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
«Что за дивная ширь! Что за чудный простор!..»
Что за дивная ширь! Что за чудный простор!
Я гляжу – оторвать просто жаль
От чудесных картин очарованный взор:
Там, направо, налево, в прозрачную даль
Убегают уступы истерзанных гор;
От вершин до подошвы покрыты они
Темным мохом дремучих столетних лесов,
И, куда ни глядишь, – всюду горы одни…
2 августа <1893>
Коктебель
«Только там, вдалеке, за границей хребта…»
Только там, вдалеке, за границей хребта,
Где сгустился туман и темней и синей,
Словно вырвавшись прочь из гранитных оков,
Протянулася даль золотистых лугов,
Широта бесконечных степей…
<Сентябрь 1893>
«Двенадцать пробило. Родился новый год…»
Двенадцать пробило. Родился новый год.
И старый новому уж место уступает.
Что нового с собой нам этот принесет?
Что жизнь старого навеки потеряет?
Я был один. Я встретил новый год
Вдали от вас, друзья мои, на юге;
Я слышал: океан бушует и ревет,
И ветра свист, и ропот южной вьюги.
Я был один. И в комнате моей
Одна свеча печально догорала…
<31 декабря 1893>
«Недавно над морем я долго стоял…»
Недавно над морем я долго стоял.
В туманной обманчивой дали
Ревел и катился бушующий вал,
Немые громады недвижимых скал
Под натиском моря дрожали.
Порывистый ветер в ущельях гудел,
И горы глядели угрюмо.
Я долго над морем стоял и смотрел,
Томимый мучительной думой.
Я думал: ты страшен, велик, океан,
Лежишь в бесконечном просторе.
Но есть и страшнее тебя великан –
И это житейское море;
Оно и грозней и опасней, чем ты,
Хоть часто в опасном покое
Ласкает и нежит и манит мечты,
Чаруя своей красотою.
Но много разбитых надежд там на дне…
<Декабрь 1893>
«Чудный мир волшебной сказки!..»
Чудный мир волшебной сказки!
Полный неги старый сад,
Освещенный весь луною,
Роз и фиалок аромат.
Воздух нежит и ласкает…
9 января 1894
Феодосия
«У ворот разрушенного храма…»
У ворот разрушенного храма,
Где сплетаются и плющ и виноград
Вкруг колонн разбитой колоннады,
Где акаций белых аромат,
Что как кружевом на сером фоне камня
Рассыпают зелень яркую ветвей,
Так струится, нежный и прекрасный;
Посреди обломков и камений
Уцелела странная статуя.
Хоть от времени потрескалась она,
Но в лице ее чудесные черты…
<Январь 1894>
«Море как зеркало. Тишь непробудная…»
Море как зеркало. Тишь непробудная.
Неизмеримый простор.
Даль синеватая, светлая, чудная
Манит, ласкает мой взор.
Скалы в воде целиком отражаются.
Жарко! Уплыть лучше в ночь!
<Между 28 июня и 3 июля 1894>
«Прекрасна благодатная…»
Прекрасна благодатная
Юга красота,
Но жажда невозвратная
Манит меня всегда.
От юга вечно ясного
На север милый мой,
Хоть меньше там прекрасного,
Зато ведь он родной.
Уж так на свете водится,
Велося так всегда –
Гора с горой не сходится
Вовеки никогда.
<Конец июня – начало июля 1894>
«Песни чудные милой отчизны моей…»
Песни чудные милой отчизны моей,
Без конца я вас слушать готов.
Родились вы в просторе зеленых степей,
В глубине лесов.
В вас
<1894>
Коктебель>
«Мне снилась ночь: в сиянии луны…»
Мне снилась ночь: в сиянии луны
Лежали бледные остатки разрушенья –
Обломки гордые далекой старины,
Развалины эпохи Возрожденья.
Лишь кое-где, изящна и стройна,
Из праха и пыли колонна возвышалась
Дорийски-строгая. Казалось, что она
Над силой времени спокойно издевалась.
Разбросаны кругом, лежали меж камней
Порталы, портики, фронтоны, изваянья,
Кентавр и сфинкс – смесь зверя и людей,
Фантазии причудливой созданья.
И мраморный раскрытый саркофаг
Лежал нетронутый под грудами развалин…
<Весна 1898
Феодосия>
«В стенах наших душных больших городов…»
В стенах наших душных больших городов,
Где нет ни простора, ни света,
Где воздух отравлен, где зелень садов
Желтеет средь знойного лета,
Где зелень лесов и раздолье полей –
В искусственных красках картины –
Мы видим при свете вечерних огней
За толстым окошком витрины.
Где даже сама чародейка-весна
Земли не ласкает цветами,
Не будит заснувшие реки от сна,
Не льется в канавках ручьями.
Давно мы отвыкли от ярких лучей,
От бодрой и светлой природы,
И нам не понятно, что шепчет ручей,
Рыданья ночной непогоды.
Степные туманы, безмолвие гор,
И звездочек светлых мерцанье,
И волн бесконечный, живой разговор,
И сосен немых очертанья.
Но здесь, под потоками ярких лучей,
Под небом родимого Крыма
Люблю я природу сильней, горячей –
Как тучки, плывущие мимо,
Спокойно скользят над моею душой
Простые и ясные думы.
Сон в Шули
<1>
В Шулинской долине привольно садам.
Кругом меловые отроги.
Отсюда к умершим давно городам
Идут через горы дороги.
В Шулинской долине – и тень и покой;
А ночью, когда разгорятся
Лучистые звезды вдали голубой,
В Шулинской долине бесшумной толпой
Виденья и тени роятся.
Видения к путнику сходят сквозь тьму,
Уйдут, возвращаются снова;
И вьются и шепчут, и снятся ему
Далекие тени былого.
II
Глядя на утесы и выступы скал,
На серые кручи, на эти
Могучие башни, я вдруг проникал
Сквозь мрак пролетевших столетий.
Спускается вечер. До слуха достиг
Ручья однозвучного ропот.
Чу! Снизу долины послышался крик
И конный отрывистый топот.
То мчится к Мангупу испуганный хан,
За ним царедворцы толпою.
Внизу по долинам ложится туман,
Поляны покрыты росою.
Чалма набекрень; отклонившись назад,
Он стиснул зубчатые шпоры.
Далёко в долине остался Албат,
Уж близки Мангупские горы.
Там в тихой долине на гребне горы –
Мангупа зубчатые стены,
Во время осады и смутной поры
Служившие ханам Равенной.
III
Торопит и бьет он нагайкой коня,
Чепрак весь от пыли белеет.
В последних лучах догоравшего дня
Вершина Мангупа алеет.
«Ах, Ваше величество! Царь из царей!
Брат солнца, властитель вселенной!
Могучий и грозный великий Гирей,
Меняйте же лошадь, бежим же скорей
За эти могучие стены!»
Так визирь великий смиренно изрек
Могучему хану Сарая –
А он и не слышит, лишь мчится вперед,
Нагайкой коня погоняя.
IV
Всё тихо. На темных мангупских стенах
Недвижно стоят часовые.
Луна, отражаясь на острых камнях,
Зажгла огоньки золотые.
А замок, окутанный тьмою, молчит,
Не слышно ни звука, ни шума…
Лишь хан у окошка безмолвно стоит,
На дальнее зарево долго глядит
И думает тяжкую думу.
Не спит и глядит он, и думает он,
Сжимая могучие руки:
«Аллах! О, ужели всё это не сон,
Все эти безумные муки?
. . . . . . . . . . . . . . .
VII
Как раненый змий, издыхает Сарай,
Убили его Московиты.
А будет и хуже! Так это и знай –
На эти долины взгляни ты.
Свежа и прекрасна родная страна,
Как гурия рая мила мне.
И будет врагами она сожжена,
И камня не будет на камне.
А после, когда разрешенье пройдет,
Замолкнет Мангуп опустелый, –
Толпа чужеземцев-гяуров придет
Разведать минувшего дело.
И будут безбожно писать на стенах
Свои имена и прозванья.
Бледнеешь! Так хочет великий Аллах –
Я знаю Аллаха желанье.
А дальше что будет – дрожи и внимай:
Сюда губернатор приедет,
И плотно закусит и выпьет здесь чай,
А после со свитой уедет.
Сынам твоим много придется терпеть,
Властитель Сарая богатый,
Твой правнук не будет Сараем владеть,
А только казенной палатой.
И скалы, пока времена пробегут,
Пребудут безмолвны и немы.
Затем – трепещи! здесь поэты пройдут
И вместе напишут поэму.
Затем предрекаю ужасные дни:
Прибудут студенты в отставке.
Поэму обдумывать станут они,
Воссевши на каменной лавке!!
<Июль 1899
Бахчисарай>
«И был туман. И средь тумана…»
И был туман. И средь тумана
Виднелся лес и склоны гор.
И вдруг широкого Лемана
Сверкнул лазоревый простор.
Зеленый остров, парус белый,
«На лоне вод стоит Шильон»,
А горы линиею смелой
Рассекли синий небосклон.
И серебристые туманы
Сползают вниз по склонам гор,
И виноградник, как ковер,
Покрыл весь берег до Лозанны
И мягко складками идет
До самой синей [глади] вод.
<1899>
«Народ – огромный, музыкальный…»
Народ – огромный, музыкальный
И очень сложный инструмент.
Лишь композитор гениальный,
Удачный выбравши момент,
С такою силою могучей
Ударить может по струнам,
Что вырвет целый ряд созвучий
Своим идеям и словам.
Когда же сам он, звуков полный,
Могучей музыкой звучит,
Так кто ж удержит, кто смирит
Его рокочущие волны?
Но вы, хотевшие лишь только,
Когда он сам был звуков полн,
Сдержать напор свободных волн…
<Январь 1900>
Берлин
«Стихи мои! Как вехи прожитого…»
Стихи мои! Как вехи прожитого
Я ставил вас на жизненном пути.
Но я так часто лгал, любуясь формой слова,
Что истину мне трудно в вас найти.
Поэзия так лжет! У каждого искусства
Такой большой запас
Готовых образов для выраженья чувства,
Красивых слов и фраз.
Красивые слова так ластятся, играют,
Послушно и легко ложатся под перо…
<Апрель 1900
Москва>
Отрывок о Тиволи
Фонтаны, аллеи… Запущенный сад…
Развалины старого дома…
Я всё это видел когда-то давно…
Мне всё это с детства знакомо…
Должно быть из сказок, наивно-простых,
Украшенных мыслью немецкой,
Которые в жизни цветут только раз
На почве фантазии детской.
И тают, как снежный узор на стекле,
При первом дыхании мысли…
В аллеях зеленый сырой полумрак,
Пушистые ветви нависли.
Горячий, трепещущий солнечный луч
Пробился сквозь ветви платана…
Блестя в темноте, и поет и звенит
Холодная струйка фонтана.
Зацветшие мраморы старых террас,
Разросшийся плющ на пороге…
В таинственных гротах одетые мхом
Забытые, старые боги…
Везде изваяния лилий – гербы
Фамилии д’Эсте старинной.
В развалинах весь восемнадцатый век:
Манерный, кокетливый, чинный,
Век фижем и мушек, Ватто и Буше,
Причудливый век превращений…
В сыром полумраке зеленых аллей
Скользят грациозные тени…
Чуть слышно атласные платья шуршат…
Со шпагой, изящен и ловок,
Идет кавалер – и мутятся ряды
Напудренных белых головок…
Проносится легкий, кокетливый смех
По дальним извивам дорожки…
По мраморным плитам широких террас
Скользят чьи-то белые ножки…
О, бедные ножки прекрасных принцесс,
Ласкавшие старые плиты!
Давно уж великой народной волной
Вы сломаны, стерты и смыты…
Другая эпоха – другой колорит:
Суровый, как бронзы Гиберти.
Ряды кипарисов и синих олив –
Печальные символы смерти.
Спокойно и тихо… Фундаменты стен.
Всё срыто, разрушено, голо…
И только горячее солнце палит
Цветные мозаики пола…
<До 20 января 1901>
«Под небом Италии вы рождены…»
Под небом Италии вы рождены,
Мои серебристые песни!
И блеском и светом они рождены,
В них всё отразилось широко:
И нега и синь средиземной волны,
И яркие краски востока.
Проникнуты солнечным зноем они…
Пусть веет от этих страниц же
Тем «югом», который так страстно манил
Великого Фридриха Ницше.
Тем «югом» искусства, ума, красоты,
Свободным, языческим югом,
К которому с детства стремились мечты
С мистическим странным испугом.
И всё, что ребенком манило меня,
Чем сердце бывало томимо,
Всё то воплотилось позднее в одном
Сияющем имени Рима.
И вот я свободен. Весь мир предо мной
И всюду мне вольная воля.
С ликующей песней, с мешком за спиной
Я шел по долинам Тироля.
На бархате ярко-зеленых лугов
Красивые церкви белели,
А выше, на фоне сияющих льдов,
Синели зубчатые ели.
«В Италию!» – громко звенело в ушах,
«В Италию!» – птицы мне пели,
«В Италию» – тихо шуршали кругом
Мохнатые старые ели.
Я шел через мхи в полумраке лесном,
Где сыростью пахло и гнилью,
Где тонкою нитью висел водопад,
Дробясь серебристою пылью.
Кровавым потоком меж темных громад
Сползают альпийские розы,
Сверкает и воет внизу водопад,
Склоняются ветви березы.
Родная березка! она здесь в горах
Казалась такой иностранкой,
Изгнанницей бедной в далеком краю,
Застенчивой русской крестьянкой.
В траве – бесконечные точки цветов,
Как в светлых пейзажах Беклина –
Мильоны фиалок, ирисов и роз,
Нарциссов, тюльпанов и тмина.
Всё выше! Веселая зелень долин
Уходит от вашего взгляда.
По узким краям недоступных стремнин
Сползает далекое стадо.
Коровы и овцы глядят на людей
С большим любопытством своими
Большими глазами. Я как-то в горах
Совсем очарован был ими.
Они всей толпой окружили меня,
Почтительно руки лизали;
Я даже подумал сперва, что они
Стихи мои, верно, читали.
Друзья же мои убедили меня,
Что я глубоко ошибался,
Что это звук «м-м-э», повторяемый мной,
Им чем-то родным показался.
<Июнь 1901
Майорка>
«В истории много магических слов…»
В истории много магических слов.
И тайная сила в их смысле
Влияет в течение целых веков
На ход человеческой мысли.
Италия! Рим! Где найдутся слова
С таким же громадным значеньем?
Да! Рим был разбойничьим страшным гнездом,
Но гнёзда бывали страшнее,
И корень величия Рима не в том,
А в том, что он грабил идеи.
И каждой идее, добытой мечом,
Давал он и власть и значенье
Всемирности. Рим был огромным котлом,
В котором свершалось броженье.
И сколько мой детский неопытный ум
Ни мучили классики в школе,
И сколько они ни терзали мой мозг,
Ни били, ни жгли, ни кололи,
Стараясь мою пробужденную мысль
Зарезать словами своими, –
Но даже они не могли омрачить,
Унизить великое имя.
<Лето 1901
Майорка>
«Солнце дымкой даль заткало…»
Солнце дымкой даль заткало,
Чайки в воздухе летят,
Всеми красками опала
В море искры блестят.
На песок сырой, играя,
Волны синие скользят,
Белой пеной потрясая,
И смеются и звенят.
И десятками дорожек,
Полусмытых от воды,
Босоногих детских ножек
Отпечатались следы.
Обхожу я осторожно
Лапки маленьких зверей…
<Лето 1901
Майорка>
Девятнадцатый век
I
Его отец был гордый, умный
Старик. Вполне аристократ,
Любивший образ жизни шумный
И дрессированных солдат.
Любивший роскошь и почет,
Игру ума и блеск острот,
Искусство, знанье и свободу,
Но не дававший их народу.
Его считали атеистом,
Но атеистом не был он:
Философ, скептик и масон,
Он был, скорей всего, деистом.
Поклонник знанья и манер, –
Его оракул был Вольтер.
II
Он жизнь свою окончил крахом,
Подобно многим из людей,
И разлетелись, стали прахом
Обломки царственных затей.
Необычайные явленья,
Отца согнавшие во гроб,
Ребенка слабого рожденье
Сопровождали. Гороскоп
Руссо с Вольтером составляли,
Им Кант немного помогал,
И Шиллер гимн ему слагал,
Неоконченное. Наброски 525
И сказку первую (едва ли
Ее тогда он понимал)
Ему сам Гёте рассказал.
III
Та сказка «Фауст». Так в начале
Его великую судьбу
Явленья эти предвещали,
Но предвещали и борьбу.
И в самый миг его рожденья
Сиявший золотом дворец,
Где умирал его отец,
Объяло пламя разрушенья.
И знамя красное свободы
Подняв высоко над толпой,
Порабощенные народы
Туда ворвались. Их толпой
Был унесен ребенок-сын
В водоворот людских пучин.
IV
Его судьбой толпа играла,
И Революция сама
Его кормилицею стала.
И грудью собственной она
Ребенка чуждого вскормила;
И эта пламенная грудь
Его согрела, возродила
И сил дала на трудный путь.
Она, как мать, его ласкала
С безумной нежностью в очах,
Его качала на руках
И Марсельезу напевала.
И колыбельной песнью был
Ему тот гимн народных сил.
V
Но скоро был наставник новый
Ему судьбой капризной дан.
Солдат упрямый и суровый,
Матреубийца и тиран,
Сын Революции Великой,
Умевший твердо управлять
Народной массой полудикой
И буйным силам выход дать.
И легковерные народы
Сдержав железною уздой,
Он успокоил их войной
И бедным призраком свободы.
Свою же собственную мать
Велел подальше он убрать.
VI
Он был его молочным братом
И сам судьбу его решил:
«Ребенок должен быть солдатом»,
И тот, едва еще ходил,
Как приступил он к воспитанью:
Велел команду исполнять
И обучал маршированью.
Ребенка стала занимать
Такая жизнь. Его игрушки
В то время были барабан,
Труба, знамена разных стран
И каски, ружья, сабли, пушки.
Он, как мы все, – ни дать ни взять
Любил в солдатики играть.
VII
(Еще не написана. Но по общему смыслу необходима).
VIII
Он рос и общее вниманье
К себе невольно привлекал,
Хотя не раз в негодованье
Почтенных старцев повергал
Своими играми, скачками,
Своим отсутствием манер
И неуместными словами.
Они в нем видели пример
Дурного тона и влиянья.
Сам дядька был с ним очень строг,
Его наказывал, чем мог,
И шло так дело воспитанья
(Не знаю, в пользу иль во вред)
Вплоть до четырнадцати лет.
IX
Уж раньше дядьки эти, или
Душеприказчики отца
Его покойного, решили,
Что это длится без конца,
Что им – опекунам присяжным –
Пора к рукам его прибрать
И, приступив к реформам важным,
Решили дядьке отказать.
Тут инцидент один случился:
Он отказался уходить.
Пришлося силой удалить:
Ушел, потом опять явился,
Прогнали снова, и тогда
Исчез он вновь и навсегда.
X
Итак, в системе воспитанья
Произошел переворот.
Теперь иные истязанья
Ему готовились. И вот,
Чтоб толковать о перемене
И обсудить вполне предмет,
Опекуны собрали в Вене
Педагогический совет.
И там пришли они к решенью,
Что все влиянья прежних лет
Приносят наибольший вред
И подлежат искорененью.
Ввиду чего был отдан он
В один закрытый пансион.
И он широкими глазами
На мир испуганно глядел,
А мир, повитый облаками,
В осенних сумерках синел.
«И было время, час девятый».
Всё тихо было. И сквозь сон
Лишь бред Италии распятой
Во мгле унылой слышал он.
Да чьи-то слышались рыданья
У одинокого креста,
Где умирали красота
И мысль, и слово, и сознанье.
И в этот страшный крестный час
Сверкнул огонь – и вдруг угас…
Он создан был из тьмы и света,
Великим гневом потрясен,
Как раскаленная комета
В стране туманов вспыхнул он.
Погрязших в будничных заботах
Он испугал, он ослепил –
И вдруг угас в гнилых болотах
Восставшей Греции. Он был
Одним могучим воплощеньем
Протеста личности.
У слова две великих силы –
Негодование и смех.
Они разят, как меч Атиллы,
Разврат и пошлость, зло и грех.
И если гневу как помеха
Сам стих послужит, может быть,
То против буйной силы смеха
Ничто не сможет защитить.
Когда огнем негодованья
Искоренить живой порок
Не может пламенный пророк,
То в буйном вихре ликованья
Приходит песня к ним – и он
Навеки смехом заклеймен.
И в этих песнях, где звучали
И жёлчный хохот, полный слез,
И бодрый гимн, и стон печали,
И недосказанный вопрос,
Для юной мысли мир прекрасный
Разверзся в ярком блеске звезд
И в ней зажег еще неясный,
Еще не сознанный протест.
И как сквозь дымку покрывала
Пред взглядом умственных очей,
В сияньи радостных лучей
Виденье той пред ним вставало,
Кого он в юности считал
За свой бессмертный идеал.
Тот образ, смутный и неясный
Его любовью первой был.
И чары юности прекрасной
Ему он свято посвятил.
Он слил в нем лучшее, что стало
Его природой: ум отца,
Революцьонное начало,
Листы лаврового венца
И бесконечные походы,
И шепот дальней старины,
И философию, и сны –
Всё в чистом образе свободы
Он мыслью творческою слил
И первой страстью полюбил.
И стал он юношей. И стали
Бродить в нем признаки весны,
Но перемен не замечали
В нем лишь одни опекуны.
Они совсем не замечали
Что сквозь цензурные тиски
Уж мысли новые сверкали,
Что стали ветхи и узки
На муже детские одежды,
Что из-под временных заплат
Живые мускулы глядят,
И всё лелеяли надежды,
Что целый век и весь народ
Ребенком в землю и сойдет…
Да! Много вас – компрачикосов
Свободной мысли. Сколько зла,
Каких пороков и вопросов
В нем эта жизнь не родила.
В какие цепи вы сковали,
Какими пытками терзали
Его вы мысль. И, может быть,
Источник жизни замутить
Вам удалось. Хотя казалось,
Что он окончил как герой
С врагом своим неравный бой,
Но только в старости сказалась
Та ломка и та трата сил,
С которой вас он победил.
То было радостное время,
Когда в Европе молодой
Идеалистов юных племя
Явилось шумною толпой.
Ничто им трудным не казалось.
Их мысль, как пряди их волос,
Победоносно развивалась.
На каждый заданный вопрос
Они ответ найти желали
Не в небесах, а на земле.
В аудитории Мишле
В немом восторге замирали.
И шум победный их знамен
Уже звучал со всех сторон.
В College de France лились потоки
Горячих мыслей. На земле
Явились новые пророки:
Кине, Мицкевич и Мишле.
И всех племен и всех наречий
В Париж стекалась молодежь
Послушать огненные речи.
Ее охватывала дрожь
При чудном имени «Свобода» –
И зрела в недрах городов
Дружина будущих бойцов,
«Освободителей народа».
То было время (странно это),
Когда Германия слыла
Страной безвольного Гамлета,
В ней философия цвела,
А не наука истребленья.
В ней был поэт и не один;
В то время центром просвещенья
Был скромный Веймар – не Берлин.
К ногам возлюбленной Свободы
Все силы духа он сложил…
Он для нее трудился годы,
Страдал, боролся и любил.
Но, как Иаков у Лавана,
Опекунами сделан он
Был жертвой наглого обмана:
Когда он, счастьем упоен,
Сорвал с невесты покрывало…
Мечты рассеялись как дым –
То не Свобода перед ним,
А Конституция стояла…
Любовь, мечты, труд стольких лет
Всё был один наивный бред.
Плоды фантазии прекрасной,
Порывы юношеских грёз!
Вас вихрь холодный и ненастный
Сломил, развеял и унес.
Так вслед за сломанною розой
Уходит робкая весна,
Когда пустой и мутной прозой
Обдаст житейская волна.
И иногда потом – случайно
Средь «трезвых» мыслей и идей
Мелькнут виденья прежних дней –
Мелькнут и прочь уходят тайно,
Как трепет жизни молодой,
Как тихий звук во тьме ночной…
Под белой тканью покрывала
Она, сокрыта от людей,
В Египте некогда стояла
И «тайна» было имя ей.
В Элладе в виде человека
Она изваяна была.
И глыба камня ожила
В объятьях пламенного грека.
И пал он ниц пред ней – святой
Обожествленной «красотой».
Израиль тоже в дни иные
Ее прихода ожидал
На землю в образе «Мессии».
Железный Рим отождествлял
Всё то, что сделал он когда-то
В единой творческой мечте.
Другие верят, что распята,
Она страдала на кресте.
Со взглядом, полным детской ласки,
Суровый рыцарь едет вдаль
Святой отыскивать Грааль.
Она же спит в немецкой сказке,
Спит много лет и только ждет,
Когда возлюбленный придет.
Так, в вечной смене расстояний,
Эпох и наций, человек
Давал ей тысячи названий
И новых форм. Но прошлый век
Ее любовно звал «Наукой».
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Теперь он стар. Уж скоро минет
Ему сто лет и он умрет.
И жизнь на поле мира двинет
Ряд новых мыслей и забот.
Но он всё грезит, как когда-то,
В период веры молодой.
Так схож печальный блеск заката
С победной утренней зарей.
<Декабрь 1898 – Август 1901
Москва, Вальдемоза>








