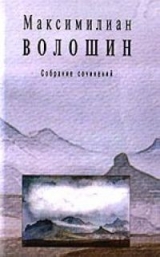
Текст книги "Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Венер
Уж давно закат усталый,
Грустный, алый
Догорал.
И вставал в дали прозрачной
Грозный, мрачный
Черный вал.
На песок холодный, влажный,
Гордый, важный
Он взбегал
И, взметнувшись вверх высоко,
Вдруг глубоко
Он вздыхал.
И сражен в борьбе великой
С песнью дикой
Умирал…
На просторе ширь морская,
Вся сверкая
Багрецом,
Волновалась и шумела,
И горела,
Как огнем…
<1900 – начало 1901?>
«Стемнело. И черные тени…»
Стемнело. И черные тени
На серые стены легли.
А мы всё сидели с тобою
И тихие речи вели…
И всё говорили о разных
Совсем нам ненужных вещах –
Ненужных и серых, как тени
На этих угрюмых стенах,
Ненужных и серых. Но что-то
Звучало сильнее речей…
К плечу голова опускалась,
Сплеталися руки тесней…
И что-то в душе разрасталось
И было так ясно, без слов…
Но ты вдруг сказала, вставая:
«Пойдемте-ка – ужин готов».
<Январь 1901?>
Камни Парижа
В поэзии старых больших городов
Есть близкое что-то к природе:
Стихийною силою веет от них.
И в уличном шуме, в народе,
Струящемся бурной и пестрой волной,
Когда приглядишься поближе,
Услышишь рев бури и дальний прибой…
Я помню, бывало, в Париже
Дыханье всемирной столицы внимал
Я с дикой и странной любовью:
Здесь каждый вершок обагрен и облит
Героев священною кровью;
Есть жгучее что-то в его мостовой,
Вспоённой волною восстаний
И веет дыханьем борьбы вековой
От этих соборов и зданий…
Сперва он меня и пугал, и давил
Своей красотой непонятной,
Но после, как женщину, я полюбил
Весь этот Париж необъятный
Спускается вечер, и ясен, и тих,
Струится красавица Сена.
Оттенки прозрачны, как пушкинский стих,
Как краски у Клода Лоррена.
И вот огоньки уж на Сене зажглись,
И высится, мрачен и страшен,
Темнеющей массой Palais de Justice
С рядами таинственных башен.
Кипящая жизнь подмывает волной
Старинные зданья и стены
И лижет, и точит гранит вековой,
Как воды красавицы Сены.
Но вся пестрота этой жизни людской,
Безумно несущейся мимо,
Без этих остатков минувших веков
Была бы почти нестерпима.
Они в нее вносят трагичный аккорд,
Как реквием отжитой силе.
Так мумии предков на древних пирах
Меж пьяных гостей проносили.
В глухих переулках молчанье и тишь,
Здесь звуки и блеск угасают
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
О, камни Парижа! О, если б они
Былое поведать могли бы!
На площади башни чернеют во тьме,
Как две сталактитовых глыбы.
Воспетый поэтом собор Notre Dame!
Фантазии юной приманки!
Напрасно искал я на темных стенах
Зловещее слово «αναγκη».
Всё стерто. Израненный, старый собор
Чуть виден средь мрака ночного,
Но самое кружево черных камней
Сплетается в страшное слово.
Здесь поле иной грандиозной борьбы:
Теперь торжествует мещанство.
Надломлена сила великих церквей,
Могучих твердынь христианства.
Да будет! Сияющий разум стряхнет
Оковы и веры, и чувства!
Мне жаль только этот таинственный мир
Забытого ныне искусства.
Прохладу и сумрак старинных церквей,
Проникнутых тихой любовью,
Где весь отдаешься невольно во власть
Прекрасному средневековью.
Слегка выделяясь, во мраке видны
Пилястры, карнизы, оконца.
И только розетки сияют вверху,
Как два фиолетовых солнца.
Висят разноцветные нити лучей,
На сводах дрожащие пятна,
Весь сумрак какой-то прозрачный, цветной,
Таинственно-тихий, понятный…
А в окнах… там целый особенный мир
Готических старых соборов –
Вся эта гармония красок, цветов,
Фигур, переплетов, узоров.
Теперь там всё тихо. Трепещущий свет
Едва озаряет ступени,
Статуи и стены. От темных колонн
Ложатся гигантские тени.
И тени шевелятся, тянутся вверх,
Как длинные черные руки,
И вдруг раздвигают покров тишины
Органа могучие звуки…
И тяжко вздыхает огромный собор,
Рокочут далекие своды,
И тихо, и глухо им вторят из тьмы
Пустых галерей переходы.
В глухих переулках молчанье и тишь.
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
Слепыми глазами большие дома
Глядят в темноту. Оживают
И шепчутся камни при звуке шагов,
И беглые тени мелькают…
Вот Лувр. Расцветал он как чудный цветок
В течение долгих столетий.
Как сердце Парижа, он рос вместе с ним,
И камни священные эти
Слагал в бесконечной работе веков
Бесчисленный ряд поколений.
Теперь там сквозь окна при свете луны
Виднеются белые тени.
Там белые мраморы в залах стоят,
Их лица прекрасны и строги.
Повиты туманною дымкой веков,
Там дремлют античные боги,
И слышится мраморный гимн красоте
В созвучьях ритмических линий…
Там в зале на пурпурном фоне встает
Таинственный облик богини.
В лице ее только одна красота:
Ни горя, ни счастья, ни муки…
Мучительно-дивной загадкой у ней
Отломаны чудные руки.
Глядел я, и делались эти черты
Всё чище, понятней и ближе.
И… виделось старое кладбище мне
Одной из окраин в Париже.
Кругом монументы богатых мещан,
И скромно лежит между ними
Простая могила. На белой плите
Написано славное имя
Того, кто бессменно стоял на часах
У трупа заснувшей свободы,
Когда, истомленные страшной борьбой,
Во тьме задыхались народы.
В то время в развалинах старых твердынь
Шипели и ползали гады,
И молча защитники света во тьме
Слагали свои баррикады.
И лишь наступали чудовища тьмы,
Тогда начиналась потеха,
И он пригвождал их к позорным столбам
Сверкающей молнией смеха.
Но часто в ликующем вихре борьбы
Неверны бывали прицелы,
И верных друзей поражали не раз
Его ядовитые стрелы…
Родился не здесь он, родился в стране
Преданий и сказок – на Рейне,
Где высятся замки и льется рейнвейн,
И звался он Генрихом Гейне.
Но даже по смерти язвит его вновь
Врагов ядовитое жало:
Мещанская пошлость и злоба ему
В посмертном венце отказала.
Где памятник Гейне? Поэт оскорбил
Немецкую скромность стихами!!!
Зато на чужбине могилу его
Украсили люди цветами:
Над нею склонились цветы хризантем
И грустные белые розы…
Сбылось предсказанье поэта: в цветы
Теперь расцвели его слезы.
И здесь, у подножья богини – в лучах
Холодного лунного света,
Мне чудился бледный, прекрасный, немой
Страдальческий облик поэта.
Больной он приплелся сюда…
И сел. Бесконечное чувство
Любви и страданья в глазах… а лицо
Всё залито светом искусства.
Он с нею прощался… Он встал и пришел,
Собравши последние силы,
И больше не мог уже встать никогда
Со страшной «матрацной могилы».
Но в нем не угасла горячая мысль,
Она еще долго боролась,
А в трупе жил только сверкающий смех
И ясный, чарующий голос…
В глухих переулках молчанье и тишь,
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
Чем ближе к бульварам, тем звуки слышней:
Там вечная кипень людская,
Там вечный поток разноцветных огней
Несется, гремя и сверкая.
Но только люблю я не эту толпу
Бульваров, кофеен и прочих
Вертепов и зрелищ – люблю я толпу
Здоровых парижских рабочих.
Я помню картину: народ затопил
Все окна, балконы, веранды.
На старых деревьях бульваров висят
Парижских мальчишек гирлянды.
Знамена и солнце… Струится толпа
Рекой разноцветной, веселой…
То здесь загорится, то вспыхнет вдали
Горячий мотив карманьолы,
И вдруг разольется как вихрь, как пожар,
Подхватит, как буря… Тогда мне
Казалось, что здесь, у меня под ногой,
Шевелятся самые камни,
Что стоит дать волю вражде вековой,
Безумной, слепой, но понятной –
И в щепы размечет толпа, разнесет
Весь этот Париж необъятный.
Но нынче он весел – державный народ.
Проходят за ротами роты
Рабочих и женщин, и снова горят
И искрятся смех и остроты.
Я видел, как школьники-дети несли
Огромное красное знамя
С девизом «Ni dieu et ni maitre!» Девиз,
Написанный их же руками!
Да, Франция может без страха глядеть.
Чего ей бояться на свете,
Когда из ее материнской груди
Выходят подобные дети.
В глухих переулках молчанье и тишь,
И шум, и огни угасают…
И только в пролетах карнизов и крыш
Далекие звезды сияют.
В красивом развесистом парке Монсо
Есть мраморный бюст Мопассана,
И девушка тихо задумалась там
Над мраморной книжкой романа.
Я долго стоял и глядел на него…
Далекие звуки рыдали…
Осенние листья носились над ним
И мраморный лоб целовали…
На улицах всюду молчанье и тишь.
И шум, и огни угасают.
И шепчет сквозь сон необъятный Париж,
И ясные звезды мерцают…
<Январь 1900 – февраль 1901>
«Жизнь – бесконечное познанье…»
Жизнь – бесконечное познанье…
Возьми свой посох и иди! –
…И я иду… и впереди
Пустыня… ночь… и звезд мерцанье.
<1901>
К Герцену
Слава великим гробам!
Тучи сгущаются снова…
Но недоступна рабам
Тайна свободного слова.
Раб обнажил уже меч,
Стонет и рушится зданье.
Куйте ж свободную речь
В огненном горне познанья.
12 мая 1902
Париж
«На заре. Свежо и рано…»
На заре. Свежо и рано.
Там вдали передо мною
Два столетние каштана,
Обожженные грозою.
Уж кудрявою листвою
На одном покрылась рана…
А другой в порыве муки
Искалеченные руки
Поднял с вечною угрозой –
Побежденный, но могучий,
В край, откуда идут грозы,
Где в горах родятся тучи.
И, чернея средь лазури,
Божьим громом опаленный,
Шлет свой вызов непреклонный
Новым грозам, новой буре.
Над чернеющими пнями
Свежесрубленного леса
Шепчут тонкие побеги
Зеленеющих берез.
А в лесу темно, как в храме,
Елей темная завеса,
Пахнет хвоей под ногами,
И, как гроздья, среди леса
Всюду пятна птичьих звезд.
И от карканья ворон
Гул стоит со всех сторон,
Как торжественный, спокойный
Колокольный мерный звон –
Гулкий, стройный
и унылый…
А над срубленными пнями,
Как над братскою могилой,
Тихо двигая ветвями,
Им березы шелестят…
«Мир уставшим… Мир усопшим», –
Вместе с дальним гулом сосен,
Наклоняясь, говорят…
И им вторит издалёка,
Нарушая цепь их дум,
Рокот вольного потока –
Вечной Жизни бодрый шум.
Думой новою объятый,
Я стою… И мне слышны
Словно дальние раскаты
Человеческой волны…
<23 июля 1902
Неаполь>
«Я – Вечный Жид. Мне люди – братья…»
Я – Вечный Жид. Мне люди – братья.
Мне близки небо и земля.
Благословенное проклятье!
Благословенные поля!
Туда – за грань, к пределам сказки!..
Лучи, и песни, и цветы…
В полях люблю я только краски,
А в людях только бред мечты.
И мир как море пред зарею,
И я иду по лону вод,
И подо мной и надо мною
Трепещет звездный небосвод…
Ноябрь (?) 1902
Париж
«Город умственных похмелий…»
Город умственных похмелий,
Город призраков и снов.
Мир гудит на дне ущелий
Между глыбами домов.
Там проходят миллиарды…
Смутный гул шагов людских
К нам доносится в мансарды,
Будит эхо в мастерских…
В мир глядим с высоких гор мы,
И, волнуясь и спеша,
Шевелясь, родятся формы
Под концом карандаша.
Со сверкающей палитры
Льется огненный поток.
Солнца больше чтить не мог
Жрец Ормузда или Митры.
Днем я нити солнца тку,
Стих певучий тку ночами,
Серый город я затку
Разноцветными лучами.
По ночам спускаюсь вниз
В человеческую муть я,
Вижу черных крыш карниз,
Неба мокрого лоскутья.
Как большие пауки,
Ветви тянутся из мрака,
Камни жутко-глубоки
От дождливых бликов лака.
<До 6 января 1904
Париж>
Tete Inconnue
Во мне утренняя тишь девушки.
Во мне молчанье непробужденной природы,
Тайна цветка, еще не распустившегося.
Я еще не знаю пола.
Я вышла, как слепая жемчужина, из недр природы.
Мои глаза еще никогда не раскрывались.
Глубокие нити связывают меня с тайной,
И я трепещу от дуновений радости и ужаса.
Меч вожделения еще не рассек моей души.
Я вся тайна. Я вся ужас. Я вся тишина.
Я молчание.
<Январь 1904>
«Весна» Миллз
В голосе слышно поющее пламя,
Точно над миром запела гроза.
Белые яблони сыплют цветами,
В туче лиловой горит бирюза.
Гром прокатился весеннею сказкой,
Влажно дыханье земли молодой…
Буйным порывом и властною лаской
Звуки, как волны, вздымает прибой.
<Февраль-март> 1904
Париж
«Весна идет, щебечут птицы…»
Весна идет, щебечут птицы,
Прозрачный воздух свеж и тих.
На эти белые страницы
Я заношу Вам первый стих.
Весна идет. Вольна дорога,
Вольнее крылья вешних птиц.
И в книге жизни очень много
Не зарисованных страниц.
<Весна 1905
Париж>
«И с каждым мгновеньем, как ты отдалялась…»
И с каждым мгновеньем, как ты отдалялась,
Всё медленней делались взмахи крыла…
Знакомою дымкой душа застилалась,
Знакомая сказка по векам плыла…
И снова я видел опущенный локон,
Мучительно тонкие пальцы руки;
И чье-то окно среди тысячи окон,
И пламенем тихим горят васильки…
…Я видел лицо твое близким и бледным
На пурпурно-черном шуршащем ковре…
Стволы-привиденья, и с гулом победным
Великий и Вещий сходил по горе…
И не было мыслей, ни слов, ни желаний,
И не было граней меж «я» и «не я»,
И рос нераздельный, вне снов и сознаний,
Единый и цельный покой бытия…
28 августа 1905
Париж
«Лежать в тюрьме лицом в пыли…»
Казнимый может при известных условиях считаться живым, провисев в петле не только минуты, но даже и часы. Современная же медицина не имеет еще надежных способов для определения момента наступления действительной смерти.
Проф. П. Минаков. Рус. Ведом. № 244
Лежать в тюрьме лицом в пыли
Кровавой тушей, теплой, сильной…
Не казнь страшна… не возглас «пли!»
Не ощущенье петли мыльной.
Нельзя отшедших в злую тень
Ни потревожить, ни обидеть.
Но быть казнимым каждый день!
И снова жить… и снова видеть…
Переживя свою судьбу,
Опять идти к крестам забытым,
Лежать в осмоленном гробу
С недоказненным, с недобитым.
И каждый день и каждый час
Кипеть в бреду чужих мучений…
Так дайте ж смерть! Избавьте нас
От муки вечных возрождений!
<После 5 октября 1905>
Набат
Набат гудит… Иду! Иду!
Сейчас, теперь – во сне, в бреду.
Как гулко бьется сердце башни,
Опалено, потрясено…
А сквозь зубчатое окно
Синеет даль, желтеют пашни…
Перебивая, торопясь,
Как змеи черные виясь,
И завиваясь в складки знамени,
Удар за ударом
Гудящим пожаром,
Клубами ревущего пламени,
Гудя, вырастая,
К земле припадая,
Неся миллионы бичей
Спокойствию будней,
Летит над затишьем янтарных полудней
Торжественно мирных полей.
Удар за ударом бичует и хлещет,
И жжет мою душу и мечется в ней.
И башня собора гудит и трепещет
До самых гранитных корней.
И сердце, сожженное жгучим приливом,
Сжимая руками, слепой, как в бреду –
За огненным кличем, за Божьим призывом
Иду!
Осень 1906
«Я здесь расту один, как пыльная агава…»
Я здесь расту один, как пыльная агава,
На голых берегах, среди сожженных гор.
Здесь моря вещего глаголящий простор
И одиночества змеиная отрава.
А там, на севере, крылами плещет слава,
Восходит древний бог на жертвенный костер,
Там в дар ему несут кошницы легких Ор…
Там льды Валерия, там солнца Вячеслава,
Там брызнул Константин певучих саламандр,
Там снежный хмель взрастил и розлил Александр,
Там Лидиин «Осел» мечтою осиян
И лаврами увит, там нежные Хариты
Сплетают верески свирельной Маргариты…
О мудрый Вячеслав, Χαιρη! – Максимильян.
Апрель 1907
Коктебель
«Дубы нерослые подъемлют облак крон…»
Дубы нерослые подъемлют облак крон.
Таятся в толще скал теснины, ниши, гроты,
И дождь, и ветр, и зной следы глухой работы
На камне врезали. Источен горный склон,
Расцвечен лишаем и мохом обрамлен,
И стены высятся, как древние киоты:
И чернь, и киноварь, и пятна позолоты,
И лики стертые неведомых икон.
<1909
Коктебель>
«Я не пойду в твой мир гонцом…»
Я не пойду в твой мир гонцом,
Но расстелюсь кадильным дымом –
В пустыне пред Твоим лицом
Пребуду в блеске нестерпимом.
Я подавил свой подлый крик,
Но я комок огня и праха.
Так отврати ж свой гневный лик,
Чтоб мне не умереть от страха…
Сиянье пурпурных порфир
Раскинь над славе предстоящим.
…И кто-то в солнце заходящем
Благословляет темный мир.
<Начало 1910>
«День молочно-сизый расцвел и замер…»
День молочно-сизый расцвел и замер;
Побелело море; целуя отмель,
Всхлипывают волны; роняют брызги
Крылья тумана.
Обнимает сердце покорность. Тихо…
Мысли замирают. В саду маслина
Простирает ветви к слепому небу
Жестом рабыни.
<22 февраля 1910
Коктебель>
Надписи на книге
<1>
Богаевскому
Киммериан печальная страна
Тебя в стенах Ардавды возрастила.
Ее тоской навеки сожжена,
Твоя душа в горах ее грустила,
Лучами звезд и ветром крещена.
7 марта 1910
Феодосия
<2>
Алекс. Мих. Петровой
Тысячелетнего сердца семь раз воскресавшей Ардавды
Вещий глухой перебой, вещая, слушаешь ты!
6 марта 1910
Феодосия
<3>
Сергею Маковскому
В городе шумном построил ты храм Аполлону Ликею,
Я ж в Киммерии алтарь Горомедону воздвниг
7 марта 1910
Феодосия
«В полдень был в пустыне глас…»
В полдень был в пустыне глас:
«В этот час
Встань, иди и всё забудь…
Жгуч твой путь».
Кто-то, светел и велик,
Встал на миг.
В полдень я подслушал сны
Тишины.
Вестник огненных вестей,
Без путей
Прочь ушел я от жилищ,
Наг и нищ.
И среди земных равнин
Я один.
Нет дорог и граней нет –
Всюду свет.
Нету в жизни ничего
Моего,
Розлил в мире я, любя,
Сам себя.
Всё, что умерло в огне, –
Всё во мне.
Всё, что встало из огня, –
Часть меня.
Толща скал и влага вод –
Всё живет.
В каждой капле бытия –
Всюду я.
Влажный шар летит, блестя, –
Бог-Дитя.
Пламя радостной игры –
Все миры.
9 апреля 1910
«К Вам душа так радостно влекома…»
Марине Цветаевой
К Вам душа так радостно влекома!
О, какая веет благодать
От страниц «Вечернего альбома»!
(Почему «альбом», а не «тетрадь»?)
Почему скрывает чепчик черный
Чистый лоб, а на глазах очки?
Я заметил только взгляд покорный
И младенческий овал щеки,
Детский рот и простоту движений,
Связанность спокойно-скромных поз…
В Вашей книге столько достижений…
Кто же Вы? Простите мой вопрос.
Я лежу сегодня: невралгия,
Боль, как тихая виолончель…
Ваших слов касания благие
И в стихах крылатый взмах качель
Убаюкивают боль… Скитальцы,
Мы живем для трепета тоски…
(Чьи прохладно-ласковые пальцы
В темноте мне трогают виски?)
Ваша книга странно взволновала –
В ней сокрытое обнажено,
В ней страна, где всех путей начало,
Но куда возврата не дано.
Помню всё: рассвет, сиявший строго,
Жажду сразу всех земных дорог,
Всех путей… И было всё… так много!
Как давно я перешел порог!
Максимилиан ВОЛОШИН
Кто Вам дал такую ясность красок?
Кто Вам дал такую точность слов?
Смелость всё сказать: от детских ласок
До весенних новолунных снов?
Ваша книга – это весть «оттуда»,
Утренняя, благостная весть…
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: «Чудо – есть!»
2 декабря 1910
Москва
<Четверостишия>
1
Как ночь души тиха, как жизни день ненастен.
Терновый нимб на каждой голове.
Я сном души истоку солнц причастен.
Я смертью, как резцом, изваян в веществе.
2
Возьми весло, ладью отчаль,
И пусть в ладье вас будет двое.
Ах, безысходность и печаль
Сопровождают всё земное.
3
Молчат поля, молясь о сжатом хлебе,
Грустят вершины тополей и верб.
И сердце ждет, угадывая в небе
Невидный лунный серп.
4
Из края в новый край и от костра к костру
Иду я странником, без [веры], без возврата.
Я в каждой девушке предчувствую сестру,
Но между юношей ищу напрасно брата.
5
Цветов развертывая свиток,
Я понял сердца тайный крик:
И пламя пурпурных гвоздик,
И хрупкость белых маргариток.
<1911>
«Я люблю тебя, тело мое…»
Я люблю тебя, тело мое –
Оттиск четкий и верный
Всего, что было в веках.
Не я ли
В долгих планетных кругах
Создал тебя?
Ты летопись мира,
Таинственный свиток,
Иероглиф мирозданья,
Преображенье погибших вселенных.
Ты мое знамя,
Ты то, что я спас
Среди мировой гибели
От безвозвратного небытия.
В день Суда
Я подыму тебя из могилы
И поставлю
Пред ликом Господним:
Суди, что я сделал!
18 августа 1912
«Радость! Радость! Спутница живая…»
Радость! Радость! Спутница живая,
Мы идем с тобой рука с рукой,
Песнями колдуя над землей,
Каждым шагом жизнь осуществляя.
В творческих страданьях бытия
Ты всегда со мной. В порыве воли,
В снах любви и в жале чуткой боли
Твой призыв угадываю я.
Но в часы глухих успокоений
Отдыха, в минуты наслаждений
Я один и нет тебя со мной.
Ты бежишь сомненья и ущерба.
Но в минуты горечи страстной
Ты цветешь, весенняя, как верба.
<1912>
Майе
Когда февраль чернит бугор
И талый снег синеет в балке,
У нас в Крыму по склонам гор
Цветут весенние фиалки.
Они чудесно проросли
Меж влажных камней в снежных лапах,
И смешан с запахом земли
Стеблей зеленых тонкий запах.
И ваших писем лепестки
Так нежны, тонки и легки,
Так чем-то вещим сердцу жалки,
Как будто бьется, в них дыша,
Темно-лиловая душа
Февральской маленькой фиалки.
<28 января 1913
Москва>
Лиле Эфрон
Полет ее собачьих глаз,
Огромных, грустных и прекрасных,
И сила токов несогласных
Двух близких и враждебных рас,
И звонкий смех, неудержимо
Вскипающий, как сноп огней,
Неволит всех, спешащих мимо,
Шаги замедлить перед ней.
Тяжелый стан бескрылой птицы
Ее гнетет, но властный рот,
Но шеи гордый поворот,
Но глаз крылатые ресницы,
Но осмугленный стройный лоб,
Но музыкальность скорбных линий
Прекрасны. Ей родиться шло б
Цыганкой или герцогиней.
Все платья кажутся на ней
Одеждой нищенской и сирой,
А рубище ее порфирой
Спадает с царственных плечей.
Всё в ней свободно, своенравно:
Обида, смех и гнев всерьез,
Обман, сплетенный слишком явно,
Хвосты нечесаных волос,
Величие и обормотство,
И мстительность, и доброта…
Но несказанна красота,
И нет в моем портрете сходства.
29 января 1913
Москва








