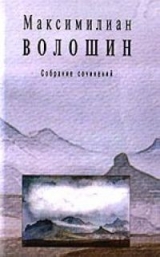
Текст книги "Том 2. Стихотворения и поэмы 1891-1931"
Автор книги: Максимилиан Волошин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Снова
Мы встретились в безлюдьи. И, как прежде,
Черт твоего лица
Различить не могу. Не осужденье,
Но пониманье
В твоих глазах.
Твое уединенье меня пугает.
Твое молчанье горит во мне.
Ты никогда ни слова
Мне не сказал, но все мои вопросы
В присутствии твоем
Преображались
В ответы…
Ты встречный, ты иной,
Но иногда мне кажется,
Что ты –
Я сам.
Ты приходил в часы,
Когда отчаяние молчаньем просветлялось,
Тебя встречал я ночью, или
На закате… и ветер падал.
Ты живешь в пустынях,
Пути усталости вели всегда к тебе.
О, если б иначе тебя увидеть,
Если б ты пришел
В момент восторга,
Чтоб разглядеть я мог
Твое лицо.
9 июля 1914
«Плывущий за руном по хлябям диких вод…»
Плывущий за руном по хлябям диких вод
И в землю сеющий драконьи зубы, вскоре
Увидит в бороздах не озими, а всход
Гигантов борющихся… Горе!
3 февраля 1915
«И был повергнут я судьбой…»
И был повергнут я судьбой
В кипящий горн страстей народных –
В сей град, что горькою звездой
Упал на узел токов водных.
<1915>
«Чем глубже в раковины ночи…»
Чем глубже в раковины ночи
Уходишь внутренней тропой,
Тем строже светит глаз слепой,
А сердце бьется одиноче…
<1915>
Петербург
Бальмонту
Над призрачным и вещим Петербургом
Склоняет ночь край мертвенных хламид.
В челне их два. И старший говорит:
«Люблю сей град, открытый зимним пургам
На тонях вод, закованных в гранит.
Он создан был безумным Демиургом.
Вон конь его и змей между копыт:
Конь змею – „Сгинь!“, а змей в ответ: „Resurgam!“
Судьба империи в двойной борьбе:
Здесь бунт, – там строй; здесь бред, – там клич судьбе.
Но вот сто лет в стране цветут Рифейской
Ликеев мирт и строгий лавр палестр»…
И, глядя вверх на шпиль Адмиралтейский,
Сказал другой: «Вы правы, граф де Местр».
8 февраля 1915
«Нет в мире прекрасней свободы…»
Нет в мире прекрасней свободы,
Чем в наручнях. Вольной мечте
Не страшны темничные своды.
Лишь в узах, в огне, на кресте
Плененных архангелов крылья
Сверкают во всей красоте.
Свобода – в стесненном усильи,
В плененном полете комет
И в гордом молчаньи бессилья.
Смиренья не будет и нет.
Мгновенно из камня и стали
Рождается молнийный свет.
Лишь узнику ведомы дали!
10 февраля 1915
Париж
Париж зимою
Слепые застилая дни,
Дожди под вечер нежно-немы:
Косматые цветут огни,
Как пламенные хризантемы,
Стекают блики по плечам
Домов, лоснятся на каштанах,
И город стынет по ночам
В самосветящихся туманах…
В ограде мреет голый сад…
Взнося колонну над колонной,
Из мрака лепится фасад –
Слепой и снизу осветленный.
Сквозь четкий переплет ветвей
Тускнеют медные пожары,
Блестят лучами фонарей
Пронизанные тротуары.
По ним кипит людской поток
Пьянящих головокружений –
Не видно лиц, и к стеблям ног
Простерты снизу копья теней.
Калится рдяных углей жар
В разверстых жерлах ресторанов,
А в лица дышит теплый пар
И запах жареных каштанов.
20 апреля 1915
Париж
«Верь в безграничную мудрость мою…»
Верь в безграничную мудрость мою.
Заповедь людям двойную даю.
Сын благодати и пасынок нив!
Будь благодарен и будь справедлив!
Мера за меру. Добро за добро.
Честно сочти и верни серебро.
Да не бунтует мятежная кровь,
Равной любовью плати за любовь.
Два полюбивших да станут одно,
Да не расплещут святое вино.
<1915
Париж>
«Широки окоёмы гор…»
Марии Сам. Цетлин
Широки окоёмы гор
С полета птицы.
Но еще безбрежней простор
Белой страницы.
Ты дала мне эту тетрадь
В красном сафьяне,
Чтоб отныне в ней собирать
Ритмы и грани.
Каждый поющий мне размер,
Каждое слово –
Отголоски гулких пещер
Мира земного, –
Вязи созвучий и рифм моих –
Я в ней раскрою,
И будет мой каждый стих
Связан с тобою.
14 марта 1919
Одесса
«С тех пор как в пламени косматом и багровом…»
С тех пор как в пламени косматом и багровом
Столетья нового четырнадцатый Лев
Взошел, рыкающий, и ринулся на землю,
И солнце налилось багровой дымной кровью,
И все народы мира, охваченные страстью,
Сплелись в объятии смертельном и любовном,
Мир сдвинулся и разум утратил равновесье.
Мой дух был опрокинут в кромешной тьме.
И так висящий в беспредельном мраке
Сам внутри себя, лишенный указаний
И не зная в темноте, где верх, где низ,
Я как слепец с простертыми руками
И ощупью найти опору в самом себе
Хочу.
12 сентября 1919
Коктебель
«Мир знает не одно, а два грехопаденья…»
Мир знает не одно, а два грехопаденья:
Грехопаденье ангелов и человека.
Но человек спасен Голгофой. Сатана же
Спасенья ждет во тьме. И Сатана спасется.
То, что для человека сотворил Христос,
То каждый человек свершит для Дьявола.
В мире дело идет не о спасеньи человека,
А о спасеньи Дьявола. Любите. Верьте.
Любите Дьявола. Одной любовью
Спасется мир. А этот мир есть плоть
Страдающего Сатаны. Христос
Распят на теле Сатаны. Крест – Сатана.
Воистину вам говорю: покамест
Последняя частица слепого вещества
Не станет вновь чистейшим из сияний,
«Я» человека не сойдет с креста.
Зло – вещество. Любовь – огонь. Любовь
Сжигает вещество: отсюда гарь и смрад.
Грех страден потому, что в нем огонь любви.
Где нет греха, там торжествует Дьявол.
И голод, и ненависть – не отрицанье,
А первые ступени любви.
Тех, кто хотят спастись, укрывшись от греха,
Тех, кто не горят огнем и холодом,
Тех изблюю из уст Моих!
<13 сентября 1919
Коктебель>
Л. П. Гроссману
В слепые дни затменья всех надежд,
Когда ревели грозные буруны
И были ярым пламенем Коммуны
Расплавлены Москва и Будапешт,
В толпе убийц, безумцев и невежд,
Где рыскал кат и рыкали тиуны,
Ты обновил кифары строгой струны
И складки белых жреческих одежд.
Душой бродя у вод столицы Невской,
Где Пушкин жил, где бредил Достоевский,
А ныне лишь стреляют и галдят,
Ты раздвигал забытые завесы
И пел в сонетах млечный блеск Плеяд
На стогнах голодающей Одессы.
19 сентября 1919
Коктебель
Сон
Лишь только мир
Скрывается багровой завесой век,
Как время,
Против которого я выгребаю днем,
Уносит по теченью,
И, увлекаем плавной водовертью
В своем страстном и звездном теле,
Я облаком виюсь и развиваюсь
В мерцающих пространствах,
Не озаренных солнцем,
Отданный во власть
Противовесам всех дневных явлений, –
И чувствую, как над затылком
Распахиваются провалы,
И вижу себя клубком зверей,
Грызущих и ласкающихся.
Огромный, бархатистый и черный Змей
Плавает в озерах Преисподней,
Где клубятся гады
И разбегаются во мраке пауки.
А в горних безднах сферы
Поют хрустальным звоном,
И созвездья
Гудят в Зверином Круге.
А после наступает
Беспамятство
И насыщенье:
Душа сосет от млечной, звездной влаги.
…Потом отлив ночного Океана
Вновь твердый обнажает день:
Окно, кусок стены,
Свет кажется колонной,
Камни – сгущенной пустотой…
А в обликах вещей – намеки,
Утратившие смысл.
Реальности еще двоятся
В зеркальной влаге сна.
Но быстро крепнут и ладятся,
И с беспощадной
Наглядностью
Вновь обступает жизнь
Слепым и тесным строем.
И начинается вседневный бег
По узким коридорам
Без окон, без дверей,
Где на стенах
Написаны лишь имена явлений
И где сквозняк событий
Сбивает с ног
И гулки под уверенной пятою
Полуприкрытые досками точных знаний
Колодцы и провалы
Безумия.
12 ноября 1919
Коктебель
Сибирской 30-й дивизии
Поев. Сергею Кулагину
В полях последний вопль довоплен,
И смолк железный лязг мечей,
И мутный зимний день растоплен
Кострами жгучих кумачей.
Каких далеких межиречий,
Каких лесов, каких озер
Вы принесли с собой простор
И ваш язык и ваши речи?
Вы принесли с собою весть
О том, что на полях Сибири
Погасли ненависть и месть
И новой правдой веет в мире.
Пред вами утихает страх
И проясняется стихия,
И светится у вас в глазах
Преображенная Россия.
23 ноября 1920
«Был покойник во гробе трехдневен…»
Был покойник во гробе трехдневен,
И от ран почерневшее тело
Зацветало червьми и смердело.
Правил Дьявол вселенский молебен.
На земле стало душно, что в скрыне:
Искажались ужасом лица,
Цепенели, взвившись, зарницы,
Вопияли камни в пустыне.
Распахнувшаяся утроба
Измывалась над плотью Господней…
Дай коснувшимся дна преисподней
Встать, как Лазарь, с Тобою из гроба!
27 октября 1921
Феодосия
Революция
Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметенных толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом под воющий набат,
Зовущей к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблен в стеклянный отсвет глаз,
Вперенных в зарево кровавых окоемов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов,
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины,
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе.
14 июня 1922
Коктебель
Ангел смерти
В человечьем лике Азраил
По Ерусалиму проходил,
Где сидел на троне Соломон.
И один из окружавших трон:
«Кто сей юноша?» – царя спросил.
«Это Ангел Смерти – Азраил».
И взмолился человек: «Вели,
Чтобы в Индию меня перенесли
Духи. Ибо не случайно он
Поглядел в глаза мне». Соломон
Приказал – и было так. «Ему
Заглянул в глаза я потому, –
Азраил сказал, – что послан я за ним
В Индию, а не в Ерусалим».
25 ноября 1923
Коктебель
Портрет («Ни понизь пыльно-сизых гроздий…»)
Ни понизь пыльно-сизых гроздий
У стрельчатых и смуглых ног,
Ни беглый пламень впалых щек,
Ни светлый взгляд раскосо-козий,
Ни яркость этих влажных уст,
Ни горьких пальцев острый хруст,
Ни разметавшиеся пряди
Порывом вззмеенных кудрей –
Не тронули души моей
На инфернальном маскараде.
23 августа 1924
Коктебель
Соломон
Весенних токов хмель, и цвет, и ярь.
Холмы, сады и виноград, как рама.
Со смуглой Суламифью – юный царь.
Свистит пила, встают устои храма,
И властный дух строителя Хирама
Возводит Ягве каменный алтарь.
Но жизнь течет: на сердце желчь и гарь.
На властном пальце – перстень: гексаграмма.
Офир и Пунт в сетях его игры,
Царица Савская несет дары,
Лукавый Джинн и бес ему покорны.
Он царь, он маг, он зодчий, он поэт…
Но достиженья жизни – иллюзорны,
Нет радости: «Всё суета сует».
26 августа 1924
Коктебель
Шуточные стихотворения
На себя
Когда стихи я сочиняю,
Не знаю, чем мне их начать.
Когда начну, тогда не знаю,
Чем эти мне стихи кончать.
1891
К Л. Л<яминой> («Низойди, о вдохновенье…»)
Низойди, о вдохновенье,
Ты сегодня на меня!
Слушай, Люба, мое пенье
Я пою лишь для тебя!
Хорошо ли посвященье?
Похвалишь ли ты меня?
21 мая <1891>
Овечка (к Д. А.)
Что головку опустила,
Черноглазая овечка?
Что ты смотришь так уныло?
Что не вымолвишь словечка?
Или, может, полюбила
Ты кого-нибудь другого?
Что ты глазки опустила?
Я не сделаю дурного!
Хоть одно скажи словечко!
Перестань меня томить!
И тебя, мое сердечко,
Буду я всегда любить!
1891
Письмо в стихах Зволинскому
Я пишу тебе, Зволинский,
И пишу тебе стихами.
Но о чем же мне писать-то?
Это, право, я не знаю.
Получив твое посланье,
Я прочел его сейчас же.
Правда, ведь оно не длинно –
Ну да Бог с тобой, мой милый.
Ты мне пишешь, что желал бы
Знать всё то, что в это время,
Как с тобой я не видался,
Написал и сочинил я.
Написал я очень мало
И почти не сочинял я:
Есть лишь несколько отрывков
Неоконченных творений.
Ну да разве это дело?
Всё равно, что ничего ведь!
Начал вот, от скуки ради,
Я к тебе мое посланье.
Пишу прямо набело я –
Ничего, кажись, выходит.
Пишу белыми стихами,
То есть попросту размером
И без рифмы сладкозвучной.
Это, я клянусь Зевесом,
Легче рифменных тех виршей,
Что писал тебе я раньше,
Легкий стих вот так и льется
Обольстительным напевом
Без помарок и преграды.
Я тебе здесь написал вот
Почти целых две страницы,
Не ломая ни минуты
Головы над трудной рифмой.
И позволь тебе заметить:
Повозившись так немножко,
Можешь ты писать, как прозой!
Вот недавно перевел я
Таковым стихом, как этот,
Одну греческую надпись,
То есть вольным переводом,
Своего прибавив много.
И теперь, если ты хочешь,
Я ее скажу до слова:
«Расскажи, о странник, Спарте,
Что мы здесь легли костями,
Но себя не посрамили,
Не нарушили законов.
Возвести, что 300 греков
Тут сражались за свободу
Против трех мильонов персов
И что мы как львы сражались.
Почти все в неравной битве
Все погибли за свободу,
Прославляя Леонида,
Вождя храброго спартанцев».
Как находишь эту надпись –
Иль хорошей иль плохою?
Напиши мне в понедельник,
Буду ждать я с нетерпеньем
Твоего письма другого.
Я боюсь, что ты как критик,
Уважающий цензуру,
Рифму любящий душою,
Разразишься не на шутку
На посланье мое громом.
Да и правда: что за дерзость
Вдруг писать – писать без рифмы!
Это просто преступленье!!
Не сердись, мой критик строгий:
Сам Гомер, отец поэтов,
Он одним писал размером –
Тем гекзаметром священным,
Что доныне все поэты
Перед ним благоговеют.
И Пиндар, который в песнях
Победителей на играх
Олимпийских незабвенных
Воспевал, и тот размером
Лишь одним, без легкой рифмы
Написал свои все оды.
И Гораций, и Овидий,
И другие все поэты –
И эллинские и Рима –
Свои чудные посланья,
Свои чудные поэмы
Все писали лишь размером.
И ты видишь, критик строгий,
Что я прав перед тобою
Чисто как агнец невинный…
Ну, об рифме-то довольно.
В другой раз, пожалуй, больше
Напишу тебе, мой милый,
А теперь пока довольно:
Умолкаю, написавши
Сто-стиховое посланье.
До свидания, мой критик,
Мой вельможный пан Зволинский.
Остаюсь тебе покорный,
Муз воспитанник примерный
Кириенко-Шут-Волошин,
Как зовет меня наш Кузя.
<Сентябрь 1891>
На Н. С<абани>на
Алла велик! Чрез Магомета
Он древле чудо совершил:
Собаке дал сан человека
И даром слова оделил.
Сей род Сабаниных всё жив поныне,
Живет он, как и прежде жил.
И хоть один из них и учится латыни,
Но все собачьи он привычки сохранил.
<До 21 сентября 1891>
«Толстой! На что ж это похоже?..»
«Толстой! На что ж это похоже?
Он еретик-с – ну, вот и всё.
С своим Евангельем суется тоже…
Ну, вот-с и больше ничего.
Извольте-ка-с урок ответить,
Да вашу книжечку-с пожалуйте сюда.
Мне надо вам кой-что отметить.
Наш будущий урок когда?
Да! Послезавтра. Завтра воскресенье…
Вам надо было бы поболее задать.
Ведь всё равно, с практической-то точки зренья,
Вы целый день-то будете гулять».
Январь 1892
«Сколько мыслей, сколько дум…»
Сколько мыслей, сколько дум
Осаждают бедный ум;
Сколько пламенных идей
Рвутся к выходу скорей.
Но в душе померкнул свет,
И сказать их силы нет,
Всюду ужас, мрак и страх,
Силы нет в моих словах.
Их нельзя в словах сказать,
Невозможно удержать.
А они сильней, сильней
Рвутся к выходу скорей.
От вопросов, мыслей, дум
Ослабел несчастный ум.
14 мая 1894
«Я знал фиалочку. Она…»
А. М. П<етров>ой
Я знал фиалочку. Она
В тени дерев могучих
В приятном обществе цвела
Репейников колючих.
И два репейника пред ней
Душой благоговели,
Старались быть всегда нежней
И в глубине скорбели.
Но наша фьялочка, увы!
Их чувств не понимала,
Она не ведала любви
И тихо увядала.
17 мая 1895
Феодосия
«Наступает страшный час…»
«Amicus homo, qui non fleret?»
Наступает страшный час
Алексеевской эмульсии.
У Фиалочки тотчас
Начались конвульсии.
Закусивши хлебной коркой
Тут эмульсию с касторкой,
Закричала: «Брат мой Орька!
Как мне горько! Как мне горько!»
А репейники вдвоем
Корчатся в волнении,
Поднимается содом
И столпотворение.
Обозвав репейник чушкой,
Размахнулась Фьялка кружкой,
В лоб репейнику пустила
И затем проговорила:
«Жизнь земная мне постыла!
Убирайтесь вон, пока
Не намяла вам бока!»
И пошли колючки прочь
И проплакали всю ночь.
17 мая 1895
Феодосия
«Не высок, не толст, не тонок…»
Не высок, не толст, не тонок,
Холост, средних лет,
Вид приятен, голос звонок,
Хорошо одет.
У него в руках всё бьется,
Он любитель клякс
И поэтому зовется
«Ах, мой милый Макс».
<1896–1897>
«Как ты внимательна была…»
Как ты внимательна была,
Как это вышло мило!
Ты с Лерой к Харченке зашла,
Бумагу мне купила.
Затем пришла домой, и вот
Писать письмо мне стала,
А у Дурантевских ворот
Собака завывала.
Звучал недобрым этот вой…
(Тьфу, черт!! Простите – клякса.
Где ж промокашка?!!)… Пред тобой
Носился образ Макса…
И вой был вещим, может быть,
Огня ведь нет без дыму:
Как этот пес, готов я взвыть
С тоски моей по Крыму.
Густав Антоныч уж больной,
Я буду болен тоже,
Моя тоска, как этот вой,
Изобразится в роже.
(Хотел, как видите, сострить,
Да вышло очень скверно).
Пора в редакцию спешить –
Меня уж ждут там, верно…
Иду по улице – весна,
В шинели зимней жарко,
Зато вверху лазурь видна
И солнце светит ярко.
Уж тает снег, журчит ручей,
Каменья обнажая,
Где тени нет, там уж видней
Под снегом мостовая.
Весна! У всех мужчин штаны
Подвернуты от грязи…
<Начало марта 1898
Москва>
«Пред экзаменом он до полночи сидел…»
Пред экзаменом он до полночи сидел,
Извивалися строки, как змеи.
Гимн весенний над ним из окошка звенел,
Кто<-то> бледный над ним наклонялся и пел,
А вокруг становилось темнее.
И в туман расплывались страницы пред ним,
Голова на тетрадь опустилась.
То, чего он не знал, встало сном золотым,
А что знал – то совсем позабылось.
И пугливой мечтой в вещий сон погружен,
Видит он римо-греческий сон:
Птицы грецкие песни поют как на смех,
И в полях зацветает гречиха,
И в саду распускается грецкий орех,
И на грех, позабыв прародительский грех,
Грек на солнышке греется тихо.
«Ωπωποι» распевает в саду соловей,
«Φιλυι» откликаются розы,
«Αγαπω» слышно в чаще зеленых ветвей,
Почему-то вдали заблестел Вей-хай-Вей,
А над ним всё Эротовы грёзы.
В атмосфере склонений, как древний архонт,
Выступают спряженья яснее,
И гекзаметром волны идут через Понт,
И Платон, Геродот, Демосфен, Ксенофонт,
И девятая песнь Одиссеи!
Вот Горация слышен каданс золотой,
Расцветают в полях герундивы,
И суп<и>ны уж дышат теплом и весной,
И периодов звучных извивы!
«О quo usquem! – звучит (замерла агора),
Tandem tu, негодяй Каталина,
Abuter' patientia?!»…
– «Барин! пора
Уж вставать вам!» – кричит Акулина.
<Начало апреля 1898
Москва>
«Уж я юрист второго курса!..»
Уж я юрист второго курса!
Корабль учености моей
Не изменил прямого курса,
Пройдя средь мелей и зыбей
Из обязательств, сервитутов,
Объектов, норм, обычных прав,
И государственных статутов.
Теперь, все рифы миновав,
И торжествующий победу
Стремится гордо он на юг…
Я еду! еду!! еду!!! еду!!!!
Я еду к Вам, мой старый друг!
В четверг я выеду с курьерским,
В субботу буду – со своей
Улыбкой вечной, тоном дерзким…
Готовьте рыбий хвост скорей!
Но встреч торжественных не надо:
Оркестр прошу не приглашать
И не устраивать парада.
Цветов не стоит покупать:
Я к Вам инкогнито явлюся.
Ваш гнев представить я могу
При виде гривы… Но клянуся,
Что гривы я не обстригу!
13 мая 1898
Москва
«„Bova maxima“ Вас провожала…»
«Bova maxima» Вас провожала
И почтила отъезд Ваш слезой,
А Зюзюка полсуток рыдала
Перед тем, как уехать самой.
Сам Пешковский своею особой
Захотел Вас придти проводить:
Удостоились чести особой –
Он не очень-то любит ходить,
Когда нужно ему заниматься,
Когда физикой он увлечен,
Когда начал пред ним выясняться
Уже третий Ньютонов закон.
Макс хоть с виду веселым казался
И стихами Ваш путь устилал,
Но и он под конец разрыдался,
Когда поезд уехал… (соврал).
Даже Яша (не чудо ли, право?)
Умудрился стихи написать.
И когда! Когда римское право
Ему надобно было читать.
Словом, каждый по силам старался
Облегчить ваш отъезд из Москвы…
Поезд свистнул и быстро умчался.
Совершилось: уехали Вы.
На платформе пустой оставались
Только Макс да Пешковский вдвоем,
Они грустными оба казались.
А Пешковский сказал: «Ну, пойдем».
И пошли мы по улицам дальним,
На пустую квартиру пришли.
И, окинувши взором печальным,
Там лишь две только вещи нашли:
Лампу с розгой. И лампу ту медную
Макс к горячему сердцу прижал,
А Пешковский пред розгою бедною
Удивился, подумал, но взял.
<Середина декабря 1898
Москва>
«Что вы, песни мои, над душою моей…»
Что вы, песни мои, над душою моей
Так пугливо и ласково вьетесь?
И, сплетясь с вереницами светлых теней,
С тихой музыкой к сердцу несетесь?
Стойте, песни мои! Залезайте в тетрадь,
Станьте смирно и ждите до сроку:
Буду вас по редакциям я рассылать,
А редакции станут в ответ высылать
Пятьалтынный за каждую строку…
18 марта 1899
Феодосия
Серенада
Посвящается т-те Ликирики Тартарен, вдове известн<ого> франц<узского> путешественника
Слышишь ли ты мои дикие крики,
Радость моя, Ликирики?!
Верь – то не сам я ночною порою
Мрак всколебал над змеистой рекою:
Ревность в могучей груди взбушевалась!
Песня во мраке прыжками помчалась,
Как кенгуру по безбрежным раздольям
Мчит, настигаем свистящим дрекольем.
Слышишь ли ты мои дикие крики,
Радость моя, Ликирики?
Белый тут был – он звался Тартареном,
Он надевал полосатые брюки,
Он целовал твои черные руки!
О, как я бил его гулким поленом!!
Гулким поленом об спину крутую!
Нынче я снова соперника чую.
Вот почему эти дикие крики
Слышит моя Ликирики.
* * *
Слушай! Твой друг постоянен и верен,
Новых измен я сносить не намерен.
С взглядом шакала и с сердцем орлиным
Буду один я твоим властелином.
Максимилиан ВОЛОШИН
Но чтобы ты никому не досталась,
Чтобы навеки моею осталась,
Не обращая вниманья на крики,
Съем я тебя, Ликирики!
23 марта 1899
Феодосия








