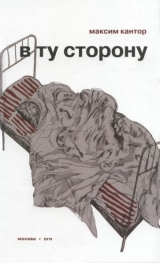
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
3
Акция «я – грузин!» была уже второй по счету. Первая акция прошла два года назад, когда российское правительство только начало ссориться с грузинским правительством. Войны еще не было, армию к границам Грузии даже не подтянули, в то время просто выгоняли грузин из Москвы – и делали это грубо. Патрули останавливали смуглых мужчин, проверяли визы. Многие семьи, делавшие в ту пору ремонт, недосчитались кафельщиков и штукатуров – грузинских гастарбайтеров выслали за пределы страны в двадцать четыре часа. «Как всегда! – восклицали совестливые люди. – Ссорится начальство, а страдают простые люди, простые штукатуры! Кто нам теперь закончит побелку?»
Первая акция собрала много народу – пришли художники, рок-музыканты, прогрессивные журналисты, все те, кто не мог смириться с державным произволом. Каждый демонстрант нацепил на грудь значок с надписью «я – грузин!» и ходил по скверу вокруг фонтана. То был жест, равносильный поступку датского короля, который во время гонений на евреев выехал из дворца с желтой звездой на груди. Подобно датскому королю, московские интеллигенты дразнили правоохранительные органы: мол, проверьте и меня, хватайте и меня! Ходил вокруг фонтана взволнованный Лев Ройтман, источая сильнейший запах шашлыка; ходил со скорбным выражением лица доцент Панин; приехал на дорогой машине с шофером архитектор Бобров, тоже походил некоторое время по скверу, погоревал вместе с другими. Даже демократ номер один Сердюков, и тот приехал, сказал свое знаменитое «футынуты», и к его словам прислушались. Походив вокруг фонтана, демонстранты отправились кушать в грузинский ресторан «Бактриони», где подавали великолепное лобио, а сациви вообще умели делать только там, если говорить о настоящем сациви, разумеется. Со времен фрондерских посиделок на кухне – в брежневские времена кухня была единственным местом, где мыслящие люди не скрывали своих мыслей, – связь между свободным словом и питанием установилась прямая. Если человек хотел делиться своими соображениями без цензуры – ему необходимо было подкрепиться. Стоит ли удивляться, что грузинские рестораны в тот день были полны.
Бланк вспомнил реплику Татарникова, сказанную тогда, два года назад. Сергею Ильичу предложили принять участие в демонстрации протеста, а он отказался. «Вы не сочувствуете грузинам?» – спросила его Румянцева, и Татарников ответил: «Если собрались сочувствовать, так давайте социалистический интернационализм воскресим. А коль скоро интернационализма больше нет, то цель демонстрации непонятна». «Поддержка обиженных», – сказала ему Румянцева с достоинством. «Братание с прислугой? – ехидно спросил Татарников – Вы что же, и зарплату им повысить собираетесь?» Потом Сергей Ильич добавил: «Подождите, когда война с Грузией будет, вам придется уже не полотеров поддерживать, а чужих солдат. Пролетариев вы объединять согласны? Или только домашнюю прислугу?»
Сегодня, спустя два года, когда собрались провести новую демонстрацию, – обстоятельства, действительно, были уже иные. После того как Россия повоевала с Грузией, после бомбежек Цхинвала, после российского марш-броска внутрь сопредельной страны, после того, как все культурные деятели в одночасье должны были заявить, что поддерживают свое правительство в братоубийственной войне, – после всего, что случилось, выйти на улицу со значком «я – грузин!» многим показалось неуместным. Одно дело защищать штукатуров и полотеров, совсем другое – выражать солидарность врагу государства.
Бланк встал возле памятника Пушкину, бросил взгляд на сквер, где должны были собраться демонстранты. Он предусмотрительно назначил встречу с Лилей на другой стороне Тверской, возле памятника, чтобы иметь возможность посмотреть, сколько народу соберется. Никто не пришел, ни единого человека из числа знакомых не увидел он в сквере напротив. Знакомые рассудили правильно: какие сейчас демонстрации! Ну и время выбрали, чтобы солидарность с Грузией выразить, думал Бланк. И ты хорош, говорил он себе. Редактор газеты, ты не о себе думать должен, но об издании, о коллективе! А ну как прикроют? Так он утешал себя, превосходно понимая, что не газету запретят, совсем нет, – запретят ему быть ее редактором, и только.
Через минуту подошла Лиля.
– Идем?
– Не будет митинга, – сказал Бланк. – Я думаю, это провокация.
– Как – провокация?
– Выявить недовольных. Представляешь, что можно инкриминировать человеку, если он выйдет на площадь со значком «я – грузин!»? И это после войны, после бомбардировки Цхинвала. Объявят врагом государства в два счета.
– Ты уверен?
Бланк был уверен.
– Подумай сама, зачем устраивать митинг «я – грузин!»? Почему не сделать значок «я – таджик!» или «я – узбек!»? Что, таджикам лучше живется? Их за копейки нанимают на стройки, держат без паспорта, без страховки, без медобслуживания.
– Ужасно, надо с этим бороться.
– Вот именно, надо бороться. Надо защищать таджиков. А предложили надеть значок «я – грузин!». Почему? Почему?
– Давай уедем отсюда, Саша.
– На море? – Он давно обещал ей теплое море.
– Совсем уедем, в другую страну.
– Как же мы уедем, – тоскливо сказал Бланк. И подумалось: куда нам ехать, в какую страну? В командировку слетать можно, отдохнуть у моря недурно, а жить в эмиграции каково? Раньше, когда с коммунизмом боролись, русских перебежчиков везде звали. А сегодня кому нужен борец за русскую демократию? Вот уволит меня Губкин, а я – что? Я – куда? В издательство «Посев»? В страсбургский суд? Вслух Бланк сказал:
– Здесь работа есть.
– Страшно у нас очень.
– А где лучше?
– Поедем в Израиль, – сказала Лиля Гринберг.
– В Израиле тебе не страшно? Террористы, палестинцы.
– Там добрые люди живут.
– Не боишься? – спросил Бланк и подумал: а здесь ты, Саша Бланк, не боишься? Что здесь будет завтра?
– Я дома боюсь. В Москве оставаться боюсь.
– Ну что ты. Кризис скоро пройдет.
– Не пройдет, – с тоской сказала Лиля. – Ничего не кончится!
– Послушай, – рассудительно сказал Бланк, – Нам надо успокоиться. Да, с митингом что-то не то. Но все же не будем паниковать. Все нервничают, надо сохранять спокойствие. Это общемировой системный кризис, везде плохо. Я как-никак редактор газеты, информацией располагаю. Мировая система сломалась, а наша страна ни при чем!
– Не верю, – сказала Лиля, упрямая еврейская женщина. Есть такие еврейки, всюду им мерещится подвох. Уже и газовых камер давно нет, и Треблинка не работает, а они все ждут беды. – Не верю. У нас всегда хуже.
– В нас, если хочешь знать, дела обстоят лучше, чем в западных странах. У нас, между прочим, стабилизационный фонд есть! Сотни миллиардов скопили!
Он произнес заклинание, которое каждый час повторяли телеведущие, и вспомнил заседание правительства, на котором впервые признали наличие кризиса в стране. Бланк видел лица министров вблизи, наблюдал их реакции: журналисты задавали министрам вопросы – а те охотно отвечали. Прочь секретность! Отныне никаких тайн! Да, граждане, кризис!
Никогда Бланк не видел таких довольных физиономий – лоснились и сияли все до единого; был доволен министр торговли, и министр финансов потирал руки, и минис тр экономики улыбался, даже министр здравоохранения – и тот был рад. Кризис, граждане! Очень непростое положение в мире, господа! Но – просим народ не волноваться: у страны имеется неприкосновенный запас на случай беды! Стабфонд нас спасет, граждане! Это означало, что их пустили к припасам, открыли дверь в погреба – припрятанные на черный день четыреста миллиардов долларов теперь можно рвать на части. И – ринулись в двери, сшибаясь лбами, толкаясь локтями, грызя друг другу холку.
– Правительством накоплены средства, – сказал Бланк.
– Надолго хватит?
Правительство объявило, что денег хватит надолго, потом скорректировало информацию: денег хватит ненадолго. Сначала сказали, что средств хватит на три года; потом сказали, что на год; потом подумали и сказали, что деньги уже кончились.
– Должно хватить на пару лет.
– Когда они все деньги украдут, они людей начнут сажать, да, Саша? – спросила Лиля Гринберг.
– Да что ты такое говоришь! Кто и кого начнет сажать?! Что, тридцать седьмой год у нас, что ли?
– Они когда между собой грызутся, то других людей убивают тоже.
– Умоляю тебя! Прекрати истерику! Зачем им между собой воевать? Сообща… – и Бланк не нашел, как продолжить фразу. Что – сообща? Сообща у нас только воруют.
– Перегрызутся, как пауки в банке, – сказала Лиля Гринберг.
– Здравствуйте, – раздался голос, который Бланк опознал сразу же: за их спинами появился Борис Кузин.
– Рад вас видеть, Боря.
– Гуляете?
Они приглядывались друг к другу, и каждый думал: он пришел на демонстрацию или для того, чтобы следить за теми, кто придет на демонстрацию?
– Гуляем. Красивая у нас Москва.
– И какая стала ухоженная.
– Следят за порядком.
4
Ахмад собрал пятнадцать тысяч рублей, и Маша отнесла деньги Расулу, однако Расул, пересчитав, сказал, что этого мало.
– Сами же сказали, пятнадцать тысяч. Мы все продали.
– А товар? Товар, который сгнил? Это что, денег не стоит?
И не поспоришь: Расул достал накладные, показал Маше – вот, все прописано. Было? Нет, ты сама посмотри – было? Оказалось, надо отдать еще десять тысяч. И отдать надо быстро – все это Расул объяснял резким голосом, колючими черными глазами смотрел на Машу.
Это требование Маша передала Ахмаду.
– Попрошу у моей хозяйки, – сказала Маша. – Не может ведь человек всегда обманывать. Я ее жильцу пожалуюсь, иностранцу. Я скажу ему так: вам должно быть стыдно за Москву.
– Вместе пойдем.
– Нет, ты не ходи. Она тебя испугается. У нас не любят… – Она хотела сказать «черных», но не сказала так, а сказала осторожно: – У нас не любят, когда на террористов похожи.
– А я похож?
– Может, ты шахид. А то пугают нас шахидами.
– Шахид – это святой, – сказал Ахмад.
– Много ты знаешь. Шахиды – это у которых гранаты на поясе висят. Они всех вокруг убивают.
– Нет, у шахидов нет оружия.
– А то я не знаю. Шахиды – это которые кинотеатры взрывают.
– Ты не знаешь.
Маша покачала головой, взяла за руку своего татарчонка и пошла к дому Зои Тарасовны. Ахмад шел рядом.
– А ты хорошо по-русски говоришь.
– Так я же русский.
– Разве русский? Али был узбек, значит, ты тоже узбек. Но по-русски оба хорошо говорите. А то вот я с татарином была. Еще до твоего брата, до Али. Хороший человек, добрый. Но по-русски плохо говорил. Мало мы с ним поговорили.
Маша рассказывала о себе, хотя Ахмад ее и не спрашивал.
– Я его почти не знала – приходил поздно. Пустил к себе жить, сам дворником работал и на вокзале тоже подрабатывал. Комната у нас была хорошая, вход прямо с улицы, на первом этаже. Пока ребенка ждала, целыми днями там одна сидела. Жду-жду, а он все не идет. Но не пил, плохого о нем не скажу. Приходил трезвый, чистый. Вы мне чем нравитесь – пьющих среди вас мало. Я всегда девочкам говорила – хочу мусульманина.
Она рассказала, что татарин был ее первым мужчиной, до него никого не было. Он был старше, а сколько точно ему лет, она не знала.
– А однажды пропал. Не пришел домой. Два дня ждала, все не идет. Я в милицию пошла, мне говорят: вы ему кем приходитесь? Жена, говорю, на седьмом месяце жена. А паспорт нам покажи, девушка. Так не расписались мы с ним – нет штампа. На живот мой посмотрите, штампов не надо. Так и погнали меня из милиции.
Маша рассказала, что к начальнику милиции ее даже не пустили. Сержант прогнал. Она ему сказала: «Ради Бога, ради Господа Бога, помоги мне, мальчик!» Он действительно казался ей мальчиком, чистый, в наглаженной рубашке, наверное, мама гладила рубашку. «Бог при чем тут? – резонно сказал сержант. – У нас с татарами Бог разный». Маша погладила себя по животу и сказала сержанту: «Бог у всех один». Но сержант Машу все-таки прогнал. И ее татарина так и не нашли. Фамилия у сержанта Сорокин, она запомнила. Веселый такой, с веснушками. Но прогнал.
– Пошла в общежитие, уборщицей. Поначалу комнату обещали. Потом говорят: плати за комнату. А как платить – вся зарплата туда уходит. Али тогда меня с маленьким взял, добрый у тебя брат. Сам сказал: давай вместе жить. Но тяжело, конечно, в Москве жить. Дорогой город. Некоторые, как Расул, устраиваются.
Маша рассказала, что Расул имеет восемь ларьков и два магазина на Рязанском шоссе, а еще есть человек, который важнее Расула. Приезжает на черной машине, учит. Всегда нам говорит: «В бизнесе надо строго». А Расул в конце месяца всегда убытки считает. Морковь сгнила, помидоры пропали, дыня стала мягкая – и деньги вычитает. Он бизнесмен.
– В ларьке семьсот рублей в день платят, без выходных. В месяц выходит двадцать одна тысяча, снимаем комнату за десять. Это нам, считай, повезло. А вот теперь и этих денег нет. А мне еще хозяева, у которых полы мою, за три месяца должны. И не платят.
Маша сказала, что хотела бы вернуться в Тулу, там тихо и хорошо, там родители и счастье. Там ровный свет, поют птицы и колокола звонят на горе. Но боится вернуться с татарчонком. Почему боится, Ахмад не спросил.
– Вы меня что же, к себе в аул берете? Или как там называется? Пятой женой к себе в аул возьмете? Или что там у вас? У тебя сколько жен, Ахмад?
Первую жену Ахмада убили в восемьдесят шестом. Он взял ее еще в первую службу в Афганистане, приходил к ней в увольнение. Стояли под Кандагаром – а она жила в городе, и соседи сперва гневались на нее, а потом простили: он приносил им еду, отдавал свой паек. Жену и всех соседей убили при бомбежке города советские летчики. Пьяные летчики по ошибке разбомбили площадь Кандагара и убили сотни людей. Били ракетами, штурмовая авиация, так называемые «грачи», ракеты смели жилые кварталы в щебень, в пыль, только прах столбом стоял на том месте, где жила семья Ахмада. Командир, полковник штурмовой авиации Сойка, любитель шотландского виски, «отработал», по его собственному выражению, город, а спустя сутки узнал, что бил по мирному населению и союзным войскам. Неделями шли из Кандагара в Кабул транспорты с безногими и безрукими детьми, со слепыми людьми, с умирающими женщинами. Их переправляли в Узбекистан и Туркмению, сбивали статистику войны.
Считали жертвы не по реально убитым, а по тем, кто найден мертвым на поле боя, кого положено отправлять домой в цинковом гробу. Официально считалось, что за время кампании погибло пятнадцать тысяч солдат, – эта цифра не соответствовала реальности нисколько. Если был записан в раненые, а умер в госпитале – в статистику не попадал. Если умирал от раны через год, в списках потерь не числился. Как говорил Ахмаду полковой врач: «Разве у нас есть раненые? Это все самострелы по койкам лежат». И если убили беременную женщину, ее тоже в жертвы войны не записывали. Ни советская статистика, ни американская, ни английская – никто не записывал убитых женщин в жертвы войны.
– Я так слышала, в Афганистане женщины красивые. Али мне рассказывал.
– Али у нас никогда не был. Откуда знает?
Полковника Сойку отозвали в Москву и сделали генералом, а Ахмад вернулся в Афганистан уже в девяностых и опять нашел жену, узбечку из Мазари-Шарифа. Вторую жену убили бандиты – им платили саудовцы, саудовцы платили большие деньги за штурм города и за сожжение деревень. Иногда платили миллионы афгани. Банды собирались сами собой – многие шли заработать; бандиты приходи в деревни сытые, с хорошим оружием. В тот раз пришли, женщин облили бензином и сожгли. Больше жен у Ахмада не было.
– Квартир у вас нет, правильно поняла? Живете в сакле, или как у вас там? Пьете кумыс, или как это там?
Ахмад сказал, что дома у них есть. Он рассказал про Кабул, большой город.
– Правда большой?
– Обычный город. Кафе, улицы – все как в Москве.
– Скажешь тоже.
В Кабуле плоские крыши, синий воздух, горы, которые встают за домами. Рассказывать не умел, получилось неинтересно.
– В горах живут?
– Почему? На земле, как все. Горы за городом.
– Как вы там живете?
– А здесь как живут? Без воздуха, без неба. Зачем так жить?
– Больших домов у вас совсем нет?
– Почему? Дворцы есть. Гостиницы есть. «Интер-континенталь», «Серена». Большие гостиницы. Там корреспонденты живут, иностранцы, виски пьют.
– Выходит, не я одна такая глупая? Люди приезжают?
– Приезжают.
– Значит, белые у вас тоже есть? – Она испугалась, что обидела узбека.
– Есть, конечно. Я знаю одного англичанина. Много алкоголя пьет.
Уже когда он был солдатом Дустума, Ахмад познакомился с английским корреспондентом – тот брал у него интервью. Худой британец протянул ему пачку сигарет и сказал несколько слов на пушту, но пушту Ахмад не знал, а сигарет не взял, потому что не курил. Англичанин тогда расстегнул пиджак, достал из внутреннего кармана плоскую бутылку виски. Но Ахмад отказался и от виски. В конце концов они стали разговаривать по-русски, англичанин подивился, что Ахмад из бывшего Советского Союза. «Значит, ты узбек, а воюешь за кого?» – спросил англичанин. «Так Дустум ведь тоже узбек». – «А против кого ты воюешь?» Ахмад хотел ответить: «Против таких, как ты», – но сказал по-другому: «Я не генерал. Генерал командует». Англичанин кивнул, отвинтил крышку у бутылки виски, хлебнул, сказал Ахмаду: «Знаешь, я наполовину аргентинец. Когда война с Фолклендами была, в школе учился. Ребята знали, что я аргентинец. Но для нас всех это было спортом – мы пари держали, где больше народа убьют, сколько Аргентина продержится.
Это спорт, Ахмад. Я входил в класс, а мне все кричали: один-ноль! Два-ноль! Потом аргентинцы потопили английский корабль, я пришел в класс и говорю: два-пять!» Он пил виски легко, как воду, все корреспонденты много пьют.
– А ребенку учиться где? – сказала Маша. – Образование как получать? В Германию хорошо бы послать. Теперь все на менеджеров учатся. Но я не хочу, пусть врачом станет, меня лечить будет. Знаю, дорого. Но я же работать пойду, буду откладывать. Некоторые женщины устраиваются. Из дома напротив одна женщина поехала в Италию, со старичком сидеть. Во дворе рассказывали. Ну скажи, Ахмад, чем плохо? Это ведь правильно – старикам помогать. Постель ему поменяла, обед сварила, телевизор включила. Это ведь нетрудно – ухаживать. А еще одна женщина устроилась совсем хорошо: на Кипр уехала – няней к детям олигарха. У олигарха семья на стороне завелась, он им дом на Кипре купил и няню русскую выписал. Вот как повезло женщине! Ей, думаю, зарплату аккуратно платят. Тепло, море, малышам можно сказки рассказывать. Я бы поехала и своего татарчонка прихватила. У вас там есть море?
– У нас только горы есть. Гиндукуш. И пустыни, много песка.
– И куда ты меня везешь? И зачем мы едем? Работать здесь стану, в Москве квартиру куплю. – Маша сама понимала, что это невозможно. – Скажи, зачем нам ехать?
– Домой едем. – Как странно прозвучали эти слова.
5
Все русские мыслители рано или поздно приходили к имперской идее – начинали, фрондерствуя, но с годами становились мудрее и превращались в государственников. Подумаешь как следует, а кто, в самом деле, привлекательнее – Пугачев или Петр Первый, – да и вывод сделаешь. Петр, он, может быть, тоже распорядится твоей жизнью не самым гуманным образом, но запорет тебя из созидательно-поступательных соображений. Выбор между хаосом русского бунта и организацией общества на основе европейского просвещения – вот что должен однажды совершить ответственный интеллектуал. Борис Кузин лишь следовал традиции – а события политической истории подсказывали ответы на вопросы. Вот и Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, вот и новые правители, как оказалось, родом из Петербурга – случайно ли это? Произвол Московского царства в прошлом – современная Россия ориентирована на Петровские реформы. Не царство восточных сатрапов, не социалистический лагерь, но империя западного образца – вот будущее, коего мы достойны.
Мысли о необходимости возрождения империи Борис Кузин решил изложить в форме притчи. Он писал нечто, напоминающее позднего Достоевского, – «Дневник писателя» передает впечатления частной жизни, однако обобщает их до философии бытия.
То была повесть о смерти одинокого ученого. Умирая, ученый делится с миром последними заветами, выплескивает на бумагу завещание тем, кто придет за ним. парадоксально, но именно внезапная болезнь Татарникова подсказала сюжетный поворот: Кузин задумался о возрасте, о здоровье и лишний раз уверился в том, какая хрупкая вещь – жизнь человека. Не то даже важно, что внезапно умрешь, – досадно, что дело не успеешь сделать. Татарникову, вероятно, безразличен вопрос – успел он сделать в этой жизни то, что должен был сделать, или не успел. Вполне вероятно, что никаких внятных целей у Сергея Ильича не было. Однако есть такие люди, что призваны к делам.
Прихлебывая травный настой, приготовленный супругой, Кузин описывал горькие пилюли, что глотал его герой, пригвожденный к койке. Кузин потягивал отвар – действительно, горьковато, – и описание чувств профессора Голубкова, пьющего свою лекарственную цикуту, выходило само собой. Важно пережить то, что описываешь, горечь и боль невозможно имитировать, их надо действительно испытать. Некоторые места удавались настолько, что профессор откладывал перо и отдавался переживаниям. Да, говорил он себе, так и есть. Как же верно, как же больно. Профессор Голубков в его рассказе умирал, не оцененный по заслугам, в унизительной нищете. Ибо что как не нищета – будем называть вещи своими именами! – есть копеечная зарплата русского профессора. Работаешь на трех работах, и всего-то набегает тысячи три долларов, редко четыре – это что, деньги, спрошу я вас, это – деньги?
Борис Кузин, который в жизни обходился малым и был чужд стяжательства, оценивал бытие своего героя объективно – с некоторой досадой, но без слез, принимал Голубков свою судьбу. Профессор был необходим обществу – его не слушали. В сущности, Голубков хотел простых вещей. Он хотел цивилизации, демократии и комфорта. Империя Российская должна восстать из руин, оставленных большевиками, но тяжелое наследие Московского царства мешает новопетровским реформам. Профессор Голубков восклицал (в споре с оппонентами): «Что же предпочесть? Жизнь обеспеченную, в свободном государстве, или жизнь раба?» И противники терялись, не знали, что ответить, ведь все их привычки коренились именно в московском бесправии, а заглянуть глубже – так и в монгольском иге. Так повелось в этой юдоли слез, что зависим мы от темного прошлого, а светлого нового страшимся. Даже близкие не ценили Голубкова по заслугам. Что говорить о начальстве?
Родственники были заняты стяжательством, интригами, а Голубков просто трудился – как трудились на ниве просвещения его предшественники: Соловьев, Ключевский и другие великие ученые. Неблагодарный сын профессора (Кузин изобразил его директором рекламного агентства) и черствый брат его (пусть будет директор медиакомпании) отвернулись от умирающего, друзья Голубкова предали его. Именно так и бывает! Печешься о державе – и, как результат, забыт согражданами. Сын мог бы принести умирающему Голубкову денег на леченье, мог бы прийти и сказать: «Папа! Прости!» Но сын не пришел, брат не позвонил, коллеги предали, и Голубков умирал в одиночестве – с не-дописанной рукописью на столе, с недоеденным борщом в кастрюле, с недообглоданной курицей в холодильнике.
Унизительные подробности быта лишь подчеркивали величие неосуществленного замысла. Почему пенсия не позволяет нанять прислугу? Элементарная, естественная вещь – кухарка в доме; нет, никогда не знал Голубков такого комфорта. Один, всегда один. Казалось бы, люди должны вернуть тебе то, что ты дал им когда-то, так нет же – не дозовешься до их совести! Голубков вспоминал ботинки, которые покупал сыну в детстве – в ущерб покупке ботинок собственных. «Сам в старых похожу, – говорил Голубков в рассказе, – сам похожу в старых ботинках, пусть дождь, пусть протекают! Не важно, я готов носить старье, но пусть мой маленький сын имеет обувь». Понятно, что речь шла не только о ботинках. Мера ответственности перед миром, самоотречение во имя ближнего – вот что выражали ботинки в данном случае.
Ах, если бы только ботинки! Сколько таких мелочей, которые, в сущности, далеко не мелочи. Например, доклад о варварстве и цивилизации – доклад, отмеченный премиями, – отчего бы его не издать отдельной брошюрой? Отчего бы не выпустить собрание сочинений? Люди менее значимые, нежели Голубков, имели в его возрасте собрание своих сочинений – а что сделали с его трудами? Ответ очевиден: не пробил час для просвещенной империи в России, и глашатаи империи сегодня никому не нужны. В сущности, и Петр Первый остался непонятым собственным народом. Нам понятнее разбойник с ножом, чем образованный император с конституцией. Юрист-правовед, вот кто необходим державе в роли лидера. Законы, вот чего не хватает варварскому народу; говорено не раз – а поди, докажи мужику, что подлинная свобода – это разумное подчинение просвещенному начальству!
Написанное делало реальность еще более осязаемой – так поставленный диагноз делает больного еще более больным. В истории часто бывает: произойдет важное событие, ну, скажем, случится война – и сначала люди не понимают, почему они вдруг стали бегать, ползать и стрелять. Проходит время, появляются мемуары генералов– и люди видят вещи как бы заново. Ах, вот что, оказывается, с нами было! Вот с какими целями нас убивали! А мы-то, простаки, не догадались!
Кузин вспоминал, сопоставлял, оценивал события. Прошла перестройка, многие дорвались до чинов. Не всем повезло в одинаковой степени: сказывалось наследие московского царства – по-прежнему коррупция, снова местничество. Особенно остро Кузин переживал слова, которые говорит его герой в тот момент, когда узнает, что премию дали не ему, а недостойному коллеге.
«Голубков отвернулся к стене и прошептал: а на похороны он придет, на похороны мои придет?» Кузин чувствовал, что фраза удалась, он разволновался. Прошел к буфету, достал бутылку виски, подарок некоего генерала Сойки – генерал пристраивал дочку в университет и вот заехал, презентовал бутылку. Это, в сущности, мелочь, другие берут конверты с деньгами, пойми, Ирина!
– Что это за генерал такой? – спросила в тот день Ирина. – Может, он из органов?
– Какая чепуха! Он из авиации, до сих пор ездит на сборы эскадрильи в Сибирь.
– Летчик! – сказала Ирина.
– Достойный уважения человек. Я подарил ему свою брошюру о необходимости возрождения Российской империи.
– Думаю, он оценит.
– Он-то, надеюсь, оценит. – Кузин поморщился, вспомнив, как оценивал его произведения Сергей Ильич Татарников, и вернулся к письменному столу добавить пару абзацев об умирающем Голубкове.
«Голубков вспоминает о своем идейном противнике некоем Сергее Кошмарникове, плохом историке, тяжело пьющем человеке. Кошмарников пишет доносы на Голубкова, завидует его таланту. Здесь требовалось вспомнить какую-нибудь характерную деталь, и Кузин попытался оживить в памяти разговор с Сергеем Ильичем.
– Читали мои вещи?
– Не хочется говорить.
– Нет уж, скажите.
– Простите, не хочется.
– Сергей Ильич, это невежливо! Прочли, и не хотите говорить что думаете!
– Воздержусь.
– Извольте сказать! Считаете, неудачная книга?
– Простите, не хотел обидеть. Вы лучше другим чем-нибудь займитесь.
– А вы читали мою философскую прозу?
– Простите великодушно, не могу сказать.
– Извольте сказать!
– Не смог дочитать.
Кузин подумал, что буквально этот диалог он воспроизводить не станет. Он написал так.
Кошмарников спрашивает Голубкова:
– Вы мне дадите почитать свою философскую прозу?
– А вам зачем? – спрашивает Голубков. – Разве вы интересуетесь философской прозой?
– Мне очень нужно, прошу вас!
Голубков дает Кошмарникову свою книгу, а тот, надергав из книги цитат, пишет отвратительный донос в правительственную газету.
– Зачем вы это сделали? – спрашивает Голубков у негодяя.
– Не скажу! – страшным голосом кричит Кошмарников. – Воздержусь от ответа!»
Кузин перечитал эту последнюю фразу, остался доволен. Тут жена пригласила к столу: голубцы со сметаной.








