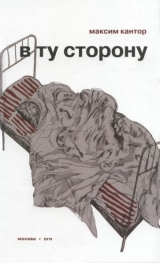
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
15
После многолетних рейсов в Среднюю Азию проводник поезда № 006 Москва – Ташкент Аркадий обзавелся чертами узбека. Лицо округлилось и потемнело, глаза стали влажными и темными, как сливы. Аркадий говорил друзьям, что люди на Востоке добрее, жизнь проще и когда он выйдет на пенсию, то купит дом на Аральском море, а может быть, даже и в Самарканде. Он описывал друзьям базары, показывал тюбетейку и халат, и друзья полагали, что Аркадий рехнулся. Аркадий приучил их пить чай из пиалы, есть изюм и на Пасху готовил плов – что было довольно необычно. Аркадий даже называл узбеков земляками, поскольку проводил два дня в неделю в Ташкенте и считал этот город своим. На перроне Казанского вокзала он инстинктивно выискивал восточные лица и радовался, когда к вагону подходили земляки. Увидев Ахмада, он не обрадовался – маленький темный человек скользнул к нему в вагон, и снова Аркадию стало страшно, как и несколько дней назад.
Ахмад дождался поезда, где работал проводник Аркадий, – они с Машей прятались около вокзала и выходили к поездам.
– Обратно отвези.
– Билет надо брать.
– Нет у нас билета.
– Помочь не могу. Иди покупай.
Плосколицый человек не сказал на это ничего.
Аркадий спросил:
– Женщина эта тебе кто? Жена?
– Не жена.
– Дочь, что ли?
– Нет, не дочь.
– Документы у вас есть? Совсем никаких нет?
– Ты нас положи в своем купе, – сказал Ахмад.
И не захотелось Аркадию спорить. Он поместил их – всех троих – на верхнюю полку в купе проводника, а товар, который вез из Москвы, отдал в соседний вагон.
Татарчонок сразу уснул, а Маша и Ахмад уснуть не могли – слишком тесно. Ахмад лежал головой к окну, поджав ноги, Маша с татарчонком на груди – головой к дверям. Поезд качало, они терлись друг о друга ногами, ноги затекли, но удобней лечь не получалось.
Свет не зажигали, но, когда поезд проезжал станции, свет фонарей падал в купе и Ахмад видел лицо Маши. К часу ночи проехали Рязань, и Маша сказала:
– Что ты сделал. Человека убил.
– Поживет еще, – сказал Ахмад – Если найдут быстро, то поживет. Русские живучие.
– Зверь ты.
– Лежи тихо.
– Куда едем? Зачем едем? Домой хочу.
– А где твой дом?
– Не знаю.
И снова ехали. Когда подъезжали к станции Потьма, рассвело. Аркадий дал вафли, чай и минеральную воду, и татарчонок не плакал. Днем Маша даже ходила по вагону со своим татарчонком, показывала из окна Самару, рассказывала про Волгу, а Ахмад спал.
Потом ели консервы, взятые Машей из Москвы, и Аркадий опять дал им чаю. Аркадий собирался их сдать пограничникам на станции Илецк, контрольном пункте перед Казахстаном. Приходит поезд ночью, в четыре часа, никакого скандала получиться не должно. После Оренбурга он запер купе снаружи, сказал, чтобы сидели тихо.
В Илецке все вышло иначе, не так, как предполагал Аркадий. Проводник соседнего вагона сдал его товар (антибиотики для казахских и узбекских поликлиник, каждую неделю Аркадий забирал немецкие лекарства в Москве) таможеннику. Пограничники вывели Аркадия на перрон, и сквозь стекло соседнего вагона Аркадий увидел физиономию коллеги, проводника Гены.
– Сам героин возит, – сказал Аркадий, – а я лекарство вожу. Деточкам. Дети у вас тоже, небось, есть? Как без лекарств? Дети болеют.
– Иди давай, Айболит.
Поезд ушел без Аркадия, и, когда доехали до Сары-Агача, пограничного пункта с Узбекистаном, запертое купе проводника никто не досматривал. Еще три часа – и Ташкент. Ахмад поковырял ножом замок, открыл дверь, они вышли.
16
Простыня в голубой цветочек постелена на диване. Рыхлый бугристый диван, старый, ему уже шестьдесят лет, покупал еще дед Сергея Ильича. Очень ветхий диван, обивка выгорела и порвалась, торчат пружины. Впрочем, пружины не мешали Татарникову. Легкое костлявое тело не примяло ни одной пружины, не смяло ни одного бугра. Татарников лежал, невесомый, на старом фамильном диване и смотрел прямо перед собой. На книжной полке (а он видел книжные полки, переплеты своей старой библиотеки) стояли семейные фото, и Сергей Ильич смотрел на свою маму, на своего отца, на деда – того самого, который покупал диван. А вот фотография деда на даче – семье как раз дали участок, работникам института минералогии выдавали землю, это считалось привилегией – целых шесть соток. Дед был знаменитым минерологом, разрабатывал Урал.
Бланк ушел, Сергей Ильич подремал два часа, проснулся и съел мороженое – жена дала мороженое. Он покорно открывал рот, пока она кормила его с ложки. Было как в детстве, тихо, неторопливо. Луч закатного солнца пришел в комнату, задержался на отклеенном куске обоев, потом двинулся к книжным полкам. И Сергей Ильич следил за лучом.
– Еще мороженого хочешь?
– Пока нет.
Господи, как хорошо. Как спокойно.
Потом пришел Антон, и Сергей Ильич был рад его приходу.
– Лето скоро, – сказал Сергей Ильич. – Еще месяца три будет холодно, а потом и лето. На дачу можно поехать.
– Да, – сказал Антон, – можно поехать.
– На веранде посидеть.
– У вас так хорошо на веранде.
Веранда была крошечной, и сама дачка в две комнаты с пристроенной кухонькой была крошечной. Но Татарникову было счастливо в ней. Подмосковная тягучая тихая жизнь. Он вечерами сидел под слабой лампой на маленькой веранде, читал книжку, сосна шумела над его головой.
– Жить бы да жить, жить да жить, – сказал вдруг Татарников. Сказал это тихо. И повторил еще раз: – Жить бы да жить.
Антон ничего на это не ответил.
– Если бы мне дали пожить еще год, я бы жил очень тихо. Я бы завел аквариум с рыбками. Я бы лежал и долго смотрел на рыбок, как они плавают от стенки до стенки. Аквариум с рыбками. Люблю воду. Можно поместить в аквариум красивых рыбок.
Антон ничего не сказал.
– Но и самая простая речная рыба очень красива. Знаете речных рыб? Умные. Я бы завел головня. Головень – такая хитрая рыба. Я бы разглядывал головня. Тритоны тоже хорошие. Вы любите тритонов?
Сергей Ильич трогал сухими пальцами постельное белье и радовался его тугой крахмальной свежести – в больнице были дурные, дрянные простыни. Левая нога Татарникова высовывалась из-под одеяла, худая белая нога. Антон смотрел на эту ногу – словно отдельно от Сергея Ильича эта белая нога лежала на диване и больной не мог управлять ею. Антон смотрел на большой палец ноги, с длинным кривым ногтем, ноготь был обмазан зеленкой. Зачем врачи намазали палец зеленкой?
– Конечно, рыбы не полюбят так, как собака. Но собака у меня умерла. Знаете, Антон, ведь у меня была собака. А, вы видели мою собаку. Ей было шестнадцать лет. Вот, умерла. И кошка тоже доживает последние дни. Знаете Нюру?
Вошла кошка с болтающимся животом, живот с опухолью обвис и мешал кошке перебирать лапами. Она боком подбиралась к дивану больного, но вспрыгнуть уже не могла, только жалобно кричала и драла когтями обивку.
– Кошка болеет, у нее тоже рак. Бедная, совсем не умеет терпеть, так ее жалко. Бедная Нюра.
Кошка обреченно посмотрела на хозяина.
– Бедная. Пока пес был жив, он ее грел. А я что, даже кошку согреть сейчас не могу. Стыдно.
Собака умерла полгода назад. Поскулила, легла на бок, несколько дней лежала без движения, есть не хотела. И умерла. Татарников закопал ее в саду на даче. И едва умерла собака, как Сергей Ильич понял: пришла пора и ему собираться. Не ошибся. Все в этом мире связано, и нет ничего, что мы могли бы считать недостойным внимания.
– Антон, знаете, мне осталось дня два. Не мог вам не сказать, извините, что расстроил.
– Зачем вы так, Сергей Ильич.
– Жену жалко. Приходит к кровати и плачет. Горько так плачет. Денег нет.
– Так она из-за денег плачет, – не удержался Антон.
– А что вы думаете, деньги – это очень важно. Вон, включите телевизор. Весь мир из-за денег плачет. А ведь ерунда, бумага. Нарисовали бумажек, а мир плачет.
– Мир плачет, потому что его обманули.
– Как можно обмануть мир, что вы, Антон. Мир сам себя обманул, вот и плачет. Вы про это книгу напишите, Антон.
– Вы сами напишете.
– Нет, не напишу. Но вам скажу, что надо написать.
Господи, как ясно и покойно ему думалось. И во рту еще оставался вкус мороженого. И боль не приходила. И рассуждать было легко. Он чувствовал, что счастлив.
– Вы ведь книгу про войну пишите?
– Да, – сказал Антон.
– Напишите так. Причина Первой мировой войны в том, что всем была нужна Вторая мировая, – сказал – и понял, что непонятно сказал.
– Я не понял, Сергей Ильич.
– Ну и ладно, ну и пусть. Не важно, Антон. Никто не виноват. Разве кто-то виноват, что я умираю.
– Вы не умираете, Сергей Ильич. Вы на поправку пошли.
– Да. Конечно. И мир – на поправку. Было нужно легальное неравенство – демократическая война. Вот и все. Вот и все. И никто не виноват.
И опять Антон не понял.
– Но ведь победили фашизм.
– Всем любить друг друга. Как хорошо. Пусть бы старая жена Бланка полюбила его молодую жену. Пусть бедные полюбят богатых, пусть богатые полюбят бедных, пусть больные полюбят здоровых. Милый Антон, вы ведь хотите этого?
– Да, – сказал Антон, – я этого очень хочу.
– Народу много. И не хотят умирать добровольно. Обидно, да?
Антон не понял ничего.
– Столыпин бы сказал: Антон, ангел мой, мне все равно, что делать, чтобы вопрос решить, просто столько народу мы не прокормим! Ну как сто миллионов крестьян прокормить, чем?
– Неужели, – спросил Антон, – никогда не получится по справедливости?
– И чтобы люди не умирали. А жили вечно и вечно любили друг друга. И держали друг друга за руку.
– Да, так правильно.
– И чтобы не было никому больно.
– Да, пусть никому не будет больно.
– Важно научиться умирать. И мне кажется, я смогу сделать это хорошо. Ступайте, Антон, приходите завтра, попрощаемся.
Как хорошо было лежать и смотреть на книги. В комнате сгущался сумрак, старые корешки уже было не рассмотреть, но он помнил, где какая книга стоит. Он лежал и думал, а мысли по-прежнему слушались его, и он был счастлив, оттого что ему так легко думать.
Антон вышел в коридор, спросил у Зои Тарасовны:
– Деньги вам нужны, да? На врачей?
– Отдали уже все врачам, они последнее взяли! А сиделку, сиделку кто оплачивать будет!
17
Европейская гражданская война началась давно, сто сорок лет назад, когда романтическая Германия хотела навязать миру феодальное устройство – и столкнулась с демократической моделью, которая была более жизнеспособна и которая в результате победила. Та самая, первая франко-прусская война и положила начало битве за лучшее мироустройство. И третья франко-прусская (ее еще называют Второй мировой) этот братоубийственный план наполнила новым содержанием – борьбой за наиболее прогрессивную демократию. На протяжении двадцатого столетия, во время межевропейской бойни, Запад полагал, что самое важное – это решить его, западное устройство, а устройство мира приложится само собой. Разве это не гегелевская посылка? Китай уснул навсегда, дух истории с Востока ушел, а познал себя в Пруссии. Оставалось только разумно распределять этот фаустовский дух между партнерами по бизнесу. И ведь показалось сегодня, что уже нашли идеальную форму управления – раздавать права в кредит. Но и эта конструкция прожила не долго. Всему приходит конец, пришел конец и гегелевской философии. А ведь другой-то философии практически не было. Что ж они делать-то станут, думал Татарников о современных политиках.
Татарников вспомнил, как его сосед по палате Витя оценивал лидеров современного мира, разглядывая их групповые фотографии. Вожди человечества фотографировались на судьбоносных встречах, проходивших в живописных уголках планеты. Гладкие, ухоженные, в красивых костюмах, лидеры становились плечом к плечу и улыбались в камеру – так отдыхающие в санаториях оставляют себе снимок на память о каникулах. Фотографии эти Вите очень нравились, он водил пальцем по фигурам Берлускони, Саркози, Медведева и одобрительно хмыкал.
– Как на подбор! – говорил Витя. – Один к одному! Молодцы! Огурчики малосольные!
Вот бы сегодняшним президентам устроить саммит с лидерами тридцатых годов, думал Татарников, интересно бы послушать, как они тогда заговорят. Что лидеры современного мира не растеряются в беседе, Сергей Ильич не сомневался. На встречах с едкими журналистами лидеры показывали, как остроумно они умеют парировать трудный вопрос.
Что скажут друг другу Сталин и Ельцин, встретившись (где они могут встретиться – это пусть теологи решают), было крайне любопытно. Да, впрочем, любого из современных вождей возьми – не важно какого, диалог бы получился примечательный. Татарников представил себе эту встречу: идет молодцеватой походкой современный вождь в приталенном пиджаке, а навстречу ему тихими шажками движется генералиссимус в простом френче без знаков различия.
Столп тоталитаризма и гарант демократии встречаются, жмут друг другу руки. Причем современный политик улыбается во весь рот, а Сталин только чуть искривляет губы.
– Демократию, значит, строите, – говорил Коба в своей обычной, медлительной манере.
– Да уж не культ личности! – резко парировал современный политик. – Уж не тиранию!
– Это хорошо, что не тиранию, – говорил Коба. – Тирания сегодня крайне непопулярный метод управления массами. А какую демократию вы строите для нашего советского народа?
– Нет больше советского народа! – слышал Сталин в ответ. – Приказала долго жить историческая общность!
– Досадно. – Сталин посасывал трубку, держал паузу. – Это весьма печальный результат. Сократилось, значит, население страны?
– Это при вашем правлении, Иосиф Виссарионович, население сократилось! Лагерей вы понастроили! Миллионы убили!
– Миллионы на войне погибли, – говорил медленно Коба, – за светлое будущее демократического человечества. Вот ты мне и скажи, юноша, напрасно они погибли или нет.
– Теперь каждый человек – хозяин своей судьбы! – бесстрашно говорил сегодняшний вождь.
– Это хорошо, что хозяин. Но надо разобраться, какая у него судьба. Одно дело быть хозяином плохой судьбы, а совсем другое дело быть хозяином судьбы хорошей. Так я считаю, во всяком случае.
– Судьба у людей привлекательная. Многие стали миллионерами, а пятьдесят человек даже стали миллиардерами. У нас появилось элитное жилье и античные виллы.
– Это весьма любопытный факт. Античные виллы, думаю, очень украсят живописную природу Подмосковья.
– Мы ориентировались на ваш архитектурный вкус, – старался демократ найти общий язык с сатрапом, – мы брали за образец курортную архитектуру в Ялте и солидные здания вдоль Кутузовского проспекта.
– Это хорошо, что классические традиции осваиваются пролетариатом, – говорил Коба, – но у меня складывается впечатление, что отнюдь не пролетариат живет в ваших античных виллах.
– Лучшие люди страны живут немного лучше, чем все остальные. Здоровая конкуренция необходима в демократическом обществе.
– А я думал, – говорил Коба, – что демократия – это равенство.
– Ошибаетесь, равенство – это тирания.
– Разберемся с фактами, – говорил Коба неторопливо.
Сталин говорил так: я получил в управление разрушенную гражданской войной страну. Я взял страну неграмотную, с плохим сельским хозяйством, без промышленности, окруженную врагами. Денег не было совсем. Я создал промышленность, сделал из аграрной страны индустриальную, построил дома и дороги, внедрил поголовное образование, выиграл мировую войну, увеличил территорию державы.
А современный политик отвечал тирану так: я получил в наследство страну с поголовной грамотностью, неплохой наукой, непопулярной идеологией, устаревшей промышленностью и сопредельным миром, который нашей страны боялся. Эта страна была страной рабов! Образование мы свели к минимуму, науку прикончили, промышленность угробили окончательно, идеологию уничтожили, державу развалили, ресурсы распродали, население сократили. А вот денег у нас было столько, что в глазах темно. Таких невероятных бабок, какие были в России в последние пятнадцать лет – в нашей стране отродясь не бывало. Плавали в деньгах. Вы можете сказать, что результат не хорош. Но в результате прошлых лет у людей появилось главное – свобода!
– Хотелось бы знать, откуда взялись эти деньги? – на реплику о свободе Сталин не отреагировал, но заинтересовался деньгами.
– Мы торговали ресурсами: нефтью, рудой, алюминием.
– То есть вы торговали тем, что принадлежит стране в целом, принадлежит всему советскому народу?
– Нет больше советского народа, не ясно разве? Деньги эти принадлежат наиболее предприимчивым людям нашей страны, а в их лице – государству. Потому что лучшие люди находятся в государственных органах власти.
– И куда же вы дели эти государственные деньги, демократы? – спрашивал Коба спокойным своим голосом.
– Мы возводили элитное жилье, оно хорошо раскупалось, мы строили коттеджи в античном стиле, мы покупали дорогие произведения современного искусства, мы скупали недвижимость за рубежом, мы вкладывали деньги в американскую ипотеку.
– Это интересный план развития страны, – говорил Коба. – Вы, я вижу, стратег.
В этом месте диалога современный лидер начинал нервничать и говорил запальчиво:
– Если уж на то пошло, мы многое возродили из того, что вы построили. Мы снова установили однопартийную систему, мы ввели вертикаль власти, мы опять сделали выборы фиктивными, мы создали новую номенклатуру. Согласен, Иосиф Виссарионович, страна такова, что твердая рука требуется! Я вам даже так скажу: сегодня фактически правит аппарат ГБ – куда ни взгляни, везде офицеры госбезопасности у власти.
– Это любопытно, – отвечал Коба, – хотя я лично не доверял офицерам госбезопасности. Я верхушку аппарата госбезопасности раз в семь лет менял. Ягоду на Ежова, Ежова на Берию. Не доверял я офицерам потому, что в органах госбезопасности всегда есть опасность. Опасность состоит в том, что полковник может вообразить себя генералом.
Разговор приобретал скандальный характер, лидеры горячились, и Татарников не мог уследить за дальнейшими репликами.
Что же делать, думал Татарников, у офицеров госбезопасности рассыпалась держава, это закономерно. Сначала везло офицерам, а потом везти перестало. Что же взять с них, не генералы все-таки. Он улыбнулся темноте своими бескровными губами.
Потом Татарников перестал думать о вождях, ему стало неинтересно. Он вспоминал маму, потом думал о собаке, потом боль отпустила его, и он задремал.
18
– По мосту пойдем?
– Нельзя по мосту.
– А как ты оттуда шел?
– С той стороны проще. С той стороны нет поста.
– Здесь солдаты, они не дадут пройти. Документы спросят.
– Раньше пускали. Теперь не знаю. – Ахмад подумал, что раз его ловят русские, то и узбеки могут ловить. Теперь все бывает, все солдаты заодно.
– Страшно, – сказала Маша.
– Дойдем до Афганистана, там спокойно.
И странно, она поверила в это.
– Поплывем, – сказал Ахмад, – можно плыть.
Узбекские пограничники видели Ахмада и его семью, пока он подходил к мосту, но реагировать не стали. Не крикнули «кто идет», не стали стрелять в воздух, просто смотрели на тощего маленького узбека и его женщину. Ахмаду показалось, что он знает пограничника; несколько раз уже проходил мимо его поста. Ахмад махнул рукой в знак приветствия – пограничник не ответил, но, глядя на Ахмада, затянулся сигаретой; было видно, как синий дым оторвался от его губ и поплыл над черной рекой. Потом пограничник вынул изо рта окурок, щелчком отправил окурок в реку.
Не доходя до моста, Ахмад свернул с дороги и стал спускаться к реке – пограничник следил, как он скользит по глинистому склону, подходит к воде. Пограничники знали этот трюк. Надо проплыть метров сто и вылезти под фермами моста, потом пройти под мостом по стальным балкам – и ты за границей.
Вода всегда холодная, и пограничник пожалел маленького узбека и его семью. И куда бегут? И от кого бегут? Сколько таких глупых, беззащитных людей. Пограничник смотрел, как Ахмад снимает рубаху, укладывает ее в пакет, смотрел, как он снимает штаны. Потом Ахмад шагнул под фермы моста и пограничник его уже видеть не мог.
Пакет был из московского универсама «Пятерочка» – Маша сложила в полиэтиленовый пакет консервы: банки сгущенного молока и тушенку. Теперь Ахмад переложил консервы в рюкзак и поместил в пакет одежду, несколько раз обмотал пакет веревкой, затянул туже, чтобы вода не попала внутрь: на том берегу он хотел надеть сухое.
– Плывем. Недалеко.
Амударья, широкая и черная, испугала Машу. От черноты несло холодом, сырым ледяным холодом, а посередине реки вскипали белые водовороты.
– Холодно, не проплыву. У меня судороги бывают.
– Я плыву. Ты на мне. На спину мне ляжешь.
– А ребенка здесь брошу?
– И ребенок на мне. Раздевайся, вещи в мешок сложи, чтобы сухие были.
Они скатали Машино платье и вещи мальчика, обернули целлофановой пленкой, запаковали в рюкзак, рядом с консервами. Ахмад завязал петлю на мешке и просунул в петлю голову и плечо, затянул веревку вокруг своего тела, так что мешок оказался приторочен к спине. Рюкзак он надел на то же плечо, просунув руку сразу в обе лямки.
– А если потонем?
Они стояли голые на берегу, под фермами моста.
Ахмад пригнулся и подставил Маше спину.
– Ложись мне на спину. Осторожней, не урони мешки.
Маша легла на плечи Ахмада, обхватила его шею руками, и Ахмад медленно выпрямился. Он постоял, приноравливаясь к ноше, распределяя тяжесть, потом чуть передвинул Машу, чтобы мешки не соскользнули.
– Возьми мешки. А то плыть не смогу.
– А держать меня ты будешь?
– В реке не могу держать.
Ахмад опять присел, не меняя положения спины, чтобы не уронить Машу и мешки, и подхватил мальчика.
– Не бойся.
Он медленно выпрямлялся, было тяжело. В воде станет легче, подумал он.
Татарчонок не кричал, затаил дыхание, зажмурился, прижался к Ахмаду, босыми ножками обхватил его.
– Не бойся, – повторил ему Ахмад, и еще раз сказал, уже Маше:
– Успокой сына, Мария.
– Он храбрый, он не боится.
– Держишься?
– Да.
– Пошли.
Ахмад пошел вниз, наступая осторожно, чтобы не поскользнуться на мокрой глине.
– Держишься?
Так они вошли в Амударью, и холодная вода сразу дошла Ахмаду до груди. Он поднял мальчика, чтобы вода не попала тому в лицо.
– Дай мне. – Мария перехватила мальчика, и Ахмад освободил руки.
– Ты можешь плыть?
Ахмад поплыл.








