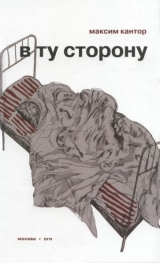
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
12
Три дня Татарникова подержали в палате, а затем Колбасов пришел к нему с неожиданной новостью: больного отпускают домой. Сказал он это в своей обычной манере, на бегу, сжал костлявое плечо пациента и зашагал прочь, цокая по щербатому кафелю штиблетами, – рыжий, ответственный, деловой.
Как это – домой? Александр Бланк, когда Зоя Тарасовна передала ему эту новость, не поверил услышанному. Домой? А, позвольте, лечиться-то как же? Ведь не насморком человек болен! Эта поспешность огорошила всех, кроме Сергея Ильича, который не увидел никакого подвоха – а только изумленно переспросил у сестры: правда, домой?
– Выписку тебе приготовят, и все. Гуляй!
– Как, простите, гулять?
– Ну, это уж ты, голубчик, сам решай. На кресле-каталке пусть тебя супруга катает. Или еще как.
На следующий день в палату к Татарникову пришли его лечащие доктора – Лурье и Колбасов, пришли подтвердить свое решение. Зоя Тарасовна встретила их в волнении: неужели мужа действительно отпускают?
– Отпускаем, – подтвердил Лурье.
– Значит, поправился?
– Определенный этап закончился, а дальше организм сам разберется, – сказал Лурье, не солгав нисколько.
Татарниковы, однако, не поняли.
– А для чего же вам здесь лежать? – сказали врачи, зная, что Татарников умрет через несколько дней. – Неужели домой не хочется? Мы свою работу сделали, опухоли вам удалили. Теперь сами лечитесь.
– А как лечиться? – спросил Татарников.
– Ну, мы напишем свои рекомендации, – сказал строго Колбасов, – через пару недель, возможно, потребуется осмотр. Решим по поводу химии, подождем результатов анализа. Сами понимаете.
Сергей Ильич слабо кивнул.
– Значит, домой. – Он не представлял себе дня без капельницы, без сестры, подкладывающей судно, без обезболивающих уколов. Без уколов терпеть будет сложнее, подумал он, а мне надо терпеть долго. Слово «домой» обозначало здоровье, а он не мог пошевелиться.
– Режим, конечно, постельный, – рассудительно сказал Колбасов.
– Отпускаете?
Татарников тяжело дышал – звук был такой, как будто пилят пластмассу: визг и скрежет.
– Отпускаем, – подтвердил Лурье, всматриваясь в лицо умирающего. Яблоко лица уже было съедено смертью до конца, обкусано со всех сторон; оставался жалкий огрызок, сморщенный, вялый. Так, на один укус. – Отпускаем на все четыре стороны. Дальше сами.
«Что сами? Куда сами?» – этого Татарников не спросил. Он и так знал. Сам – это значит, что остаешься один в своей ледяной могиле в длинном снежном поле. Сам – это значит, терпеть будешь в одиночку. Вот что это значит. Ничего, потерпим. Сказать тут нечего. Он промолчал.
Зоя Тарасовна, принимая из рук врачей выписку о состоянии здоровья пациента, тоже не знала что сказать.
– Не умрет? – спросила она жалобно. – Соседи-то вон умерли.
– Крепкий старик был, – сказал Колбасов по поводу покойного старика. – Вы напрасно так говорите: умер! Он, если хотите знать, мог уже двадцать лет назад помереть, а все жил. Интересный такой случай. Бывший начальник Каргопольского лагеря, энкавэдэшник. Живучий дед – порода у них такая.
– Энкавэдэшник? А нам старик говорил, что он Берлин брал, – сказал Татарников.
– Пискунов его фамилия. Внук у него – большая шишка в «Росвооружении». Только вот навестить деда не приехал, времени не нашел. Прислал шофера с деньгами и документами. Нет, не брал старик Берлина. Он в органах служил, людей сажал. Всех подряд брал, а вот Берлин он не брал.
Татарникову стало смешно. Он не мог смеяться от боли, но ему было смешно.
– Я все понял, – сказал он, – старик, наверное, арестовал еврейскую семью по фамилии Берлин. Например, родственников Исайи Берлина, если не все они успели уехать.
Врачи развеселились. Берлин он брал, это надо же! Лурье смеялся, Колбасов хохотал в голос.
– Можно вас на минуточку? – воспользовавшись тем, что обстановка сделалась непринужденной, Колбасов подхватил Зою Тарасовну под локоть и увлек к окну.
Доктор Колбасов в доверительной манере сообщил ей, что на всякий случай приготовил два варианта выписки. Обычно непреклонный, он интимно склонился к уху Зои Тарасовны и нашептал, что сочинил специальное врачебное заключение исключительно для удовольствия четы Татарниковых. Одну бумагу он написал, чтобы не волновать клиентов избытком информации, а другую – дотошнобюрократическую. В первой бумаге значилось, что проведены три успешные операции по удалению опухолей, и перечислялись органы тела, кои Татарникову отрезали. В другой же бумаге между прочим сообщалось, что множественные метастазы находятся в крови больного, в костях, в печени и в легких. Документы были написаны тем специфическим врачебным языком, который труден для немедленного понимания, – жена Татарникова прочла обе бумаги и не нашла вопиющих различий. Про операции говорилось и там и тут, слово «опухоль» значилось и там и тут, и по всему выходило, что ее-то и удалили. Некоторые детали, опущенные в коротком варианте, она не то чтобы предпочла не замечать, но, заметив, не посчитала важными. Ну да, метастазы. Ну да, в печени. Но операция-то прошла удачно. Колбасов вручил ей конверт с обоими документами, а затем произвел некую манипуляцию хирургическими своими пальцами и один из документов изъял.
Татарникова уложили на каталку, прикрутили брезентовыми ремнями, резво прокатили по больничному коридору, погрузили в медицинскую машину с номерами МНЕ 40–42 и отправили обратно домой.
Когда носилки его катили по коридору, Сергей Ильич попросил санитаров остановиться подле палаты Вовы-гинеколога. Санитар каблуком надавил на тормоз (есть и у больничной каталки тормоз – позднее открытие сделал Сергей Ильич), широко распахнул палатную дверь. Сергею Ильичу подложили дополнительную подушку под голову, чтобы Сергей Ильич мог увидеть Вову и проститься, но Вовы в палате не было. Беспокойными слезящимися глазами Татарников обшарил палату, он увидел стопку журналов GQ, норвежский свитер с пестрым узором, полосатые носки – все это было сложено стопочкой на постели, и тут же лежала скомканная простыня. И Сергей Ильич понял, что это все, что осталось от Вовы-гинеколога.
Простыня была смята именно так, как бывает, когда ее снимают с мертвого тела, – она хранила очертания окостеневшего в смертной муке человека. Еще час назад под простыней лежал Вова в полосатых носках, а вот теперь его нет. Носки полосатые остались, журналы GQ блестят обложками, простыня мятая лежит, а Вовы нет! Нет больше Вовы! Вот с обложки журнала известный режиссер обещает рассказать про шестнадцать способов, как соблазнить женщину, – а Вова-гинеколог уже не прочтет об этом. Вот на первой странице газеты «Ведомости» министр финансов обещает рассказать правду о кризисе – а Вова так и не узнает всей правды.
И несправедливость Вовиной судьбы оскорбила Татарникова – и хоть ему было уже все равно, что творится с миром, но за Вову стало больно. Ошибка вышла, ошибка! Вот его, Татарникова, изгрызенного до последней степени, изрезанного до последнего клочка, вот его, никчемного, отпускают домой, а сочного, полнокровного Вову-гинеколога свалили в черный пакет и потащили в морг. Нет, вы не того взяли, вы ошиблись! Как могла ты, Смерть, куда смотрела! И вы, вы все – общество, научные институты, пенсионные фонды, банки, страховые и фискальные организации, – зачем вы отпустили от себя Вову? От меня-то вам проку нет, а он вас преданно любил! Он же ваш был, буржуинский, как могли вы его предать смерти? Зачем же Вову, который так любил читать про успехи демократии? Зачем же именно его, который верил в свободное развитие личности и капитализм? Когда ты, Смерть, прибираешь человека, недовольного жизнью, ты поступаешь логично, но взять Вову – это бессовестно!
Вова верил в прогресс, он был подходящим членом бесправного коллектива, он всему радовался! Чем же он вам помешал? Он так хотел понравиться миру! И вот умер, умер, умер!
– А где Вова? – тихо спросил Татарников.
– Да где-нибудь тут, за углом, – сказал санитар и покатил каталку дальше по коридору. – Спрятался от нас, не показывается.
Носилки задвинули в машину, шофер посмотрел на серое лицо Татарникова и сказал:
– Домой? Повезло тебе.
И Татарников подумал, что ему действительно несказанно повезло. Он едет домой, к своим книжкам, в свою комнату. Он увидит фотографию своей мамы, увидит свою кошку. Он увидит паркетный пол своей комнаты, половицы, на которые он в детстве пролил чернила и которые всегда разглядывал, когда лежал на диване. Увидит репродукцию картины с изображением Венеции, приколотую над столом. Увидит тот кусок обоев, который отклеился от стены, а его так никто и не приклеил вот уже десять лет. И трещину на потолке – от лампы до карниза он увидит тоже. Господи, спасибо тебе. Как хорошо ехать домой. Машина поворачивала, голова Татарникова моталась по поролоновой подушке.
Врачи не сказали Татарникову, что раковые метастазы у него повсюду, – они сказали об этом лишь его жене. Впрочем, люди устроены так, что слышат то, что хотят услышать.
Зоя Тарасовна поняла врачей так, что операция прошла хорошо, главная опухоль удалена, больного отпускают домой, поскольку лечить больше нечего.
То, что есть в теле и другие больные места, она слышала, но предпочла забыть. Говорят, где-то там метастазы. Ну и что? Операция-то прошла нормально, вот что важно. Сергей отпущен домой, он идет на поправку – вот что важно. Им повезло, им разрешили ехать домой. Других хоронят, отвозят в больничный морг, складывают в черные полиэтиленовые мешки, как мусор, – а вот их отпустили живыми! Она смотрела на мужа – тот лежал на носилках внутри машины, и голова его моталась из стороны в сторону, когда машина поворачивала, – смотрела на его серое лицо, точнее, на остатки лица, потому что лицо уже было сгрызено смертью, смотрела и думала: нам повезло!
– Нам повезло, – повторяла она с отчаянием, заговаривая судьбу, заговаривая страх, – нам повезло!
13
Достоинства Валерия Сердюкова были неоспоримы, и, когда сенатор Губкин представил нового редактора коллективу газеты, вопросов ни у кого не возникло. Сердюков был в одном из своих двухсот представительских костюмов, а именно в бежевом с золотым отливом. На шее демократа номер один был повязан алый галстук в синюю полоску, и в целом сочетание цветов (красно-лазорево-белый, как на российском флаге) получилось патриотичным. Сотрудники газеты расценили гардероб нового начальника как заявленную программу развития издания. Газета будет независимой, но станет обслуживать вертикаль власти. Либерализм – да, но либерализм не безответственный, либерализм государственный. Демократия, бесспорно, – но суверенная демократия.
Валерий Сердюков прошелся по комнатам, ничего никому не говорил, смотрел сквозь очки в золотой оправе, молчал, даже «футынуты Фоссия» не говорил. Он предоставил хозяину издания объяснить сотрудникам, что к чему, и действительно, Губкин сам пожелал поговорить с коллективом журналистов.
Губкин держался запросто, в отличие от чопорного Сердюкова. С ним даже охраны никакой не было, так, вошли два тихих человека, встали в сторонке, а что это за люди, никто и не знал, – может быть, просто знакомые. А что у них пистолеты под пиджаками, ну так кто сегодня без оружия в гости ходит? Губкин присел на стул в центре комнаты, а его обступили преданные капслужащие. «Вам чайку, кофейку?» – «Зеленого чаю, будьте любезны».
Журналисты оценили демократизм Губкина. Мог бы вовсе не приходить, ничего нам не объяснять. Прислал бы Сердюкова вместо Бланка – и дело с концом. Или, например, так: прислал бы охрану – Бланка бы вывели, Сердюкова на его кресло посадили, чего проще? Что же мы, непонятливые, что ли? Нет, он, деловой человек, нашел время, приехал познакомиться. И ведь сел на обычный стул! Мог бы кресло себе заказать – из красного, допустим, дерева. А он – на стул. И как будто всегда на стуле сидит, такое складывается впечатление. И одет демократично – в спортивной маечке. И вежливый какой, воспитанный! Владелец газеты – может себе что угодно позволить, может хоть матом, хоть кулаком по морде моей журналистской. А – деликатный. Спасибо говорит, здоровается с персоналом.
Губкин принял из рук потрясенной журналистки горячую чашку, оглядел коллектив и весело заговорил:
– Вот вы пророчите невесть что, а между прочим, все в полном порядке. Скажите, зачем людей пугать? Делу это помогает? А главное, мир уже неделю как выздоравливает, кончился кризис. Не заметили перемен? Была болезнь, не отрицаю, было легкое недомогание – так ведь на то врачи имеются. Подлечили. А вы все причитаете, слезы льете.
Поэтому совет акционеров и решил, что пора, так сказать, провести санацию газеты. Вот – демократ номер один, Валерий Сердюков. Под его руководством вы, уверен, такое напишете, что у людей радость в глазах появится!
А то – понаписали! Средний класс прижали – это вы написали? Аналитики! Ну, прижали, и что?
Разрыв между бедными и богатыми велик как никогда? Ну, есть разрыв, и что такого? Я бы хотел видеть не нытиков, не зануд, а людей, которые предлагают свежие решения. Зачем жаловаться? Возьми и сделай лучше!
Ну да, акции и ценные бумаги упали в цене. Но, поверьте мне, – Губкин улыбнулся всем сразу, но подержал улыбку достаточно долго, чтобы каждый мог ее отнести на свой счет, – это далеко не конец света. Да, вам не платят зарплату, не отрицаю, неприятно. Вот у меня, например, заводы стоят, но я не жалуюсь! Не жалуюсь! Вы все, наверное, слышали, как в одной деревне мужики возмутились – встал у них завод и платить им перестали. И президент наш сказал мужикам: не бойтесь, мужики! Заработает скоро ваш завод. Вот и я своим работникам тоже говорю: потерпите, сейчас платить нечем, но скоро все заработает. Опять завод пустим! И вам говорю: разбудите в себе оптимизм – и все наладится.
Журналисты кивали, соглашались.
Бланк, стоявший в задних рядах, сделал шаг вперед, и многие повернулись к нему с недоумением. Зачем пришел? Жена советовала остаться дома, но Бланк решил идти на встречу с собственником – формально он был обязан сдать дела. Губкин заметил, куда смотрят журналисты, выделил в толпе Бланка, поманил рукой.
– Поблагодарим Александра Бланка. Мы будем вспоминать время, когда Бланк руководил нашим изданием.
– Мне кажется, – сказал Бланк горько, – газета без меня обойдется. Незаменимых людей у нас нет.
Хотел сказать реплику весело, а получилось горько и отчаянно, скорбные слова «незаменимых нет» сказал писклявым голосом. И тут еще Румянцева, поразительная подхалимка, добавила:
– Мы, Саша, ваш портрет закажем и в рамочке повесим. Вспоминать вас будем.
Зачем она так сказала, неужели надо язвить? Неужели Сердюкову это нравится?
Румянцева словно почувствовала, подошла, жарко прошептала в ухо:
– Что же ваша муза вас не поддержит?
И слово «муза» выговорила презрительно, приоткрыла ротик в улыбке.
И отошла, шелестя юбкой.
Губкин продолжил свою речь:
– Я не собираюсь давать советы! У нас имеется демократ номер один, – жест в сторону золотистого Сердюкова, – он пусть и рулит. Скажу лишь, что общество нуждается в разъяснении. За какую именно демократию мы сегодня боремся? В последние годы возникли, назовем это мягко, необоснованные претензии. То и дело слышишь от разных деятелей: дескать, я не работаю, а хочу иметь много денег, потому что все равны, раз у нас демократия.
Журналисты посмеялись. Находятся же идиоты, которые говорят подобное. Ха-ха. Смешно пошутил сенатор Губкин.
– По этому поводу несколько слов. Демократия есть равенство возможностей, а это не то же самое, что равенство результатов, не так ли? Возможности у всех были одинаковые, – сказал Губкин.
И опять журналисты покивали. Разумеется, возможности были одинаковые. Кто им, в сущности, мешал поступить работать в КГБ, дослужиться до резидента в Германии, а потом стать правой рукой мэра Ленинграда? Никто не мешал. Кто мешал сделаться комсомольским вожаком, а потом исхлопотать себе право на приватизацию рудных залежей? Всего-то дел – попасть на прием к президенту и оказаться президенту полезным. Что, запрещали тебе, дурню, нефтью спекулировать? Никто не запрещал? Не хотел спекулировать? Так не жалуйся теперь, что пенсия в три рубля. Равенство возможностей у нас, демократия.
Бланк смотрел на своих сотрудников и думал: ну хоть один выступи, вспомни, пожалуйста, об этих годах, скажи, что жалеешь меня.
– Мы боремся, – продолжал Губкин, – за то, чтобы дать шанс каждому. Заводы скоро заработают, газеты будут выходить, жизнь наладится – надо лишь верить и работать. Программу нового издания Валерий Сердюков скоро с вами обсудит. А пока Александр Бланк скажет несколько слов на прощание.
Бланк вспомнил, как обычно говорил в таких случаях Татарников, и сказал, повторяя интонацию Сергея Ильича:
– Заводы заработают? Замечательно будет! И то, что президент это обещал, – бодрит и вселяет надежду. Только вот что производить будут? Автомобили делать не умеем, авиационную промышленность угробили, наука сдохла. Что производить-то станем, если не умеем ничего? Есть, правда, один рецепт – что можно производить в России. Вы, господин Губкин, так устройте производство, чтобы сразу деньги печатать.
Губкин внимательно посмотрел на Бланка, и те, кто перехватил этот взгляд, поняли, что сенатор Губкин совсем не веселый, а чрезвычайно холодный и исключительно жестокий человек.
– Заводы должны просто печатать деньги. Это и будет целью развития общества. Других целей все равно нет. И вопросов о зарплате, кстати, не возникнет. Зарплату коллектив завода может печатать себе сам. У меня есть практический совет относительно будущего газеты. Нельзя ли на разворотах печатать денежные знаки? Подписчики будут нарезать себе купюры, и уверен – тираж подскочит!
Бланк сказал это, поклонился коллективу, кивнул Губкину – и вышел из кабинета. А журналисты ждали – что Губкин сделает? Губкин проводил бывшего главного взглядом, улыбнулся. Встал, одернул свою спортивную маечку, подошел к окну, распахнул створки.
– Немного свежего воздуха, а? Считаю, хватит ныть. Жизнь налаживается, пора работать. Смотрите, весна.
И журналисты потянулись к окну, вдохнули запах улицы. Действительно, весна. Кризис прошел, деревья зеленеют, банки начинают выдавать кредиты. И соловьи в этом году распелись в Москве. Хороший у нас город, веселый. И сирень цветет. И нефть дорожает. Что это мы, в самом деле? Подумаешь, зарплату не платят. Так ведь заплатят когда-нибудь. Начальство доброе. Демократия у нас или нет?
14
Бланк вышел из редакции и поехал к Татарникову. Сергей Ильич был дома, не в больнице – и шел Бланк привычной дорогой, как много лет ходил, и поднялся по знакомой лестнице на второй этаж, и звонок звонит так же, вот и шаги жены Сергея Ильича за дверью – все как раньше. Жизнь вернулась в нормальное русло.
– Как больной?
Присел у изголовья, вгляделся. Он знал, что рак уже проник во все органы Сергея Ильича, знал, что шансов выжить нет никаких, но глядел на друга и поражался: ясный взгляд, спокойная улыбка, даже румянец появился. Вдруг Бог – или Высший Разум – или доктор Колбасов – или силы природы – вдруг все они вместе явили чудо? Что мы знаем о себе и о возможностях человека?
– Как ты себя чувствуешь?
– Отлично, – сказал Татарников, и сказал он это своим обычным голосом, немного насмешливо, спокойно.
– И болей нет? – недоуменно спросил Бланк. А вдруг это тайские целители постарались? – И кризис, говорят, тоже кончился.
– Разве?
– В редакции сказали. Все поправилось. Меня уволили, – добавил Бланк.
– Наконец-то. – Татарников не выразил сочувствия.
– Уволили. Кризис кончился, ты выздоравливаешь, а меня уволили. Начнем новую жизнь.
– Ремиссия, – сказал Татарников спокойно. – Домой приехал, полегчало. И в мире так же точно. Помнишь тридцать восьмой год? Осенью тридцать восьмого, после Мюнхена, многим казалось, что им подарили новую жизнь. Говорят, в Париже второй раз зацвели каштаны.
– Думаешь, все вернется?
– А что изменилось, Саша? Финансовый капитализм изменил свою природу? Богатые стали добрее?
– Но ведь боли прошли?
– Совсем без болей нельзя, – рассудительно сказал Татарников, – у всякого человека что-нибудь болит. У меня живот, у тебя совесть. Болит совесть, Саша?
– Ты помнишь тот разговор?
– Разобрался?
– Как разобраться?
– Веди себя честно, – сказал Татарников. – На всех сразу не женишься.
– Кому помочь, я должен выбрать, кому помочь.
– Помогай слабейшему.
– Но если оба слабые, – и он представил себе пожилую женщину, одну в доме, беззащитную перед миром.
– Не оставляй никого. Никогда не оставляй никого.
– Как? Как? – Хорошо тебе говорить, думал Бланк, лежишь тут умирающий и спросить с тебя невозможно. – Как всем помогать?
– Пока не помрешь, – сказал Татарников.
– Скажи, – не удержался Бланк, – а смерть, это что – одиночество? Вот говорят, что человек остается совсем один, когда умирает. Когда умираешь, уже никому не поможешь? Так ведь?
– Нет, это не одиночество, – сказал Татарников. – Я уже был там и кого-то видел. Тени, – сказал он, – длинные тени. Там много народа. Больше, чем здесь. Ты не один. Ты растворяешься во всех других, – добавил он непонятно.
– Я не понимаю.
– Я и сам не понимаю. Просто так есть. Вот и все. Растворяешься во всех других, это и есть смерть.
Бланк не удержался и сказал:
– Ты знаешь, Рихтер умер.
Старик философ Соломон Рихтер был другом Татарникова – хотя виделись ученые редко: последние годы Рихтер болел и не выходил из дома, да и Сергей Ильич был не особенно здоров. В отношении больных никогда не знаешь, какой тактики придерживаться: говорить ли им о болезнях и смертях других людей, или нет. Бланк не хотел говорить Татарникову о смерти друга, но вдруг подумал, что умирающий, скорее всего, смотрит на это событие философски. Может быть, известие о чужой смерти примиряет со своей собственной.
– Попал в больницу одновременно с тобой, – продолжил рассказ Бланк. – Три месяца назад.
– Он долго сопротивлялся, – сказал Татарников с каким-то особенным выражением. Так солдат говорит про другого солдата, умершего от раны. – Он долго сумел протянуть.
– Долго, – повторил за ним Бланк. – Врачи уже не надеялись, а он все жил. Ему сначала операцию на сердце делали. Разорвалось сердце. Зашили, и он все жил.
– Терпеливый, – сказал Татарников.
Сергей Ильич представил себе Рихтера, умирающего старика. Он ясно увидел надменный профиль гордого Рихтера, непримиримого марксиста. Увидел его изогнутую бровь, кривой нос, каменные скулы. В длинном белом поле он увидел другой окоп, где замерзал другой человек. И не дотянешься, не докричишься. Каждый замерзает молча, терпит в одиночку. Но однажды все встретятся – надо только дождаться этой встречи.
– Потом ему мочевой пузырь резали.
– А, это-то я себе отлично представляю.
Татарников слушал внимательно, сощурившись; так солдат слушает рассказ о бое.
– Потом его уронили санитары, он бедро сломал. Это надо же – человека после операции на сердце уронили на каменный пол.
– Могу представить. – Татарников видел перед собой лицо Соломона Рихтера, кривую его усмешку.
– Оперировали ногу – кровь долго остановить не могли. А он все жил.
– Рихтер может долго терпеть, – сказал Татарников. – С Рихтером им пришлось повозиться. – Он не уточнил, кому именно пришлось повозиться.
– Потом у него инсульт был. Потом другой инфаркт.
– А он держался? – спросил Татарников.
– Долго держался, – подтвердил Бланк. – Врачи уже устали, а он все не умирал. Но легкие отказали.
Татарников кивнул.
– Да, получается дольше, чем думаешь. У меня сейчас ремиссия. Дня два, думаю, добавит к отпущенному сроку. Скажи, – спросил он Бланка, – дошло до легких?
Бланк посмотрел на него, посмотрел в чистые холодные синие глаза.
– Говорят, да.
– Я так и думал, – сказал Татарников. – Задохнусь. Вот как будет. Но пара дней все-таки есть. Дай-ка сигарету. В ящике стола. Быстрее, пока она не пришла.
Бланк достал из стола сигарету, Татарников закурил и сказал:
– Мы бранились с Рихтером. Он был марксистом, ты знаешь. Я его называл красным комиссаром, а он меня – белогвардейцем. Смешно получилось. И он помер, и я помираю. Никто не победил. Ни красные, ни белые.
– Кто-то победил, – сказал Бланк и подумал про Сердюкова и Губкина.
– Рак победил, – сказал Татарников. – Ты когда-нибудь рак видел?
Бланк опешил, ничего не сказал. Все люди слышали про рак, все знают про эту болезнь, но как можно рак увидеть? В микроскоп, что ли?
– Человек превращается в рака, – сказал Татарников. – Меня мыли в больнице, и я случайно увидел. Половина тела окостенела, панцирем покрылась.
– Господи, – сказал Бланк. – Как страшно.
– Я пока что человек, – сказал Татарников, – я пока еще человек. Но человека каждый день остается все меньше, понимаешь? Он меня ест и не остановится, пока не съест. Я думаю, что рак – он как власть. Ему всегда мало.
– Всегда мало, – повторил Бланк.
– Не возразишь. Только терпеть. Я еще человек, и за это держусь. Хуже всего – если я себя предам.
И Бланк повторил:
– Хуже всего предательство.
В комнату ворвалась жена, крикнула:
– Тебя три месяца лечили, а ты! И вы – как могли сигареты дать!
– Разве не все равно? – спросил Татарников.
А Бланк сказал:
– В самом деле, если рак…
Зоя Тарасовна схватила Бланка за рукав, зашептала яростно:
– Не смейте! Не смейте расстраивать! Не смейте говорить, что рак! – и дальше сбивчиво, скороговоркой. – Если не будет знать, то обойдется. Он у меня уже садиться стал. На поправку пошел. Надо стараться, чтобы не узнал.
– Что ж вы думаете, рак пройдет?
– Главное – ничего не говорить. – Она приложила палец к губам.








