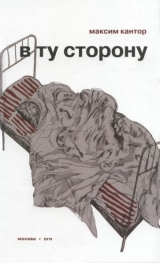
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц)
6
Физики говорят, что не исчезает ни единый атом материи, ни единый сгусток энергии, но и то и другое трансформируется, продолжая существовать. Значит, когда меня не станет, я переплавлюсь в некую свободную от оболочки энергию, перейду в новое состояние, просто утратится одна из форм существования – и только. Видимо, то, что от меня останется, и называется душой. Это они имеют в виду, когда говорят, что душа бессмертна. Надо просто верить. Только верить – и все остальное устроится само собой.
Если существует всеобъемлющее Высшее Сознание (интеллигенты стесняются слова Бог, так назовем Бога – высшим сознанием), то может ли какая-либо идея угаснуть в нем без следа? Свет звезды идет до нас миллионы лет – и возможно, сама звезда уже погасла, но она является в виде света. После моей смерти Бог по-прежнему будет помнить меня, вот такого Сергея Ильича, каким я всегда был. А разве, если я сохраняюсь в памяти у Бога, если мое личное сознание сохраняется в высшем сознании, – разве это не значит, что я не умираю? Единение в высшем сознании – не означает ли оно бессмертие? Я не умираю, просто уходит форма, приданная природой моему сознанию.
Но если именно мое, ни на что не похожее сознание и есть причина моей уникальной формы, то изменение формы внесет хаос в гармонию мира. Уйдет уникальная форма, изменится некий фрагмент бытия – или это пройдет незамеченным?
Сергей Ильич Татарников лежал на своей зыбкой койке и думал о бессмертии. Боль – горячая боль раковых больных – просыпалась в его теле. Интересно, думал он, переживание и осознание боли – относится оно к тем вечным формулам, которые воспримет всеобщее сознание, – или страдание уйдет вместе со мной? Жар души сохранится, но жар лимфатических желез исчезнет, так надо понимать? Или именно жар лимфы перейдет в жар души?
Филологическая герменевтика, язвительно думал Татарников, дается нам куда легче герменевтики философской. Возвращение к изначальному тексту невозможно – философу просто некуда вернуться: бытие себя исчерпывает. Умирает не идеальная абстракция, умирает не некий Man, как говаривал Хайдеггер, – умирает один единственный человек. Я умираю. Горстка пепла, урна в стене, вот тебе и вся герменевтика, подумал он. Однако зачем-то это состояние длится, зачем-то они снова и снова совершают свой ритуал – моют меня, делают бесполезные уколы, втыкают в меня шланги и катетеры. Для чего-то бытию важно провести меня через это медленное и мучительное состояние угасания.
Вполне возможно, что смертельная болезнь и острая боль (вместо мгновенной смерти) даются человеку, чтобы в полной мере пережить переход из одной ипостаси в другую, из одного состояние в иное. В этом смысле, мы приучаем себя воспринимать смерть как выздоровление. Так и следует объяснять последние слова Сократа, просившего отдать Асклепию петуха: Сократ почувствовал приближение смерти, то есть выздоровления, и пожелал отблагодарить врача.
Интересно, как отблагодарить Колбасова и Лурье? Петуха им, пожалуй, будет мало.
– Витя, – позвал Татарников, – ты взятки врачам даешь?
– Какие еще взятки, Сергей Ильич? Откуда мне их взять, взятки эти?
Витя лежал рядом с Татарниковым, но голос его пришел как будто бы издалека, словно с другого конца поля.
– Что ты сказал, Витя?
– Говорю, мне никто взяток не несет – и я никому дать не могу. Все по-честному.
Заглянул сосед-гинеколог Вова, скинул шлепанцы, расположился в своей обычной позе – ноги в полосатых носках задрал на спинку кровати, руки подложил под голову.
– Типичная ситуация, – сказал Вова, – объясни врачам, что у тебя кризис неплатежей.
– Ага, – сказал Витя. – А то они сами не знают.
Издалека доносились их голоса. Неожиданно Татарников увидел себя – и своих соседей – в огромном белом поле; никелированные кровати, серые простыни, белые стены – все слиплось в длинное тягучее мутное пространство. И он плыл по этому пространству на своей узкой койке. Он не мог объяснить, почему поле такое холодное, – скорее всего поле было снежным, да, именно так: белый мутный цвет возник оттого, что все вокруг заметено снегом. Оттого так и холодно рукам, оттого так и стынут тощие ноги под одеялом.
Вова-гинеколог неожиданно сел на кровати и сделал сообщение:
– Вообще-то никакого кризиса в мире нет.
– Как это, кризиса нет? – возбудился Витя. – Что ты говоришь! Сам придумал или где прочитал? Я знал, что тут дело нечисто! Нет, ты скажи, Сергей Ильич, я как чувствовал! Думаешь, дурят нашего президента? Кризис, мол, кризис – а сами втихаря…
И Витя, рязанский аналитик, обрисовал ситуацию в высших эшелонах власти: президенту сообщают ложные цифры, пугают народ, граждане по дешевке распродают имущество, а негодяи-богачи еще того более богатеют.
– Все не так просто, – снисходительно сказал Вова-гинеколог, – это общая мировая стратегия.
И Вова выложил на кровать стопку свежей прессы – тут и журналы GQ, и газета «Коммерсант», и «Ведомости», и все исчеркано, все страницы в пометках.
– Комбинация такая, – сказал Вова-гинеколог. – Объявляют мировой кризис, банкротят убыточные предприятия, избавляются от балласта, бездельников гонят.
– А что, так просто, без кризиса, не могли?
– Не получается без кризиса! Мусульмане, террористы всякие, марксистов недорезанных не перечесть, нацменов столько понаехало – черно на улице. Мне сестра из Берлина пишет: одни турки кругом. И что же получается: мировая демократия их всех будет кормить? Они в нас бомбами, а мы им – зарплату? Выявить врагов демократии и посадить журналисты не дадут, чуть что – в крик! Вот и придумали, как всех прижать легальным способом.
– Кого прижать? – спросил Витя подозрительно. – Меня им, что ли, надо прижать?
– Ты все про себя! Если каждый только о себе думать будет, демократию никогда не построим.
– Значит, нет кризиса? А Доу Джонс почему падает?
– Много ты, Витя, в Доу Джонсе понимаешь. Как график нарисуют, так Доу Джонс и упадет. Люди поумнее тебя графики составляют.
– Мухлюют, значит?
– Не мухлюют, – Вова-гинеколог поморщился на примитивные Витины определения, – не мухлюют, а строят глобальный демократический мир. Кризис – это так специально придумали, это для нервных.
– Так, может быть, и у нас рака нет? – спросил тогда Сергей Ильич. – Может быть, это все так – от нервов? Волнуемся – болит, успокоимся – пройдет.
– Точно! – подхватил Витя, – А доктора пользуются. Они-то, небось, знают, что все у нас в порядке. А зарплату им получать надо? Семью кормить надо? А на водочку? А на ресторанчик? Колбасов, слышал, дачу строит. Вот и режет всех подряд. Бумажку с анализами подмахнет – и режет! Нет, ты скажи, Сергей Ильич! Берет такой Колбасов мои анализы, где надо, нолик припишет, где надо, два нолика – и все в ажуре! Скальпель – цап! И режет живых людей, лепила! Угадал я?
Теперь, когда Татарников остался один, без соседей, он жалел, что мало поговорил с ними. Вроде бы совсем недолго прожили вместе, но он вспоминал Витю, и бессловесного старика, который брал Берлин, и Вову-гинеколога почти так же часто, как свою жену. Отчего так устроено – пройдет мимо тебя человек, зацепит рукавом, попросит прикурить, и выяснится потом, что ближе никого у тебя в жизни не было.
Выйти бы отсюда, уйти прочь из этой вонючей палаты, выйти на улицу, где дует ветер, где птицы чертят вечерний воздух, где тополя раскачиваются и скрипят. Пройтись бы по улице, окликнуть прохожего, спросить его, отчего это у нас в России так много воруют. И – разговорится человек, целый час простоите вы с ним на ветру, искурите пачку сигарет, и расставаться вам не захочется. Пойти бы в гости к старику-профессору Рихтеру, посидеть на его продавленном диване, послушать, как брюзжит старый марксист. Вот еще о Рихтере вспоминал Сергей Ильич, жалел, что не успел ему позвонить до отъезда в больницу. Уйти отсюда надо – а сил нет, не поднять руки. Даже сесть на кровати Татарников не мог, даже голову приподнять было трудно. И холодно, очень холодно.
7
– Когда жизнь ладится, то все подряд хорошо – и дочка в порядке, и зарплата идет, и муж здоров, а придет беда – и валится одно за другим. И зарплату не платят. И домработница хамит. Вот Сергей заболел. И в Грузии война – то есть война уже, кажется, кончилась, но к чему это ведет, скажи мне, ради Бога? Сонечка собралась уезжать с Басиком – а как ехать, если Басик на ней не женился? – так говорила Зоя Тарасовна Татарникова своей подруге.
– Надо с Басиком прямо поговорить.
Басиком подруги называли англичанина Бассингтон-Хьюита, бойфренда дочери Татарниковых, Сони.
– Ну приедет она, поживет в их семье, а потом? Виза кончится, что дальше? Кто-то должен думать о завтрашнем дне, как считаешь? Подожди, в дверь звонят, надеюсь, это все-таки Маша пришла! Без прислуги невозможно – но с такой еще хуже!
Подруги давали советы, а Зоя Тарасовна Татарникова записывала: в какой церкви помолиться, где достать морфин, как найти таиландских докторов, – и уставала за время этих бесед, как после тяжелой работы. В конце концов, каждый делал что мог: Татарников болел, доктора его резали, а жена говорила по телефону.
Появились в доме народные таиландские целители, женщина с низким голосом и девица в прыщах, причем обе говорили по-русски без акцента и оказались уроженками города Владимира.
– А я думала, что таиландская медицина, – удивилась Зоя Татарникова.
Девица достала бумагу, где было сказано, что гражданка Аношкина является тайским целителем, этот факт заверяли печатью. Зоя Тарасовна прочитала документ и предложила пройти к больному.
– Зачем тревожить? – сказала прыщавая целительница. – Фотография есть?
Целители затребовали пять тысяч рублей и долго изучали фотокарточку, сидя за чаем с бубликами.
– Душа у него устала, – сказала старшая целительница, а младшая поддела ногтем прыщ на щеке, выдавила гной из белой головки.
– А у меня-то как устала! – сказала Зоя Тарасовна.
И она рассказала целителям все сразу, всю свою жизнь целиком, и целители подтвердили, что надо лечить не детали (рак, метастазы, опухоли), а первопричину – душевную муку.
– Подождите, я свежий чай заварю. – Синий чайник уже плевался водой, Зоя Татарникова сняла чайник с огня. – Говорят, у вас на Таиланде голыми руками операции делают.
– Делаем, – сказала девица, выдавливая второй прыщ, – вот она делает, – и показала на женщину.
Женщина поводила рукой в воздухе вокруг воображаемого тела Сергея Ильича, подула на кончики пальцев.
– Тяжелое поле, – сказала она, – мешает работать.
Зоя Тарасовне стало неловко перед целителями. Говорила она мужу, чтоб не пил. Вот и поле у него теперь тяжелое, людям работать мешает.
– А как с печенью? – зачем-то спросила Зоя Тарасовна.
Женщина поводила рукой возле печени отсутствующего Татарникова, подула на пальцы и покачала головой.
– Говорила я ему, предупреждала! – Зоя Тарасовна сокрушенно разливала чай. – И Маша не убирает, Маша все забывает, у Маши, видите ли, свои заботы!
Она рассказала целителям, что домработница Маша теперь приходит к ним в квартиру с трехлетним сыном-татарчонком, и не работает вовсе, а занимается своим ребенком.
– Оставить ребенка не с кем! А муж-татарин на что?
– Их много к нам понаехало, – подтвердили «тайцы», – в Москве деньги, все чурки к нам лезут.
– Сама русская, а муж, видать, татарин, – рассказала Зоя Тарасовна, и «тайцы» согласились, что такое частенько бывает в Москве. Город большой, народ пестрый, девушки доверчивые. Далеко ли до беды. Ребенка сделал – и к себе, в Татарстан. Что мы, не знаем, как бывает?
Зоя Тарасовна кивнула: да, так именно и бывает. Уроженец Оксфорда, Максимилиан Бассингтон приехал на три месяца в Россию – писать книгу о русской жизни, изучать нравы жителей бывшей социалистической империи – и сблизился с дочерью Зои Тарасовны.
Поселился Бассингтон-Хьюит в Сонечкиной спальне, и Татарниковы даже поспорили – удобно ли это.
– Что это, дом свиданий? – ярился Сергей Ильич.
– Так у молодежи принято!
– У меня так не принято! Он в моем доме и спит с нашей дочерью!
– Теперь все так делают в Англии!
– Спят с дочерьми русских болванов? А русские болваны им постель стелют?
– Везде так. Свободная любовь!
– Хоть в Букингемском дворце! Их собачье дело! У них там права равны – свободная любовь, она равных прав требует! А здесь он в гостях у бесправной зулуски! Соня даже приехать в Британию не может без визы. Надоест ему, он чемодан соберет – и домой. А ее дальше вокзала не пустят.
– Есть долг гостеприимства! – кричала Зоя Тарасовна, полагая, что шанс упускать нельзя.
– К туземцам, значит, европеец на постой приехал?
– В конце концов, это моя дочь! И она уже взрослая! – Так всегда и кончались споры: вспоминали, что Сонечка – дочь от первого брака и у Сергея Ильича нет прав ее судить.
Зоя Татарникова спорила, но, оставаясь наедине со своими мыслями, сама приходила в расстройство. Надо бы все-таки подтолкнуть румяного Бассингтона к мыслям о женитьбе. Надо дать понять британскому гостю, что Соня очень ждет брака, рассчитывает, что свободная связь перерастет в более прочные отношения. В конце концов, Соня отдала этому чувству лучшие годы, вот что надо было бы сказать Бассингтону.
Всякий раз, встречая британского джентльмена на пороге ванной комнаты (он выходил оттуда, обмотав полотенце вокруг полных бедер), Зоя Тарасовна собиралась сказать ему нечто конструктивное, но нужных слов не находила. Женится он на Сонечке? Неловко, до чего неловко спросить! И как сформулировать вопрос? Нет, разумеется, беседовать следует не в ванной комнате – лучше затеять разговор за ужином. Например, наливаешь гостю кофе и спрашиваешь: а скажите, Максимилиан, вы на нашей дочери жениться собираетесь? Она представляла, как посмотрит на нее британец – обескураженно, с обидой. Человек сидит в гостях, пьет кофе – а ему про женитьбу на хозяйской дочери. Он отставит чашку, промокнет губы салфеткой, встанет из-за стола – и пойдет прочь. Прочь из этого дома! Фу, дикарство какое! Одно слово – славяне.
И разговор откладывали.
Каждый вечер в квартире Татарниковых разыгрывалась одна и та же сцена. Максимилиан Бассингтон-Хьюит, румяная оксфордширская сарделька, добродушный британский юноша, усаживался крепкой попой на кухонном табурете, прихлебывал кофе и с интересом изучал чету Татарниковых. Особенно занимал его Сергей Ильич. Любопытный русский типаж, характерная деталь – беззубый рот; они здесь экономят на дантистах. Видимо, нет привычки ходить к врачам – общество фактически только складывается, нет элементарных базовых обычаев, принятых всеми гражданами.
– Скажите, Максимилиан, читают ли в Британии книги Исайи Берлина? – Зоя Тарасовна собиралась спросить, знают ли родители Бассингтона о связи сына с русской девушкой, но начинала издалека.
Но Бассингтон не успевал высказать мнение о великом либерале, друге Ахматовой.
Атмосферу культурной дискуссии портил Татарников. Сергей Ильич извинялся, вставал, боком протискивался вдоль кухонного стола, ковылял в туалет. Некстати заболев, он всякий раз стеснялся, отправляясь на глазах у всех в уборную, – теперь ему нужно было туда каждые двадцать минут. Бассингтон-Хьюит любезно пропускал хромающего Татарникова, делал вид, что не интересуется, куда это отец семейства ходит чуть что, и не прислушивается он вовсе к журчанью мочи за стенкой. Британец хладнокровно пил кофе, а Зоя Тарасовна восхищалась его выдержкой: все-таки британское воспитание – это вещь особая. Унизительно была спланирована их малогабаритная квартира, в которой туалет выходил дверью на кухню. Не клеится разговор о сэре Исайе Берлине, когда за тонкой перегородкой справляют нужду.
Так в тесноте текли их дни до больницы – и суеты прибавляла домработница Маша: приходила на работу со своим татарчонком, убирала плохо и беспрестанно клянчила деньги.
– Русским языком говорю: нет денег! – Зоя Тарасовна и впрямь думала, что Маша разучилась понимать по-русски, живет в татарской семье, родной язык позабыла.
– На китайцев тысячи тратите!
– Пойми, Маша, это таиландская медицина, они все могут!
– Пусть себе прыщи на роже выведет, если все может! Денег дайте, нам есть нечего.
– Уйди, Маша, нет у меня денег! – Боже мой, до чего неловко перед Бассингтоном!
Маша долго возилась в прихожей, обувала своего татарчонка, тот визжал и просился на руки. Бассингтон-Хьюит деликатно выходил с кухни, чтобы закрыться в спальне. Сергей Ильич выглядывал из уборной: можно ли пройти по коридору? – он протискивался между визжащим татарчонком и деликатнейшим британцем, спотыкался, извинялся. Кошка, старая, больная, сумасшедшая кошка Нюра с воплем кидалась под ноги хозяину. Зоя Тарасовна закрывала глаза, чтобы не видеть, зажимала руками уши, чтобы не слышать. Что за жизнь, Господи, что за унизительная жизнь! А из телевизора еще пугают фондовыми рынками! Где они только находят таких гладких и довольных дикторов? У таких красавчиков, небось, и домработницы вежливые, и кошки не болеют! Телеведущий стращал публику, четко артикулируя слова, выговаривая названия фирм с удовольствием: «Леман Бразерс», «Дженерал Моторе», «Роял Бэнк оф Скотланд»! Обанкротился, разорился, закрылся! А тут еще кошка орет и татарчонок визжит. Акции «Русала» упали в цене! Что это еще за «Русал» такой? Только этой напасти не хватало.
– Повернуться негде, она еще татарчонка приводит. Нет, я не испытываю расовых предрассудков! Татарчонок, китайчонок, ради Бога! Где она его нагуляла, не интересуюсь! Просто повернуться негде – надо думать, куда ведешь ребенка!
– А Бассингтон тебе не мешает? Зачем он здесь торчит? Шел бы в гостиницу!
– Человек в гости приехал! К нашей дочери! Он ее на две недели в Оксфорд зовет!
– У них дом в три этажа – найдется уголок. А у нас стиральная машина полванной занимает – куда здесь Басика селить?
– А вот Бланки, между прочим, квартиру сменили!
– Так Бланк деньги зарабатывает в газете!
– Почему, почему ты не стал работать в «Независимой»? Он же звал тебя!
Все испытали облегчение, когда Сергея Ильича увезли в клинику. И Сергей Ильич испытал облегчение тоже.
– Теперь мне отдельную палату дадут, – сказал он домочадцам, – прошу записываться на прием! Без очереди никого не приму!
Зоя Тарасовна сидела на кухне, отвечала на телефонные звонки подруг, сочиняла сценарий вечернего разговора с Бассингтоном и думала, что в больницу к Татарникову никто не придет. Саша Бланк и Антон – может, они и навестят, отец Павлинов, наверное, зайдет, все-таки священник, а больше прийти некому.
8
Аккуратный и успешный Саша Бланк, приятель юности, действительно приглашал Сергея Ильича к сотрудничеству. И Сергей Ильич пришел однажды к Бланку в кабинет главного редактора. Татарников огляделся, и обстановка поразила его – только кожаных диванов в кабинете было три штуки. Он также обратил внимание на сейф внушительных размеров.
– Что, – спросил Бланк, – ищешь портрет президента? Можешь не искать: мы в оппозиции!
– А в сейфе деньги лежат?
Бланк развел руками: кто знает, что там в сейфе.
– Вот ведь, и у либералов средства имеются! – не удержался Сергей Ильич.
– Пиши, получай гонорары, пользуйся!
– Про что писать, Саня?
– Любая тема – сам понимаешь, цензуры нет!
– Любая?
– Нужна активная жизненная позиция, вот и все. Борцы нужны!
– Боретесь, Саня? За что? – заинтересовался Татарников.
– Как за что? За демократию боремся!
– Зачем? Она везде победила. Кого ни возьми – все демократы! И Зюганов демократ, и Путин. И Берлускони, и Саркози. Где человек, не признающий демократию, покажите мне такого! Не понимаю, как за демократию бороться.
– По мере сил, по мере сил.
– Скажи, а деньги вам кто платит?
Деньги платил сенатор Губкин, но сказать об этом Саша Бланк стеснялся, почему стеснялся – он и сам объяснить не мог. Купил сенатор газету демократической направленности, платит сотрудникам деньги, и что тут такого уж постыдного? Ну, берутся откуда-то деньги, так уж повелось. Ну, идешь в кассу, тебе дают зарплату – чего ж тут краснеть? Однако определенная неловкость возникала при разговоре о сенаторе.
– Акционерное общество платит, – туманно сказал Бланк.
– И кто же акционер?
И опять-таки, почему бы и не сказать: сенатор Губкин? Владеет человек цементными заводами, металлургическими комбинатами, отчего бы ему и за демократию не побороться? Достойный член общества отстаивает общечеловеческие ценности – почему надо этого стесняться? А не выговаривается фамилия, и все тут.
– Независимые, влиятельные люди.
– Вдруг им не понравится, что я пишу?
– Что ты можешь такого написать, что бы им не понравилось?
– Напишу, что демократия не самый справедливый строй. Напечатаешь?
– Ты лучше по культуре что-нибудь сочиняй. Обзоры выставок, например.
– Выставок? – В голосе гостя энтузиазма не было.
– Сходи на выставку в Центр современного искусства. – На рабочем столе Бланка стопкой лежали пригласительные билеты, их рассылали по всем газетам столицы. – Осветишь процесс.
На пригласительном билете – фотография цыпленка под лампой. Цыпленок, судя по всему, умирал, жар лампы испепелял его тщедушное тельце. Сергей Ильич переводил взгляд с цыпленка на друга юности, с друга – на цыпленка.
– Что это, Саша?
– Не видишь? Цыпленок под лампой. Инсталляция такая.
Татарников повертел в руках билет, отложил.
– Инсталляция?
– Произведение искусства.
– Вот это там показывают?
– Радикальная инсталляция. – Бланк старался говорить уверенно, даже небрежно. Словно дохлые цыплята под лампой его нисколько не шокируют. – Сходишь на выставку? Сорок тысяч знаков.
– Про цыпленка? – уточнил Татарников.
– Про новое радикальное искусство.
– Ты, Саша, обалдел.
Бланк обиделся. Интеллигентные люди – ничем не хуже Сергея Ильича – пишут обзоры выставок, им это не кажется зазорным, а вот Сергей Ильич презирает их труд. Сам Александр Бланк не брезгует являться на вернисажи, ему смотреть на цыплят положено! Мало того, надо читать рецензии, обсуждать их на редколлегии, выслушивать нытье авторов, и так далее, и так далее. Не всем так везет, как лентяю Татарникову. Большинство людей в поте лица добывает свой хлеб.
– Отец Николай Павлинов для нас пишет, – сказал Бланк, – находит время. Историк Панин, Лев Ройтман, поэт. Борис Кузин, культуролог. Лучшие перья у нас.
– И все за демократию борются?
– А как же! Юлия Ким пишет репортажи.
– Так она же твоя жена!
– Хочешь сказать, я развожу семейственность? Юля прекрасный журналист.
Юлия Ким, тонкая кореянка, с возрастом превратилась в полную даму, критика и активиста. Бланк никогда не обсуждал ее творчество с Сергеем Ильичом, но чувствовал, что Татарникову творчество Юлии Ким не понравится.
– Читал ее статьи? – спросил Бланк.
– Не пришлось.
– Острые репортажи.
Татарников промолчал.
– Иногда даем ее тексты на первой полосе.
– Вы лучше фотографию дохлого цыпленка на первой странице печатайте. Символ русской демократии. А вторая голова у цыпленка уже отсохла.
Редактор оппозиционной газеты может позволить себе многое, он даже портрет президента в кабинете вешать не станет. Но шутить над российским гербом все-таки он не может – и Бланк сухо закончил разговор:
– Не хочешь бороться за демократию, заставлять тебя не будем.
И – не получилось в газете.








