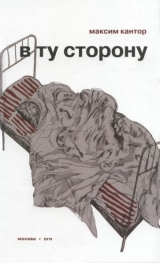
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
18
Во времена Брежнева сотрудники Института философии выпивали после работы в закусочной на углу. Приносили водку с собой, наливали под столом стакан и залпом пили, когда кассир не смотрел. Пельмени, стакан водки, фрондерский разговор – то отважное время миновало. Редко можно увидеть сегодня кандидата философских наук, блюющего в переходе метро, – а тогда это было ежедневным ритуалом. Выблевывали на каменный пол свое унижение, профсобрания, парткомиссии, передовицы и голосования. Теперь кандидат давно стал доктором, а доктор сделался профессором. Теперь он не фрондер, и прятаться по дешевым забегаловкам нужды нет: здоровье и чины не дозволяют пить дешевое спиртное и есть опасные для желудка пельмени. Профессор катится по улицам столицы, выпятив животик, – пешочком до перекрестка, и нырнуть в подземку, и домой, домой, ужинать с супругой.
– Фруктов купить не желаете? У метро чудная колониальная лавочка.
– Помидоры, непременно. А вы знаете, газету Бланка, скорее всего, прикроют.
– Не может быть! Затыкают рот прессе?
– Нет, просто Губкин поддерживает фигуру Сердюкова. Обновят редколлегию.
– Как журналист Сердюков сильнее. Бланк – не фигура.
– Сердюкова считают «демократом номер один», думаю, он будет слышен на Западе.
– Между прочим, уже появились абрикосы.
Так, беседуя, дошли до станции метро «Кропоткинская», подошли к овощному ларьку подле памятника Фридриху Энгельсу. Возле бронзовых ног основоположника – палатка с пестрыми фруктами, внутри темный маленький человек. Борис Кузин сказал Льву Ройтману:
– Мы ругаем действительность – мы очень строги к происходящему! – но давайте признаемся: заметно лучше стал уровень снабжения. Путин, кризис, коррупция – все это так, но вот, извольте: свежие овощи. Помните, Лева, советские овощные магазины?
– Черная картошка и гнилая морковь.
– И поглядите на армянские лавочки! Наши русские так не могут. Все-таки что значит древняя армянская культура.
– Вы заблуждаетесь, армяне здесь ни при чем. Продажа фруктов – азербайджанское занятие. Обратите внимание, Боря, как российский колониализм избирателен в определении рода занятий для сопредельных народов. Татары специализируются по уборке улиц. Азербайджанцы торгуют фруктами на рынках, армяне заняты в розничной торговле, таджиков используют на стройках.
– А я слышал, на стройках много грузин и украинцев.
– Хохлы и грузины в основном по домашнему ремонту. Если кафель класть – это к хохлам. А таджики работают на больших стройках, их, говорят, специально используют в строительстве высотных зданий. Нас с вами обслуживает, безусловно, азербайджанец, видите – характерные азербайджанские черты. Тут не ошибешься: темное, немного обветренное лицо, лоб, как правило, невысокий, маленькие глаза. Типичный азербайджанец. И зовут его Али.
– Так вы его, оказывается, знаете!
– Я вас разыгрывал. Превосходно знаю Али, каждый раз, как еду в Институт философии, покупаю абрикосы. Никогда не обвешивает, гнилья не сует. Знаете, восточные люди на рынке говорят быстро, руками машут, потом смотришь в сумку – а там одно гнилье.
– Среди них много жуликов.
– Азербайджанцы, в целом, честный народ.
– Симпатичное лицо. Теперь я вижу, что он азербайджанец. Со мной в институте учился один милый азербайджанец. Да, вы правы, характерные черты.
– Али, дорогой, как жизнь? – Дружелюбный Лев Ройтман протянул в окошко ларька руку и торговец эту руку пожал. – Сделай, дорогой, как в прошлый раз, да? Абрикосиков, да?
Темный плосколицый торговец открыл ящик с абрикосами.
– Спелые выбирай, да? – так говорил Ройтман, копируя некую общую восточную интонацию. – Почем сегодня? Триста? Ну и цены у тебя, Али! Вот кого, я думаю, кризис не коснулся! На машину копишь?
Плосколицый торговец всмотрелся в Ройтмана, улыбнулся, кивнул.
За спиной литераторов громоздился жирный храм Христа Спасителя, покрытый обильной лепниной, – приняв из рук торговца пакет с фруктами, Лев Ройтман повернулся к храму и мелко перекрестился. Кузин знал, что еврейский интеллектуал Ройтман давно крещен и соблюдает православный обряд, но для чего Ройтман перекрестился сейчас, было ему неясно.
– Очиститься, – тихо объяснил ему Ройтман, – меня, знаете ли, пугает мусульманский дух. Подчас остро чувствуешь, что они другие. – Ройтман снова перекрестился, глядя на жирный кремовый торт. – Ну, спасибо, Али, спасибо, дорогой! – и Ройтман помахал торговцу рукой.
19
Ахмад, афганский узбек, приехал в Москву вчера, чтобы увезти на родину вдову и детей брата Али. Он добирался неделю от Мазари-Шарифа: сперва ехал до границы с Узбекистаном, потом переходил границу по мосту через Амударью. Некогда этот мост назывался мостом Дружбы, по этому мосту в легендарные колониальные дни лязгали советские танки, по этому мосту уходили последние войска, сороковая армия, – потом мост завалили бетонными блоками, прекратив всякое движение. Спустя десять лет мост – теперь он назывался Хайратон – открыли, но сообщения почти не было; в основном мостом пользовались узбеки, семьи которых были разделены рекой.
Некоторые семьи жили и по ту сторону реки, и по эту – семейных пропускали, по одной и той же бумаге проходили и мужчины и женщины. Узбекские пограничники почти не смотрели в документы, а с афганской стороны, когда талибов оттеснили войска генерала Дустума, пограничников не было. Ахмад прошел мимо узбекского поста – и его даже не окликнули; он встретился глазами с пограничником, тот кивнул, и Ахмад прошел в соседнюю страну.
Прозрачная граница позволяла солдатам генерала Дустума легко уходить в соседний Узбекистан, если возникала надобность, а также набирать новых рекрутов из числа приграничных узбеков. Ахмад долго был солдатом – впервые он попал в Афганистан еще в восьмидесятые, призывником советской армии, оставался на сверхсрочную. После того как Узбекистан стал независимым, завербовался в подразделения Абдул-Рахмана Дустума и границу переходил десятки раз. Мост Дружбы он проходил в восемьдесят девятом году вместе с советскими войсками, а когда открывали мост Хайратон, он уже стоял на другом берегу – но одет был точно так же, как пятнадцать лет назад: серая войлочная шапка «пакуль», северянка, серая куртка на подстежке – такие куртки называют «пакистанки». И оружие у него было такое же, АКМС. Ничего не изменилась за пятнадцать лет – только сторона реки поменялась.
От поста оставалось пройти несколько километров до Термеза, оттуда автобусом – до Ташкента, а там на вокзал – и поездом до Москвы. В Ташкенте было уже легко, потому что братья родились в Ташкенте и в городе оставались люди, которые их помнили. Ахмаду даже предложили сделать паспорт, но не было ни денег, ни времени ждать паспорта. И зачем тратить столько денег, если едешь на три дня.
Ему объяснили, что это глупо: разумней один раз истратить большую сумму, сделать нормальный паспорт – и трехмесячную визу в Москве получишь без проблем.
– А потом что?
– Вернешься в Таджикистан, две недели покрутишься, затоваришься, – и обратно на три месяца.
– Мне не надо в Таджикистан.
– Узбеку сейчас лучше в Таджикистане, – терпеливо объяснили Ахмаду, – и паспорт тебе сделают таджикский. Будешь хорошо работать – годовую визу дадут.
– Денег нет.
– Вот и разживешься деньгами. Адресок в Москве дам.
– Не надо.
Ахмад посчитал, что дешевле дать тысячу рублей проводнику, чтобы запер его в своем купе, когда российские пограничники будут обходить поезд. Он положил на столик проводника литерный билет и сверху десять бумажек по сто русских рублей.
– Тыща, – сказал он по-русски.
– Какая еще тысяча? – едко сказал проводник Аркадий. – Когда это была тысяча? При Ходже Насреддине? Даром кататься хочешь?
– Больше у меня нет, – сказал Ахмад, и Аркадий тонким чутьем проводника понял: плосколицый пассажир говорит правду. Аркадий смахнул со столика бумажки и впустил Ахмада в купе.
– Оружие имеешь?
– Нет оружия. – Он оставил только складной нож, примотал к лодыжке. Так делал всегда: штык у пояса, а складной нож – на ноге, под штаниной.
– Смотри, подведешь меня. Ой, смотри, земляк! – Проводник сказал это, чтобы плосколицый понял – они оба из Узбекистана и оба знают местные хитрости.
– Не бойся, шурави. – Ахмад сказал так, чтобы проводник боялся. Шурави – так называли всех, кто жил по эту сторону реки; Ахмад сам был шурави – пятнадцать лет уже прожил среди афганцев, а все равно шурави. Слово означало: ты мне чужой, ты не земляк, берегись.
Теперь осталось трое суток поезда – и уже Москва. Проводник Аркадий угощал чаем, вафлями, однажды дал курицу.
– Вы кур едите?
– Мы все едим.
Доехали тихо, никто его не досматривал.
Брат Ахмада, Али, умер внезапно, даже не болел. Умер – и фрукты еще не успели сгнить, когда Ахмад приехал в Москву, так, пара помидоров испортилась. «Сами съедим», – сказала Маша, жена покойного брата, и разрезала помидор на две неравные части. Ахмад взял ту часть, что с гнилым боком. Маша дала свою половину сыну – Ахмад следил, как мальчишка высасывает мякоть и сок помидора.
Увезти их сразу не получилось. Ахмад не ожидал, что застрянет в Москве, – оказалось, что надо отчитаться за взятый товар, распродать то, что должен был распродать Али. Речь шла о пятнадцати тысячах рублей долгу – сумме для москвича не критичной, но у Ахмада таких денег не было. К тому же Маша ехать никуда не хотела. Сама она родилась в Туле, но Москву считала родным городом, гордилась размахом столицы, себя именовала москвичкой, маленького плосколицего мальчика называла русским парнем.
– У вас, небось, и по-русски не говорят.
– Некоторые говорят.
– Моя твоя не понимай. Воображаю, как там говорят! Ты в Москве когда последний раз был? – Маша показывала Ахмаду журналы – фотографии ресторанов, бассейнов, богатых домов. – Такое видел? Это сенатор Губкин, у него дом десять миллионов стоит – в греческом стиле. У вас поскромней, думаю?
– Таких домов не имеем, – сказал Ахмад.
– А машины видал? Итальянская техника. Нет у вас таких? А здесь – полно.
Из новых машин Ахмад видел только вертолеты пятого поколения – и то не вблизи.
– Все это ворованное, – сказала Маша, – столько заработать нельзя. Но очень красивое. Видишь, какое платье. У вас я что, в парандже ходить буду? Балахон на меня нацепите?
– Есть красивые платья.
– Знаю, как у вас к женщинам относятся. Красивое платье надену, так камнями закидают. А если хочется красивое носить?
– Дома носи, – сказал Ахмад.
– Смотри, триста рублей, а выглядит как Версаче. Даже надпись есть «Версаче». На Черкизовском рынке купила.
– У нас лучше базары, – сказал Ахмад.
– Поминки устроить надо, – сказала Маша. – Только позвать мне на поминки некого. Я с одной женщиной вместе гуляла во дворе, коляски рядом катали. Потом она переехала, адрес не сказала. Большой город. Может, просто вдвоем посидим, вина выпьем?
– Денег нет.
– Хорошо вы меня в гости зовете. Денег даже на поминки нет. Вы что, прачку ищете? Я тут в одной семье работаю – гоняют туда-сюда, а денег не платят.
– Не платят?
– Сама квартиру иностранцу сдает. За валюту. А мне рубля жалеет. Если бы мне заплатили, я бы сама Расулу долг отдала.
Расул Газаев, владелец нескольких овощных ларьков, говорил с Машей и приезжим узбеком надменно: что за нация такая узбеки, вот мы – орлы. Мы, горцы, люди чести: я сказал, что нужен полный расчет за хурму, – а слово джигита крепко. Расул и Ахмад некоторое время смотрели друг на друга, причем горец смотрел презрительно, а выражение плоского лица Ахмада определить было невозможно. Острые черты горного человека и плоское лицо пустынного жителя отличались как подвиги в горах и работа в засушливой местности. Война в горах – это подвиги, засады, клятвы, испанская романтика, парашютные десанты на Крит. О кавказской войне написаны романтические поэмы; однако мало кому придет в голову, что есть романтика в степях Туркмении, пустынях Узбекистана, лысых камнях Гиндукуша. Беспощадная тяжелая война раскатывает пространство в лепешку, плющит города и деревни, гуляет по равнинам, и ветер разносит ее, как степной пожар, и спрятаться от нее нельзя. Так катились по пустыням армии Чингисхана и Тамерлана, так лилась война по волжской земле, так гуляет она в холодных плоскогорьях Афганистана, спускается с гор, и ветром сносит ее по сторонам, в пустыни. Ахмад мог убить Газаева. Но решил распродать абрикосы.
часть вторая
1
Накануне операции – последней, третьей операции – к Татарникову пришел отец Павлинов. Собственно, священника убедил Бланк, – сказал, что прийти необходимо, – по его представлениям, Татарников хочет креститься.
– Давно его знаю, – заметил Павлинов, – никогда он таких желаний не высказывал.
– Сходи к нему, Коля, сходи.
Священник сел у кровати, взял умирающего за руку. Рука была легкой и тонкой, на худых пальцах выпирали суставы, казавшиеся Павлинову неестественно огромными. Опухли суставы, подумал Павлинов, но потом сообразил, что у больного просто похудели пальцы.
– Причащать будешь? – спросил Татарников и постарался улыбнуться.
– Буду просить прощения, Сережа, – сказал Павлинов, – за то, что не привел к вере. Хочу примирить тебя с Богом.
– Неудачно ты выбрал время, Коля.
– Думается мне, что как раз вовремя. Очень хочу, чтобы Бог защитил тебя, Сережа. А то у меня такое чувство, будто Он на тебя прогневался.
– Думаю, у Бога есть более важные дела, чем сводить счеты со мной. Да и чем я так провинился?
– Покаяться не хочешь?
– А в чем же мне каяться? – Как ни плох был Татарников, он даже поднял голову от подушки, до того удивился. – Я, знаешь ли, за последние полгода почти с кровати не вставал.
– Я же не имел в виду буквально грешных дел, – неловко сказал Павлинов.
– В помыслах? – еще более изумился Татарников. – Были у меня, конечно, вздорные мыслишки. Хотел поправиться.
– Исповедать тебя не могу, сказал Павлинов, – сначала должен крестить.
– А я и не собираюсь исповедоваться. Даже, не знаю, что бы тебе такое рассказать. Однообразная у меня жизнь.
– Все мы грешим, – сказал отец Павлинов. – Вольно или невольно.
– Не знаю как все, за других не скажу. – Татарников тяжело дышал, воздуха не хватало. – А я не грешил.
– Так не бывает, Сережа.
– Бывает, – сказал Татарников.
– Подумай, Сережа.
– Зачем Господу наказывать меня, Коля?
– Господь не наказывает, Сережа. Он посылает испытания.
– То, что у меня отрезали половину тела, – это испытание, святой отец?
– Неисповедимы пути Божьи, – тихо сказал отец Павлинов, и страшно ему стало от собственных слов, но он договорил их до конца. – Если тебя поразил недуг, значит, Бог увидел в этом смысл, и нам тоже этот смысл однажды станет внятен. Постарайся – я знаю, это непросто – постарайся увидеть в своей болезни смысл.
– Нет никакого смысла, Коля. Вздор. Я не принимаю этого испытания. Я его не заслужил. И отказываюсь верить, что эту дрянь мне послал Бог.
– Кто мы такие, чтобы знать промысел?
– Мы люди, отец, и мы испытываем боль. Не называй, пожалуйста, боль промыслом. Разве нужны особые основания для того, чтобы жалеть людей? Богу нужны особые причины для жалости? Тогда почему это существо называется Богом?
– Бог милосерден, Сережа, мы иногда сомневаемся в его доброте, но приходит пора, и мы ее видим.
Татарников ничего не сказал.
– Господь прострет над тобой руку – и ты победишь.
– Что-то я не чувствую его руки, – сказал Татарников.
– Требуется верить, Сережа. Верить и тихо молиться.
– Вера у меня есть, – сказал Татарников. – Я утром верю, что смогу продержаться до вечера. А вечером верю, что на ночь хватит сил – протянуть до утра. У меня простая вера, отец. Знаешь, один человек сказал, собираясь в бой: если ты не можешь помочь мне, Господи, то хотя бы отойди и не мешай.
– Разреши, я крещу тебя, – сказал отец Павлинов.
– Если Бог действительно есть – ему должно быть наплевать, брызгал ты на меня водой или нет. А если Бога нет, то какого рожна креститься?
Они молчали несколько минут. Потом Николай Павлинов сказал:
– Тебе очень больно?
– Терпеть можно.
Опять помолчали.
– Не вини других. Не надо.
– Что ты, Коля, кого же винить? Так вышло.
– Государство наше скверное, знаю. Ты не получил того, что заслужил.
– Обычное государство. А я не сделал ничего, чтобы заслужить отличие.
– Ты много работал, Сережа, ты размышлял.
– Не выдумывай, Коля. Я ничего в своей жизни не сделал.
– Ты мне искренне говори. – Павлинов подумал, что исповедь все-таки получилась.
– Искренне. Я всех благодарить должен. Лежу и благодарю. Учили, стипендию платили. Жил под крышей, не голодал. Я в ножки нашему государству должен кланяться.
– Не надо, Сережа, обойдемся без юродства.
– Нет юродства. Государству кланяюсь. И людям кланяюсь, за то, что кормили.
– Кормили?
– Видишь, – больной показал на капельницу, – до сих пор кормят.
– И на людей ты не в обиде?
– За что? Вокруг только хорошие люди.
– И плохих людей ты не встречал?
– Нет, не встречал.
– Знаю, ты презираешь Кузина.
– Я хорошо отношусь к Кузину.
– По-твоему, он не ученый.
– Нельзя ставить в основу рассуждений заботу о комфорте. Так ученые не делают.
– Вот и прости его.
– Не в чем упрекнуть Кузина.
– Если у тебя есть презрение к нему, раскайся, – повторил отец Павлинов.
– Кузина не в чем упрекнуть. Нельзя человека обвинить в том, что он не великодушный. Ведь это не является пороком – отсутствие великодушия.
– Трудно сказать, Сережа.
– Вот видишь. И церковь не знает. Вы обличаете грехи, и правильно делаете. Но это просто – отделить грех от добродетели. Согласись, отец, что куда больше противоречий внутри самой добродетели.
– Не понял тебя, Сережа. – Отец Павлинов ссутулился и уронил руки на колени.
2
Никаким фашистам не под силу причинить столько мучений, сколько могут причинить друг другу порядочные люди. Так думал Александр Бланк, он переживал тяжелую минуту. Противоречия между хорошими любящими людьми оказываются куда более фатальными, нежели столкновения тоталитаризма и демократии.
Саша Бланк, школьный друг Сергея Татарникова, должен был решить в считанные дни, что делать: оставить жену или молодую возлюбленную, Лилю Гринберг. Ситуация известная, многократно описанная, можно было давно найти решение. Скажем, люди часто обжигаются кипятком и давно придумали, как лечить ожоги. Бланк убедился, что в данном случае рецептов нет. Просто надо бросить – что за гадкое слово! – человека. Осталось решить, какого именно человека бросить, вот и все. В то время как все сознательные люди переживали из-за потери сбережений или удушающих кредитов, Бланк страдал от любви. Он переживал за обеих, ни одну из них не мог предать.
Что ж они договориться не могут, с досадой думал Бланк. Почему я должен совершать этот подлый выбор! Они же такие разумные, почему не могут понять? Кто угодно может договориться: арабы с евреями договариваются, чеченцы идут на переговоры, бандитские группировки находят общий язык! Так почему же порядочные, великодушные люди не могут договориться! В этом пункте рассуждений он вынужден был себя поправить. Совсем не все могут договориться. Вот, например, Россия и Грузия – не могут. И с Украиной дела не ахти. Есть, кажется, такие вопросы, которые не разрешишь. Но то – страны! А отдельные люди могли бы договориться, надо только захотеть. Ведь чего проще – выпили вместе чаю, подружились. Могли бы поселиться все вместе, допустим, на даче под Москвой, вели бы неспешные вечерние беседы. Неужели непременно надо довести друг друга до слез? Неужели так надо, чтобы у меня кружилась голова и болело сердце? Неужели нет выхода? Не фашистские каратели, не сталинские палачи, не держиморды из министерства культуры – нет, любимые тобой люди и есть те, кто мучают сильнее всего.
Каждый вечер Бланк говорил себе, что больше не выдержит, что надо покончить с этой фальшивой историей. Начать новую жизнь – и там уже не будет обмана. Жалкие слова. Вот, посмотрите на Татарникова: старую бы жизнь дожить, куда там думать о новой.
Выехав из дома (все утро собирался сказать жене, что уходит от нее, так и не смог ничего сказать), Бланк решил, что начнет день с того, что навестит Татарникова.
В конце концов, невелик труд – заехать в больницу. Именно малыми делами мы и творим добро, думал Бланк, паркуя машину у бетонного здания, подле морга.
– Нельзя, – сказал охранник, – мертвый час.
Что охранять в больнице? Клизмы? Ночью сестру не дозовешься, чтобы утку подала, – а вот охранника у входа поставили.
– Он все равно не спит. Завтра операция, понимаете?
– Не положено.
Бланк достал триста рублей, протянул охраннику.
– Проходите, что с вами делать. Бахилы только купите.
Словом «бахилы» в больнице именовали не охотничьи сапоги, но маленькие полиэтиленовые мешочки. Бланк заплатил червонец человеку в форме за полиэтиленовые мешочки, мешочки надел поверх ботинок – как положено.
– Я сделал доброе дело, – сообщил Бланк Татарникову, – материально помог одному ведомственному охраннику. Придерживаюсь теории малых дел. Не могу изменить мир, но отдельному сторожу помогаю.
– Так только кажется, Саша, – тихо сказал ему Татарников, – никаких малых дел вообще нет в природе. Все дела большие.
– И все-таки битва при Ватерлоо – это одно, а совсем другое – драка в подъезде.
– Только драка в подъезде и важна. Ватерлоо подводит итоги. Война не знает крупных городов. Станица Белая Глина, станция Торговая, населенный пункт Узловая. Что тебе говорят эти названия? Ничего не говорят. А они решали исход войны.
Бланк отметил, что Татарников теперь говорит короткими фразами, словно бережет дыхание.
– Почитай Нострадамуса. Нет названий крупных городов. Судьба решается не в Париже. Не в Лондоне. Вода течет, где ей удобно. История идет где хочет.
– Да, – подхватил Бланк, – например, в охотничьем домике в Беловежской пуще, где страну делили.
– Афганистан, – сказал Татарников. – Кому нужен? Камень и песок. Нефти нет, золота нет. Двести лет не могут оставить в покое.
– Считаешь, история сегодня в Афганистане? – Бланк погладил Сергея Ильича по худой руке. Кожа умирающего собиралась в дряблую складку под его пальцами, податливая, безвольная материя. О чем говорить с больным накануне операции, Бланк не знал. – Считаешь, там все решается?
– В урологическом отделении решается. В операционной, – сказал Татарников. Потом добавил. – Глупости. Ничего здесь не решается.
– У меня судьба решается. – Бланк удивился себе, для чего он это сказал. Однако сказал же. – Сегодня должна решиться.
Татарников не глядел на Бланка, лежал с прикрытыми глазами. Бланк спросил:
– Что делать с Лилей? Скажи. Не могу без нее.
– Женись.
Как равнодушно сказал это Сергей Ильич! Бланк поразился его равнодушию. Сергей Ильич отлично знал жену Бланка, представлял, как все непросто. Тридцать лет вместе – шутка ли?
– А Юлия? Пропадет!
– Защити слабого, – сказал Татарников.
– Обе слабые! Все слабые! Что мне делать!
– Защищай всех.
– Невозможно, понимаешь, невозможно! Нужно выбрать – а как выбрать? Кого-то одного я должен бросить.
– Нельзя, – сказал Татарников.
– Сам знаю, что нельзя! – Бланк закрыл лицо руками; пошлый жест, но другого природа не придумала. – Как они без меня? Кто защитит? Жили бы в нормальной стране… А что здесь будет завтра? Одна – еврейка, завтра, того гляди, погромы начнутся. Другая – кореянка, того не лучше. Национализм растет – и как без него! Финансовый кризис – а кто виноват? Найдут виноватого!
Татарников открыл глаза.(он их держал закрытыми, прислушивался к боли) и кивнул.
– Таджики виноваты, что экономика сдохла! Узбеки виноваты, что самолеты не летают! Грузины виноваты, что нефть дешевеет! Господи, что за страна! Ты слышал? Нет, ты, конечно, не слышал – у тебя здесь радио нет… да и не рассказывают уже ничего по радио… и телевизор замолчал… дагестанцев, таджиков режут, какие-то дикие манифестации идут, подростки с языческими символами – свастика или еще что-то такое – маршируют. А с Грузией что творится?
– Все правильно. Так и должно быть.
– Что будет с Россией, Сережа, скажи, ты же умный. – Бланк хотел спросить, что будет с ним самим, уволят его или нет, отпустит ли его жена, хватит ли у него здоровья выдержать этот год. Он хотел спросить, останется ли он жив после ударов судьбы, но вопрос прозвучал бы бестактно. Спросить о судьбе России – как-то пристойнее, хотя, если вдуматься, что может сказать умирающий о завтрашнем дне?
Однако Татарников ответил вполне определенно:
– Развалится Россия. Дойдет до размеров Иванова царства – с чего и началась.
– Не верю, невозможно… У них же планы… Они новую империю хотят… Вертикаль власти строят. Губернаторов назначают… Губкин газеты покупает… Думаешь, развалится? Почему? – Дико прозвучали эти слова у постели ракового больного. Бланк не спросил, почему человек смертен, не спросил, почему нет лекарства от рака, не спросил, почему вера не спасает от боли. Он спросил, почему непременно развалится Россия.
– От жадности и глупости.
– А люди, люди что делать будут?
Бланку было так плохо, что он забыл, что сидит в больнице, где людям значительно хуже, чем ему.
– Люди? – повторил за ним Татарников. – Будут жить как раньше, думаю. Ты на часы смотришь. Пора?
Бланк действительно поглядел на часы: на Пушкинской площади проходила акция либеральной интеллигенции под названием «я – грузин!». Всякий честный московский интеллигент должен был прийти, постоять, выразить протест против действий власти. Лиля ждала его у памятника Пушкину.








