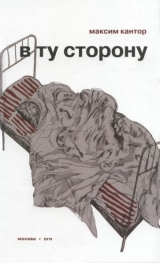
Текст книги "В ту сторону"
Автор книги: Максим Кантор
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
3
Не продохнуть – грудь сдавило. Граждане набрали воздуха в легкие, чтоб крикнуть – крик, он вот, уже на губах, – однако никто не крикнул. Мир рушился на глазах – ив полной тишине. О чем кричать-то? Дескать, жизнь не удалась? Молча, не проронив ни слова, с кривой ухмылкой, с испуганными глазами граждане выполняли свои привычные обязанности – и никто не крикнул миру: ты меня обманул! Думали так все, а не крикнул никто. Где-то прошли демонстрации: мол, не желаем беднеть, не хотим кризиса финансовой системы, не же-ла-ем! Но общего плана действий у людей не было – по той простой причине, что уже давно у них не было общей цели. Все последние годы они только и говорили друг другу: ты живешь хуже меня, и это правильно, ты беднее меня, потому что не так ловок и прыток, и ты сам виноват, что у тебя денег нет. Люди так говорили друг другу последние двадцать пять лет – и разучились сочувствовать. Боялись сильных, лебезили перед властными, кричали на слабых – и слово «товарищ», популярное в темные годы социализма, стало бранным. О чем же можно говорить всем вместе? Что будет общим планом?
– Общий план? – говорил в таких случаях Татарников. – Общий план простой: продержаться до завтра. А потом еще раз до завтра.
Этим соображением он поделился с соседями по палате, разлагающийся старик и доходяга Витя выказали полное одобрение.
– А что, – сказал Витя, – правильная программа. Только как держаться, если гестаповцы ножами режут? – Витя имел в виду, разумеется, хирургов. – Мне весь организм располосовали.
– А ты терпи. У вас тут курят?
– Спрячь. Отберут в два счета.
– Это мы еще посмотрим.
В палате Татарников сразу сделался старшим, соседи отнеслись к нему с уважением, Витя даже готов был уступить ему завидную койку у окна, но Сергей Ильич отказался.
– Зря отказываешься, Сергей Ильич. Окно заклеено, не дует. А вид хороший – деревца видно, морг, шестой корпус. Лежишь, смотришь. А у тебя на что смотреть? Скучать будешь.
– Вот сам и смотри.
– Так я помру скоро, – сказал Витя рассудительно, – и привыкать мне нечего. Подумаешь, развлечений захотелось. Нечего мне тут разглядывать.
– Так и я помру, – не верилось в это, совсем не верилось.
– Ты еще поживе-е-ешь! Я-то знаю, я-то вижу! Иди вон к окошку, на улицу смотреть будешь.
– Мне здесь хорошо.
Палата, крашенная серой масляной краской, желтый кафельный пол, катетеры, склянки с испражнениями – смотреть было особенно не на что, но Татарников не скучал. Он лежал на спине с закрытыми глазами, прислушивался к боли в животе. Странно, что это простое занятие составляло теперь содержание дней, и ему не казалось, что время уходит впустую.
Иногда он беседовал с соседями – то есть с Витей и Вовой-гинекологом из палаты напротив. Вова был больным, как прочие, но профессия врача давала ему особый статус – ему дозволялось ходить из палаты в палату и носить гражданское платье. Рядовые пациенты кутались в байковые халаты чернильного цвета, а Вова щеголял в толстом норвежском свитере с пестрым рисунком, элегантных тренировочных штанах и длинных полосатых носках. Вова частенько заходил к соседям, располагался на пустующей койке, закидывал ноги в полосатых носках из собачьей шерсти на спинку кровати. Полосатые носки связала Вове жена, и разговор порой касался выбора спутницы жизни, выбора, как явствовало из носков и гастрономических посылок, вполне удачного. Вот старший брат Вовы совершил ошибку, женился скверно – и всю жизнь расплачивается. Вова подробно пересказывал свои диалоги с обездоленным братом – как тот сетует на судьбу.
– А не надо жаловаться. Сам виноват, – и Вова шевелил пальцами ног, отчего полоски на носках ходили волнами.
Вова листал журналы GQ и свежую прессу и, начитавшись вволю, делился политическими новостями с соседями. Татарников слушал рассеянно, а Витя реагировал живо, с непосредственностью провинциала. Витя полагал, что министры обманывают президента, но вскоре тот дознается до правды (тому есть свидетельства) и тут же проучит казнокрадов.
– Вот они когда все вспомнят! – злорадно говорил Витя и потирал руки. – Постучат к ним в дверь и скажут: а ворованное где? Тут им каждую копеечку, что у меня украли, припомнят. Сочтемся, граждане, посчитаемся. Чего там еще пишут, Вовчик? Куда он, говоришь, поехал?
На поездку министра в Пекин Витя отозвался так:
– Ишь ты, в Пекин! Разлетался! Дома жрать людям нечего, а он в Пекин. Ждали тебя там! Нужен ты там больно! Без тебя не обойдутся! В Пекин поехал, касатик! – и прочее, в том же духе.
Характерно, что простой информации о встрече в верхах, о визите госсекретаря Америки, о выступлении премьера в Давосе, о полете министра в Пекин – хватало Вите на день, и он не раз и не два возвращался к данной теме.
– В Пекин он поехал! Скажите, пожалуйста! А у народа ты спросил? Туда один билет, может, тысячу рублей стоит! Ты лучше ребятишкам молока купи! Поехал, вишь ты! В Пекин! А в Рязань не хочешь? В колхоз «Красный луч»? В Пекин он полетел! – и так далее.
Вова-гинеколог вразумлял Витю как мог, призывал на подмогу Татарникова, чтобы втолковать Вите, как устроена демократическая власть, почему у министров столько привилегий, зачем нужны выборы. Говорил в основном Вова, иногда прибегая к авторитету историка.
– Вот ты скажи, Сергей, свободные у нас выборы или нет? – горячился Вова. – Скажи этому рязанскому гражданину!
– Так я и сам не знаю, Вова, – мягко говорил Татарников, – свободные выборы, значит?
– А что, не видно? Не заметно, что свободные? – Вова багровел и энергично шевелил пальцами ног. – Раньше ты, Витя, права голоса даже не имел, понял? А теперь сам хозяин своей судьбы! Кого захочешь, того и выберешь в правительство!
Но Витя был к доводам глух. Он бранными словами аттестовал министерства и ведомства, а некоторых политических деятелей именовал «мандавошками». Унизительный этот термин применительно к лучшим людям отчизны шокировал Вову. Солидный значительный мужчина в дорогом костюме, весьма богатый, вершащий судьбы страны, нисколько не походил (так, во всяком случае, считал Вова) на лобковую вошь.
– Что?! – кричал Вова. – Председатель Центробанка Кучкин? Министр труда Загибулин?
– Мандавошка, – непреклонно говорил Витя.
Вова-гинеколог пробовал найти аргументы, он обращался к таким незыблемым авторитетам, как председатель Международного валютного фонда, спикер парламента, лидер консервативной партии, – но для Вити авторитетов не существовало вообще.
Витя был несведущ в политике, он даже отказывался признавать тот простой факт, что в российской власти понятия «президент» и «премьер-министр» уже давно взаимозаменяемы и не выражают реальности управления. Витя придерживался буквальных представлений о том, что верховная власть дана от Бога, а министерские посты достаются людям алчным.
– У тебя монархическое сознание, Витя, – говорил ему Татарников.
– Ты меня, Сергей Ильич, не путай. Президент, он и есть президент. А остальные крадут.
– Не крадут! – кричал с досадой Вова-гинеколог. – Не крадут, а рационально используют бюджет! Министр Толкачев все объяснил!
– Мандавошка, – отвечал Витя.
Старик в дебатах участия не принимал, лежал неподвижно и лишь один раз обратился к Татарникову.
– Воевал? – спросил старик, и Татарников понял, что выглядит он не особенно свежим. Родился он через пять лет после войны.
– Не пришлось, – ответил он.
– В Ташкенте, значит, отсиделся? – и старик засмеялся редкозубым ртом. – На юг подался, к солнышку?
– В Москве был, – сказал Татарников правду.
– Я Берлин брал, – сказал старик и больше не произнес ни слова.
– Берлин брал? – оживился рязанский житель Витя. – Что ж ты его, дед, обратно не положил?
Взял, так положи обратно! А то пропал наш Берлин! Ищем, найти не можем!
И Витя изложил свое виденье вопроса объединения Германий и падения Берлинской стены.
– Такие вот лопухи, как ты, дед, корячились, на Рейхстаг лазили, давили фашистов, а потом пришел один лысый деятель – и все пошло коту под хвост. Где он, Берлин, который ты брал? Куда дел?
Особенное негодование вызывал у Вити термин «общеевропейский дом», внедренный Михаилом Горбачевым. Витя отзывался о данном проекте скептически и даже позволял себе резкие замечания в адрес бывшего президента бывшего Советского Союза.
– Ага, общий дом! – говорил он. – Кому это он общий! Пустят меня, рязанского дурака, в этот дом, жди!
– Ничего ты не понимаешь, Витя, – сказал гинеколог Вова, отрываясь от журнала GQ, где он читал высказывания колумниста Киселева о демократии и репортаж с выставки нижнего белья, – а если не понимаешь ничего про Европу, так и рот не открывай!
– Во-во, – сказал Витя. – Чуть что – рот не открывай. А я, может, у себя дома. В своем общеевропейском бараке. Придешь в общий дом, а тебе покажут, где твое место.
– Что тебе не нравится? – спрашивал Вова, и полоски на носках ходили волнами, пока он шевелил пальцами.
– А то, что Берлин профукали! Вот что!
– У меня сестра в Берлине живет, – заметил Вова, – и хорошо живет! По демократическим стандартам живет!
– По каким таким стандартам? – кипятился Витя. – Ты мне скажи про ваши стандарты!
– А такие стандарты, что вышел на улицу – а там тебе и сосиски, и клубника, и мясо свежее, и все копейки стоит!
– Карман шире держи, Вовчик. Вон, в газетах что пишут. Накрылись твои сосиски!
И верно, сведения, коими Вова-гинеколог делился с соседями, были неутешительными. По всему выходило, что сосиски в опасности.
4
Татарников выложил на тумбочку все свое добро – больничный набор напоминает солдатский: жестяная кружка, алюминиевая ложка, пачка сигарет. Сигареты вызвали нарекание врача.
– Это что такое?
– «Честерфилд», – сказал Татарников, – раньше «Яву» курил, но вот поддался соблазну.
– Немедленно уберите, – сказал доктор Колбасов. – Вы в больнице!
– Именно поэтому. Последнее желание.
– Интеллигентный человек, должны знать. Вся Европа давно не курит.
Татарников развеселился.
– Отрадно, что заветы Гитлера выполняются. Медленно, непросто, но планы фюрера проводим в жизнь.
– Прекратите паясничать, – резко сказал Колбасов, у которого были свои счеты с германским фашизмом. Доктора Колбасова многие больные звали гестаповцем – за напор, за рыжий цвет и за фамилию, намекающую на немецкие пристрастия. – С вами здесь жестоко обращаются? Напомнило лагерь?
– Что вы! Но Гитлер не одни только лагеря строил. Он еще и больницы возводил. Дворцы культуры.
– Считаете Гитлера хорошим?
– Даже плохие люди иногда правы, – примирительно сказал Татарников. – Если Гитлер считал, что дважды два четыре, надо ли опровергать его?
Колбасов ничего не ответил, но таблица умножения потеряла в его глазах статус истины. Говорят иные: «ясно, как дважды два» – и напрасно говорят.
– А Гитлер наверняка так именно и считал, – гнул свое Татарников. – Так примем мы сторону фюрера в этом вопросе или нет?
– Вы демагог! – сказал доктор. – Вы сюда пришли лечиться, верно? Вот я и буду вас лечить. А дебаты о фашизме оставим.
– Помилуйте, я осуждаю Адольфа за Холокост! Но похвалим его как автора кампании против курения.
– Гитлер запрещал курить?
– А как иначе? В Гестапо должна быть здоровая атмосфера. Конечно, евреев и коммунистов преследовали. Но попробовали бы вы, доктор, закурить на Альбрехтшрассе!
Колбасов повернулся к Татарникову спиной и пошел прочь; умеют врачи резко развернуться на каблуках, хлопнуть в воздухе полами халата. Больной должен понять, что внимание врача – драгоценность, многие днями ждут, чтоб их заметили, так и помирают, не дождавшись. Если не одергивать больного, то растратишь все силы на такого вот остряка.
Татарников посмотрел вслед Колбасову и подумал: этот человек в лаковых ботинках зарежет меня. Меня привезут к нему в комнату, он возьмет нож и зарежет. Как странно знать заранее, кто именно тебя убьет.
А утренний обход продолжался, и врачи летели белыми птицами по вонючему коридору, и хлопали их белые крылья в душном воздухе урологического отделения.
5
Разумеется, знать, что доподлинно сказал министр финансов, тем более что он подумал, люди не могли. Народу показывали министра в телевизоре – и крайне недолго. Министр сказал примерно так: что будет, то и будет, и нечего гадать. Он привел некоторые цифры: валовой продукт снизился на столько-то, безработица выросла на столько-то, отток капитала из страны составил столько-то. Но цифры меняются каждый день, и министр сказал, что верить цифрам наивно. Скоро станет хуже, это ясно: прошла первая волна кризиса, а скоро накроет второй.
Президент строго отчитал своего министра. На кой ляд сдались такие министры финансов, которые провидят катастрофы? Министр финансов должен порхать как бабочка, жалить как пчела и тащить запасы как муравей! А сеять панику министр не должен. Так и боцман на тонущем корабле не имеет права нервировать пассажиров. Мало ли, что тонем, – а ты все равно сходи к пассажирам на палубу и спляши качучу.
Со своей стороны президент высказал более здравые прогнозы: кризисная ситуация, заявил он, может развиваться по трем сценариям, ее график может напоминать букву V, W или L. Вниз и вверх, или – вниз-вверх-вниз-вверх, или резко вниз – и там, внизу, мы и останемся. Граждане завороженно смотрели на буквы латинского алфавита – теперь, после анализа ситуации, им многое стало ясно.
Сенатор Губкин позвонил министру финансов и сказал:
– Напрасно связываешься.
– Знаешь, некая ответственность у меня все же есть.
– Тогда не связывайся. Если тебя снимут, придурка поставят, от бюджета вообще ничего не останется.
– Это правда.
– Чекисты есть чекисты, – сказал Губкин, – не надо с чекистами ссориться.
– Губернаторов раньше выбирали, а теперь назначают.
– Слава богу, что назначают. Хотя бы на людей отдаленно похожи. Прежде выбирали таких бандитов, что дело сделать невозможно. Если нашему народу разрешить выбирать – он такое выберет!
– Но президента выбираем, – усмехнулся министр.
– Положено, чтобы демократия была. Руками есть удобнее, чем вилкой – но ведь берем нож и вилку, принято так. Соблюдаем этикет.
– Кому это нужно? Мне, что ли? Тебе?
– Людям нужно.
Действительно, многим людям демократический этикет был необходим. Знаменитая российская тяга к твердой руке прекрасно уживалась с желанием обрести свободу – и противоречия в этом не видел почти никто. Ведь совсем необязательно, чтобы твердая рука секла или сдирала шкуру, – твердая рука может, например, покровительственно трепать по щеке. Вот и сосед Татарникова, Вова-гинеколог, каждый день спорил с несговорчивым Витей о том, что демократия и империя в принципе совместимы.
– Какая демократия? – говорил грубый рязанский житель. – Командуют богатые мандавошки.
– А ты не опускай рук! – кричал ему гинеколог и тряс шлангом катетера. – Используй свой шанс!
– Сам используй! – говорил ему Витя язвительно. – У тебя своя склянка с мочой, у меня – своя. И больше ни хрена нету. Вот ты свой шанс и используй как хочешь. Хочешь – писай в эту банку, хочешь – какай.
– Не понимаешь ты ничего! Средний класс в стране образовался! Средний класс – это гарант демократии, – Вова-гинеколог поправил трубку катетера, чтоб моча стекала равномерно. Подача мочи в банку напомнила Вове процесс заправки машины бензином, и он сказал: – Вот, скажем, ты владелец бензоколонки, имеешь бизнес…
– Нет у меня бензоколонки!
– Нет бензоколонки, так, значит, построй ремонтную мастерскую.
– Ага, построй! – и Витя выворачивал пустые карманы халата.
– Ну, квартиру приватизируй и сдавай!
– Банку с моими ссаками могу тебе сдавать. Нет у меня квартиры.
– Ты, Витя, приватизируй свои анализы, – говорил Татарников, – выпустишь акции, исходя из определенного содержания лейкоцитов и эритроцитов, а потом будешь следить за показателями. Однажды эритроциты взлетят – и тогда…
– Серьезная тема, не до смеха! Вот такие люмпены, как ты, – в раздражении говорил Вова-гинеколог, – вместо того чтобы работать и становиться средним классом, устроили революцию! Отбросили Россию на сто лет назад!
– А сейчас она где?
– На сто лет впереди!
– Хорошо тебе стало впереди? Что ты там такое интересное увидал, Вовчик?
Вова-гинеколог нервно объяснял, что такое финансовый капитализм и почему даже бездельник Витя может стать совладельцем огромного концерна, сделаться партнером «Чейз Манхэттен Банк» или «Газпрома». Приобретаешь акцию, она растет в цене, ты берешь кредит у банка под стоимость своей акции, покупаешь в кредит бензоколонку, аккуратно платишь процент, прибыль растет, что тут неясно? Экскурсы в экономику не помогали – грубый Витя не верил ни Вове, ни журналу GQ, ни экономистам чикагской школы.
Гинеколог приходил в бешенство:
– Экономика символического обмена – понимаешь ты, рязанский болван, что это такое?
– Сам ты болван! Подотрись своими акциями!
– В самом деле, Вова, – говорил Татарников примирительно, – с акциями вышла незадача. Я считаю, надо держаться эритроцитов. Что касается меня, показатели идут вверх. Не знаю, как там Доу Джонс, а мой график стабилен.
– Во-во, еще Доу Джонса вспомни, мандавошку эту. Сталина надо, вот я тебе что скажу. А без Доу Джонса обойдемся.
– Витя, – успокаивал Сергей Ильич, – не торопи события.
– Ты историк, Сергей Ильич, – кричал Вова-гинеколог, – ты объясни ему! Ты с такими людьми знаком! Ты такие книги читал!
Вова-гинеколог проникся доверием к Сергею Ильичу после того, как увидел, что главный редактор демократической газеты, Александр Бланк, пришел проведать умирающего.
– Вот к нему сам Бланк ходит! – орал гинеколог. – Ты бы хоть с умными людьми поговорил, валенок рязанский, если сам не понимаешь! Тебе демократию строят, а ты сидишь, в носу ковыряешь! Объясни ему, Сергей Ильич!
Историк Сергей Ильич Татарников объяснял себе все довольно просто – но делиться мыслями не хотел.
К тому моменту, как страна пришла в негодность, граждане уверились в вечном царстве демократии – столь же пылко, как были они уверены в вечном торжестве СССР. Когда сенатор Губкин спросил у своего приятеля, министра финансов, на какой срок, по его мнению, пришла правящая группа к власти – министр не замедлил с ответом: «На триста лет – как Романовы». Даже скептический Саша Бланк рассуждал про долгое правление императора Августа – и вообще, поминать Августа стало принято. Говорили о том, что был некогда в Древнем Риме такой император, который принял под свою сильную руку истомленное раздорами государство. Тридцать семь лет обладал трибунской властью и двадцать один год был императором, несчетное количество раз избирался консулом, брал верховную власть – и устранялся от нее, а потом снова брал, ибо кому и властвовать, как не ему. Август именовал себя отнюдь не «император», но «принцепс», то есть первый среди равных, принцепс – это своего рода премьер. При Августе и демократия цвела, и экономика колосилась, и колонии благоденствовали, и усобицы он замирил. Был такой император – мудрый, что твой полковник госбезопасности.
Обыкновенно Сергей Ильич говорил Бланку: «Тебя не удивляет сочетание: император – и демократ?» Бланк отвечал: «Особенность нынешней империи в том, что ее сила в среднем классе, а средний класс – это и есть демократия». – «Значит, если уберут средний класс, то империя изменится?» – «Средний класс веками создавался! В один день не уберут». – «Помилуй, тот средний класс похож на этот, как древние египтяне на современных. Вот скажи, что наш средний класс производит?» – «Как что? Средний класс – совладелец валового продукта!»
Современный средний класс создали путем символического обмена, вывели обывателя методом банковского кредита, как гомункулуса в пробирке. А вот сколько лет гомункулус проживет – не сообщили, решили не говорить. Те граждане, которые называли себя средним классом, неожиданно обнаружили, что, помимо их символической жизни, существует еще и реальная жизнь – оказывается, никто ее не отменял. Наличие акций, несомненно, уравнивало обывателей с банкирами и президентами – но кроме акций у президентов были еще дворцы и яхты – и, когда акции обесценились, эти дворцы никуда не делись. А у представителей среднего класса дворцов не было; акции у них по-прежнему оставались, а больше ничего и не было.
То, что произошло, следует определить как коллективизацию, думал Сергей Ильич. Это вторая коллективизация в новейшей истории. Произведена новая коллективизация уже не беднотой совокупно с комиссарами, но финансовым капитализмом. То есть это коллективизация не снизу, но сверху, не ради коммунистической утопии, но ради конкретной империи. Жертвой и в том и в другом случае оказался средний класс, и всякий раз во имя государственного строительства. С акциями смешно получилось, думал Сергей Ильич. В Риме изменения начались как раз после битвы при Акции – далее следует императорская история, власть преторианцев, и так далее.
Интересно то, что первая коллективизация последовала за кризисом 1929 года и сегодняшняя коллективизация также неминуемо следует за кризисом. Нет, интересно даже не это. Интересно то, зачем приходит коллективизация. Интересны тридцатые годы.
– Скажи, Вова, – спросил Сергей Ильич, – враги финансового капитализма – они ведь враги демократии?
– Наконец, хоть один разумный человек нашелся. Слушай, рязанская дубина!
– А враги демократии – они ведь враги народа?
– Само собой. Демократия – это же власть народа.
– И что мы будем делать с врагами народа?
– Наказывать, что же еще?
– Вот видишь, Витя, – сказал Сергей Ильич, – и спорить вам, оказывается, с Вовой не о чем. Прищучат твоих обидчиков.
– Ох, боюсь, не доживу.
Вова-гинеколог прекращал спор, уходил, поджав губы, к себе в палату, уносил стопку журналов и газет. Там, в своей палате, он продолжал анализировать исторический процесс, брал красный карандаш, отчеркивал абзацы в передовых статьях – и всякий день делился новой версией происходящего. Он понимал, что все идет правильно, но нечто такое присутствовало, что не давало покоя.
– Ну что ты, Вова, нервничаешь? – успокаивал его Татарников, – Прогресс – дело болезненное. Сталин говорил: «лес рубят – щепки летят». Вопрос в том, с какой точки зрения смотреть на вещи – с точки зрения начальника лесной промышленности или с точки зрения щепок.
Татарников лежал на спине – пошевелиться не мог, в поле его зрения был только потолок. Хорошая у меня точка зрения, думал он, объективная.
Стабильная точка зрения, и поменять ее невозможно. Причина сегодняшней обиды в том, что обывателю хотелось глядеть на рубку леса глазами лесопромышленников, ему даже предложили купить немного акций лесного хозяйства, ему вдолбили в голову, что он практически соучастник рубки леса. История среднего класса – это история простофили, попавшего на большое производство. Вокруг кипит работа, валят деревья, и вдруг обыватель осознал, что он не промышленник, даже не лесоруб, он всего лишь расходный материал. Это его собираются использовать на растопку, вот незадача. А лес как рубили, так и рубят по-прежнему – и щепки летят во все стороны.
И меня вот срубили, думал Татарников, хотя я еще держусь, еще не вовсе труха. Но топор вошел глубоко.








