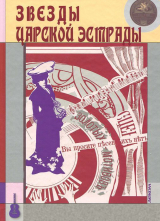
Текст книги "Звезды царской эстрады"
Автор книги: Максим Кравчинский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Больше всего досталось капитану, случайно забредшему в бар. Он сидел на нейтральной территории, на которой как раз и сошлись противники. Его били и те и другие. Одно “удовольствие” было стоять в стороне и наблюдать, как ведут себя “сыны” добровольческой армии, как колотят они друг друга кулаками, бутылками, тарелками – чем попало. Больше всех переживал Морфесси – ведь офицеры били его посуду и ломали его мебель. Поэтому он потихоньку, по одному отделял дерущихся от общей массы, выпроваживал в вестибюль и дальше на улицу.

Одесса. Большая Московская гостиница
…Спустя несколько дней после происшествия в баре разнесся слух, что к Одессе приближается Красная армия. Белогвардейцы засуетились, побежали с чемоданами на пароходы. Я злорадно смотрел им вслед и испытывал удовольствие, видя их жалкими и ничтожными.
Полки красных ворвались в Одессу вихрем, и этот вихрь смел в море остатки беляков. Они уже не дрались с врагом, они дрались за каждое местечко на пароходе. Корабли отшвартовывались без гудков, посылая городу густые клубы черного дыма, словно свою бессильную злобу.
И было смешно при мысли, что все “спасители” России уместились на нескольких судах. Скатертью дорога! Но когда “дым” рассеялся, оказалось, что вместе с ними уехали Вертинский, Морфесси, Липковская и Кремер. Этого я не ожидал.
Их поступок мне был непонятен и тогда уже показался нелепостью. Ну да бог с ними, мало ли что может сделать растерявшийся, слабовольный и не представляющий ясно, что к чему, человек…
Размышляя о бегстве, допустим, Изы Кремер, я где-то догадывался, что она не смогла бы отказаться от своих интимных песенок, от любования роскошной жизнью, воспевания экзотики, от мечты о “далекой знойной Аргентине”, о той воображаемой Аргентине, в которой нет никаких революций и где ничто не мешает “наслаждаться” жизнью. То же самое для Вертинского, воспевавшего безысходность и отчаяние, “бледных принцев с Антильских островов”, – новая действительность, разрушавшая выдуманные миры, где “лиловые негры подают манто”, была не только неприемлема, но и враждебна. А лихие тройки, рестораны и кутежи, последняя пятерка, которая ставится на ребро, – все то, о чем пел в цыганских романсах хорошим баритоном Морфесси, – все это было напоминанием того, что потеряли прожигатели жизни и за что они теперь ожесточенно сражались»[19].
Два-три дня ползли тревожные слухи и оформились окончательно: экспедиционные войска покидают Одессу под угрозою Красной армии с севера.
Началась паника, завершившаяся такой же панической эвакуацией.
Спасайся, кто может!
Я остался в Одессе, желая спасти свои заложенные вещи, и я видел, как только на третий день после эвакуации заняла город Красная армия. Этой Красной армией была тысяча человек большевицкого сброда, одетого и вооруженного как попало. Вождем этого сброда был эксакцизный чиновник Григорьев. Стадо трусливых шакалов долго отказывалось верить в свой успех. А потом трусость сменилась наглостью, и Одесса была большевизирована по всем правилам искусства: грабежи, облавы чрезвычайки, расстрелы, изъятие излишков, митинги.
Несколько раз меня арестовывали, захватывали на облавах, но меня спасала моя популярность: меня выпускали из-за моего артистического имени.
– Ах, это вы, Морфесси? Ну, вы свободны!
Особенную симпатию питал ко мне какой-то грузинский отряд, он дважды выручал меня из лап местных русских большевиков.
Вообще же этот одесский режим был менее отвратителен, чем он мог бы быть, причина – комендант Одессы Домбровский, коммунизм которого был под большим сомнением. Впоследствии его расстреляли свои же.
Через него я решил добыть из сейфа мои заложенные драгоценности. Но Домбровский, при всем своем желании быть мне полезным и приятным, оказался далеко не всемогущим.
– На этот счет поговорите-ка вы лучше с товарищем Дыбенкою.
– С тем самым? – спросил я.
– С тем самым, – улыбнулся Домбровский. – Я вам дам к нему записочку.
Я увидел знаменитого Дыбенку, сожителя красной Мессалины Коллонтай, здоровеннейшего матроса, красивого мужицко-разбойничьей красотой. Дыбенко прочитал записочку, повертел ее в своих громадных руках.
– Видите, я, в сущности, конечно, мог бы и сам приказать, но это по части товарища Духовного. Пойдите к нему от меня. Стойте, я дам вам к нему записочку.
И потея от напряжения, бывший советский морской министр с трудом выводил какие-то каракули.
Насколько Дыбенко был громаден, настолько товарищ Духовный оказался крохотным, невзрачным юнцом. Этот юнец пообещал:
– Я займусь вашим делом. Придите завтра.
На следующий день он заявил мне:
– Этот сейф вместе с другими отправлен в Москву. Поезжайте в Москву и получите там свои вещи.
– Я в Москву не собираюсь.
– Тем хуже для вас. Это же единственный способ получить обратно то, что вы на своем буржуазном языке называете собственностью.
Махнув рукой на несколько десятков каратов, я решил в буквальном смысле слова «сидеть у моря и ждать погоды» и ни в каком случае не забираться вглубь России.
По всему угадывалась непрочность большевицкой власти в одесском районе. Войск было мало, и войска были третьестепенные, да и комиссарская головка не чувствовала себя крепко, а раз так, лучше быть на берегу Черного моря, нежели на берегу Москвы-реки.
Конечно, большевики принесли в Одессу голод. Ничего нельзя было купить на рынке, ни в лавках, да и лавки, и рынки были упразднены. Рабочее население Одессы, с таким нетерпением ожидавшее прихода большевиков, разочаровалось уже спустя месяц. Желудок – лучший политик, а желудок был пуст. Советская власть кормила рабочих не хлебом и мясом, а митингами. Какой-нибудь болтун, возвышаясь на грузовике, заливается соловьем, сулит пролетариату земной рай, а пролетариат, хмурый, бледный, оборванный, угрюмо слушает программную дребедень.
Чтобы хоть немного поднять эти не имевшие успеха митинги и заманивать на них толпы несчастных, одураченных людей, комиссары начали привлекать артистов – один продекламирует, другой пропоет.
Конечно, пение и декламация должны были носить агитационный характер. Артисты были все на учете, и их назначали на митинги по наряду; кто уклонялся, того – в чека.
– Это в буржуазных странах искусство свободно, – поясняли советские чиновники, – а в стране советов искусство должно быть классовым, пролетарским.
Так же мобилизованы были кое-кто из буржуазных газетчиков и журналистов. Им давались заказы высмеивать Деникина, Колчака и воспевать вождей революции.
Я всячески ловчился, но и мой черед пришел быть потребованным на один из митингов. Передо мною говорил какой-то стопроцентный коммунист, товарищ Анулов, он обещал народу молочные-реки, кисельные берега и жареных рябчиков на деревьях.
Когда он кончил – ни одного хлопка, ни одного возгласа одобрения.
Оратор сконфуженно слез с платформы, уступив мне свое место.
– Спойте что-нибудь, товарищ Морфесси.
Сверху окинув взглядом толпу и увидев повеселевшие лица, я запел:
Понапрасну, мальчик, ходишь,
Понапрасну ножки бьешь,
Ничего ты не получишь.
Дураком домой пойдешь.
Последние слова потонули в оглушительных овациях. Никогда, нигде за всю жизнь я не имел такого безумного успеха. Исступленные крики восторга десятитысячной толпы, гам, шум, грохот рукоплесканий.
Незадачливый оратор позеленел, и мне казалось, что он тут же меня арестует, но все обошлось благополучно; а только больше меня уже не приглашали петь на митингах. Я же старался меньше и меньше попадаться на глаза местным властям.
Мучительно и гнусно тянулось время. Все более и более голодный, обнищавший вид принимала Одесса. Люди продавали все, что еще уцелело, – последнее пальто, последние простыни, чтобы купить хлеба. Вся энергия, вся сила, вся изворотливость ума уходила на добывание пиши.
Террор усилился. По ночам живых буржуев складывали, как дрова, на грузовики и, прикрыв всю эту человеческую гущу брезентом, мчали на расстрел, а затем, уже совсем как дрова, сваливали на грузовик деревенеющие тела жертв и везли за город для того, чтобы в последний раз дочиста ограбить и, раздев трупы, закопать их в общую яму.
Если всю жизнь я пил для веселья, для настроения, для подъема нервов, то в эти кошмарные дни я пил забвенья ради и чтобы утопить в алкоголе чувство бесконечной жути и бесконечного отвращения.
Но и спиртные напитки были привилегией господствующего класса.
Им, вождям трудящихся, – всевозможные марки шампанского, ликеры, коньяки, испанские и сицилийские вина, словом, все то, в чем эта сиволапая рвань не понимала толку. Трудящимся же – денатурат. Я до денатурата не унизился и пробавлялся каким-то подозрительным пойлом, которое мне выдавали за ром. Делил я эту смесь с моим старым другом, сотрудником «Нового Времени» Костею Шумлевичем. Он тоже, бедняга, застрял в Одессе.
Интересный, остроумный собеседник, автор вдохновенных экспромтов, милый Костя Шумлевич не отличался избытком отваги. Плотный, коротконогий, с обвислыми усами, напоследок он приучился бояться собственной тени. Когда говорили об ужасах чрезвычайки, его прошибало холодным потом, и еще ниже обвисали его густые усы. Только хмель заглушал на время вечный страх Кости Шумлевича, и тогда, теряя чувство меры, он был способен выкинуть умопомрачительное коленце.
Такое коленце выкинул Костя на вечеринке у комиссара Домбровского. Я уже отметил, что большевизм Домбровского был под большим сомнением; его тянуло к буржуазной компании, и он задыхался в обществе грубой, тупой и скучной, как серое солдатское сукно, комиссарщины.
На свои вечеринки Домбровский приглашал артистов, и не только рабски служивших советской власти, но и таких непримиримых, как я.
За длинным столом, буквально ломившимся от вкусной, обильной снеди и таких же обильных напитков, сталкивались два мира – наш, буржуазный, и коммунистический. Своих Домбровский принужден был приглашать по политическим соображениям. И без того уже на него начинали коситься.
На одной из таких вечеринок сидевший между помощником Домбровского матросом Шульгой, с одной стороны, а с другой – Тамарой Грузинской, Надеждой Плевицкой и мною встает Костя Шумлевич, достаточно багровый и вспотевший. Держит бумажку свежеисписанную им же самим. И, о ужас, читает стихотворный экспромт – к сожалению, не могу привести его в подлиннике, но общий смысл таков: Домбровский единственный здесь человек изо всей большевицкой банды; он, как пасхальное яичко, красен снаружи, а внутри белый из белых. Все же остальные здесь рвань и шпана.
Можно себе представить впечатление от этого экспромта.
Домбровский сидел ни жив ни мертв; буржуазия упорно ушла в созерцание своих тарелок; комиссары столь же многозначительно, сколь и зловеще переглядывались, и вряд ли возьму грех на душу, сказав, что кое у кого из них потянулись руки к висевшим у пояса наганам и браунингам…
Собравшись с духом, я кое-как рассеял насыщенную электричеством атмосферу и вспугнул неприятное молчание. Помог старый актерский навык. С наигранной развязностью и с такой же наигранной улыбкой я запел старый, эпохи моего детства, романс: «Задремал тихий сад».

Генерал Деникин с офицером Антанты
Внимание отвлечено, положение спасено. А когда все смешалось, я поспешил скрыться и увлек за собой Костю Шумлевича. На другой день, когда трезво осмыслил он вчерашнее, бедняга так перепугался, что на него и смешно и жалко было смотреть. Он даже похудел и несколько суток ночевал в разных местах, опасаясь ареста и, как ему казалось, неминуемого расстрела.
Так дожили мы, если только можно это назвать жизнью, до августа, и хотя это было уже осенью, но повеяло весною. Все росли и росли слухи, что Одесса под угрозою удара белых. До нас доходило это в смутном и неопределенном виде. Но комиссары знали гораздо больше нашего; количество их таяло с каждым днем. Одни сочиняли себе командировки, другие просто уезжали, унося свои головы и увозя награбленное добро. А слухи все определенней и отрадней. Уже существует прочная связь между деникинским десантом, который с часу на час должен высадиться, и белым повстанческим ядром внутри Одессы, во главе которого полковник Саблин. В решительный момент повстанцы захватят власть и встретят пересекших Черное море желанных освободителей.
План осуществился. Когда два эскадрона Крымского конного полка под начальством полковника Туган-Барановского высадились на Большом фонтане, организация Саблина уже фактически овладела Одессой.
Высыпавшее на улицу население, охваченное неописуемым энтузиазмом, чинило суд и расправу. Хватали не успевших бежать большевиков, чекистских девиц и тут же рвали их на части.
…Я собрал воедино все оркестры, какие только были в Одессе; получилось 70 музыкантов в котелках, старых цилиндрах, в соломенных канотье и так же разношерстно одетых. Я их построил в ряды, и мы пошли по всему городу под звуки Преображенского марша. Население с криками присоединялось к нам, и нас было уже несколько тысяч. Этим же Преображенским маршем встретили мы оба молодцеватых, подтянутых эскадрона полковника Туган-Барановского. Многие истерически плакали при виде русских погон и русской национальной формы. Женщины и дети ловили стремена всадников и забрасывали их цветами… Гудели колокола кафедрального собора, сзывая на торжественное богослужение по случаю падения власти нечестивых. С марта по август не слышно было этого звона. Он был под запретом. В этом отношении большевики перещеголяли даже турок в эпоху их господства над балканскими славянами: турки не запрещали колокольного звона, а только требовали, чтобы колокола находились ниже минаретов мечетей данного города.
…Если бы не грохот артиллерийских орудий, можно было бы подумать, что это дни святой Пасхи, по странному капризу календаря пришедшиеся на мягкий, солнечный август. Грохот орудий вот почему: добровольческий крейсер «Кагул» и небольшой английский корабль «Кардок» перекидным огнем бомбардировали подступы к Одессе, внося расстройство и потери в ряды последних красных банд, покинувших город. Но вот уже поистине волшебное превращение. Я раньше сказал, до чего анафемский голод царил в Одессе и что ни за какие деньги нельзя было достать самых незатейливых продуктов. Но в первый же день изгнания большевиков возы, наполненные всем съестным, сотнями и тысячами запрудили площади и улицы, а из окрестных сел и немецких колоний стягивались все новые и новые караваны. Чего-чего только не было на этих возах! Караваи черного хлеба, давно невиданные белые булки, кольцевидные змеи всевозможных колбас, пышные окорока, сало и телятина…
Вскоре Одессу посетил генерал Деникин, торжественно и пышно встреченный военными, духовенством, всевозможными организациями и несметными толпами населения. Главнокомандующему вооруженными силами юга России устроен был в Лондонской гостинице обед. На этом обеде я поднес генералу Деникину «чарочку» и пропел, на мотив «Ямщик, не гони лошадей», приветствие собственного сочинения. Вот оно:
Пускай осуждает иной
Всех тех, кто здесь пьет и поет,
Я верю, Деникин-герой
Спасенье России пришлет.
О нет, не забыт нами он.
Повсюду царит его тень,
И праздничный говор и звон
Простятся в сегодняшний день.
Боже, как тогда верилось, что это уже навсегда и что русская национальная власть укрепится на веки вечные не только в Одессе, а и на всей русской земле. Хотелось, мучительно хотелось верить.
Глава XII
СУДОРОГА «БЕЛОГО» КРЫМА. В КОНСТАНТИНОПОЛЕ. У ПИОНТКОВСКОЙ. ТУРЕЦКИЙ ПАША-МЕЦЕНАТ. СТОЛКНОВЕНИЕ С ИЗОЙ КРЕМЕР. НОВОЕ ДЕЛО. И ЕГО РАЗГРОМ. И «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА» НЕ СПАСЛА. КОРФУ. ВЕНЕЦИАНСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. КАК В ПРАГЕ МЫ ПОДВИЗАЛИСЬ В БАЛАГАНЕ
Крым, этот последний клочок русской земли, занятый белыми национальными войсками, выражаясь языком тогдашней прессы, «агонизировал». Врангель девятый месяц героически защищал подступы к горлышку крымской бутылки. Но на этих подступах в несметном количестве накапливалась Красная армия, снятая с польского фронта.
Большевики хвастались:
– Полмиллиона уложим, а крымскому барону свернем шею!
И действительно, не жалели пушечного мяса. Серая скотинка с пятиконечной звездою на фуражке густо и обильно устилала позиции, а взамен павших появлялось все новое и новое пушечное мясо. Учитывая это, Врангель разработал план эвакуации задолго до его осуществления, а те, кто не был прямо связан с армией, эвакуировались понемногу сами.
В то время, такое тревожное и нервное, я находился в Ялте и, как говорят, жительство имел в гостинице «Россия». Моей соседкой была моя спутница по эмигрантским скитаниям Анна Назаровна Васильева, молодая женщина русских кровей, с русским именем, с профилем римлянки, хотя и белокурая и молочно-розовая. Все было безмятежно, как крымское осеннее солнце, чистая лазурь небес и легкая зыбь малахитового моря. Темно-зеленые горы, упоительный воздух. И вдруг средь этого земного рая – тревожный клич, все перевернувший. Ураганом вбегает ко мне в номер огненно-рыжий, лохматый скрипач:
– Юрий, спасайся, кто может!
– В чем дело?
Скрипач, по основной профессии своей инженер, толково и, как говорят в Одессе, «интеллигентно» нарисовал мне грозную картину: Крым висит на волоске, несметные полчища вдохновляемых пулеметами, поставленными сзади, прут не цепями, а тучами чингизхановских орд. Неизбежна эвакуация, но когда она начнется, будет ад кромешный. Тем, кто не в рядах бойцов, рекомендуется заблаговременно оставить последнюю пядь родной земли, чтобы не попасть в окровавленные лапы советских горилл…
Рыжий скрипач хотя и был неприятным вестником, но зато как нельзя более своевременным. Тем более что моя агитационная роль среди белых известна большевикам и, попадись я им, на лучший случай я удостоился бы разрывной пули в затылок…
Мы устроились с А. Н. Васильевой на пароходе, отходившем в Севастополь. Там, в ставке верховного главнокомандующего, будет как-никак надежней и лучше. Хотя пароход переполнен тифозными, но одна мысль, что мы покидаем Ялту, не защищенную и кишащую тайными большевиками, заставляла забыть всех тифозных на свете. Но в Севастополе тоже было затишье перед бурей. Гостиница Киста, где мы остановились, носила следы развала, и в номерах было так же холодно, как и на улице в осеннюю ночь.
Здесь мой старый приятель по Петербургу капитан первого ранга, бывший командир императорской яхты «Александрия» Мясоедов-Иванов, узнав, что А. Н. Васильева оставила в Одессе много ценных вещей, устроил ей поездку в Одессу на пароходе, которым он командовал. Но оказалось, большевики, уже занявшие Одессу, обстреляли белогвардейский пароход, и он вынужден был возвратиться в Севастополь. А Васильева, сошедшая на берег, застряла в Одессе.
Уже Севастополь, эта последняя цитадель Врангеля, был накануне эвакуации.
Счастье не отвернулось от меня: на севастопольском рейде стоял греческий миноносец «Пантера», новенький, только что пришедший с бразильских доков, где он сооружался еще с несколькими миноносцами для греческого флота. Я, как греческий под данный, имел шансы найти на борту «Пантеры» приют. Действительно, командир ее, бравый капитан Янн-Коста, предложил мне самое широкое гостеприимство, дав право взять с собою еще кое-кого из русских. Я не преминул этим воспользоваться для известной в Петербурге семьи Ярмонкиных. В самый последний момент я устроил на миноносец зубного врача Вальтера. Этот маленький хромоногий толстяк был тоже известным петербуржцем.
Мы пересекли Черное море с потрясающей быстротою. Мало того что кормили нас хорошо, но у Ярмонкиных еще оказался большой запас икры и всевозможных закусок. В кают-компании мы устраивали концерты, я пел, а двое молодых лейтенантов аккомпанировали мне на гитарах и превратились с первых же дебютов в завзятых цыганоманов.
Недалеко от входа в Босфор мы очутились в густом, непроглядном тумане. И вот где я дивился искусству греческих моряков! Миноносец прорезывал этот туман, идя как в ясный солнечный день и, пройдя во мгле весь Босфор, не задев ни один из кораблей международной флотилии, бросил якорь у Галатского моста.
Моей мечтой было как можно скорее сойти на берег и ощутить под ногами твердую почву. Первые дни меня удерживало недомогание. В дороге я простудился и особенно застудил полость рта. Причиною был холод, свирепствовавший на миноносце. Приплыв из жарких стран, он еще не был снабжен отоплением. У меня раздуло щеку, и только хирургическое вмешательство Вальтера спасло меня от воспаления надкостницы. Меня это лишний раз убедило, что как дурные, так и добрые деяния по заслугам воздаются судьбою. Когда я уже совсем оправился, капитан ни за что не хотел меня отпускать. Он полюбил меня, привык к моему обществу и в особенности к моему пению. Он звал меня ехать в Афины. В конце концов он внял моим мольбам и спустил меня на берег.
Антракт
Русская речь на берегах Босфора
Массовый исход беженцев из России датируется 1919–1920 гг. Уезжали с надеждой вернуться. Верили – месяц, год, пусть два, но все образуется. Снова будет «малина со сливками» в подмосковных усадьбах, «ваше благородие» и подарки на Рождество. Первое время эмигрантское общество пыталось сохранить традиции, верность привычному укладу жизни. Основной костяк «первой волны» составляли привыкшие к дисциплине солдаты и офицеры. Стараниями лидеров белого движения, многочисленных родственников царской династии и разномастных политических деятелей были организованы общественные и военные союзы, созывались съезды, избирались всевозможные «теневые кабинеты министров», «правительства в изгнании», призванные едва ли не воссоздать Российскую империю на новых берегах.
Как известно, все наивные попытки закончились ничем. Слишком сильны были противоречия между разными группами эмигрантов. Как пишет в воспоминаниях о «русских в Париже» Е. Менегальдо: «Официально учредить Русское государство в изгнании эмигрантам не удается, зато они преуспевают в другом: создают различные структуры, необходимые для жизни сообщества, и одновременно происходит настоящая экспансия самобытной русской культуры».
Одним из причалов для эмигрантов стал Стамбул. «Изгнанники обживали в основном европейскую часть города на западном берегу Босфора, особенно район Бейоглу, сосредоточенный вокруг улицы Пера.
По словам очевидцев, 1920–1924 гг. были временем явного преобладания русских на Бейоглу.
А. Н. Вертинский, выступавший в то время в кабаре «Черная роза», рассказывал: «Константинополь стал очень быстро русифицироваться. На одной только рю-де-Пера замелькали десятки вывесок: ресторанов, кабаре (дансингов тогда еще не было), магазинов, контор, учреждений, врачей, адвокатов, аптек, булочных… Все это звало, кричало, расхваливая свой товар, напоминало о счастливых днях прошлого: “зернистая икра”, “филипповские пирожки”, “смирновская водка”, “украинский борщ”».

Стамбул. 1919
Филипп Мансель в своей книге «Константинополь», описывая жизнь в этом уголке города, отводит несколько абзацев и русским эмигрантам: «Изможденные белогвардейцы крутят баранки такси, торгуют газетами, шнурками, матрешками. Барышни продают цветы. Жена последнего российского посла дает частные уроки французского и английского. Философ Гурджиев сбывает икру. Профессор математики служит кассиром в русском ресторане…»
А вот как выглядела главная улица Бейоглу глазами Н. Н. Чебышева:
«Пера, кривой коридор, по вечерам беспорядочно испещренный электрическими огнями, стала “нашей” улицей. Русские рестораны вырастали один за другим. Некоторые из них были великолепны, залы в два света, первоклассная кухня, оркестры, каких Константинополь никогда не слышал».
Названия многочисленных вывесок ресторанов, кабаре и кондитерских: «Эрмитаж», «Петроград», «Большой московский кружок», «Аркадия», «Карпыч», «Уголок», «Киевский» и т. д. напоминали старую российскую жизнь. Здесь всё делалось на русский лад… Всё излучало изысканность и благородство. Сверкающие белизной скатерти, серебряные приборы, хрусталь, дамы в вечерних платьях, встречающие гостей как хозяйки дома, меняли облик всего Бейоглу, придавая ему своеобразный эстетизм.
Главной притягательной силой русских развлекательных заведений была выступавшая в них гильдия артистов разных жанров – от классики до «казачка». Их высокий профессионализм и талант восхищали всех посетителей. Об этом свидетельствует и автор статьи «Белые русские» в «Энциклопедии Стамбула» Решад Экрем Кочу: «Белым русским принадлежит важное место в культурной истории Стамбула. Большинство из них – выходцы из самых высоких и образованных кругов царской России… Первое, что они сделали, оказавшись в Стамбуле, – создали развлекательные заведения, которых так не хватало большому городу. В открытых ими ресторанах, ночных клубах, кабаре турки увидели подлинное, освещенное благородством искусство».
…В популярном кабаре «Черная роза» выступал Александр Вертинский… В одном заведении пела русские песни Тараканова, которая выходила на сцену в кокошнике. В другом кабаре цыганские романсы исполняла Настя Полякова. В зале «Каза д’Италия» с аншлагом проходили концерты трио
Виктора Крюкова и его сестер Джеммы и Надежды, которые играли, пели и танцевали. Классические, народные и современные танцы (фокстрот, чарльстон) в их исполнении имели большой успех.
А на площадке парка «Гюльхане» выступал со своей труппой казачий офицер Михаил Турпаев (танцор Казбек). Завоевавший известность как непревзойденный исполнитель горских танцев с кинжалами Михаил Турпаев дожил в Стамбуле до 98 лет и умер в 1978 году.
В ресторане «Режанс» по старинным русским рецептам готовили несколько десятков сортов национального напитка. Водка была с тархуном, облепихой, зверобоем… Очень трудно было найти смородину, она в Турции не растет, но наши умудрялись где-то достать эту ягоду. Делали смородиновую и вишневую настойки. Но самой популярной была водка с лимоном.
«Отец всех турок» Мустафа Ататюрк признавался, что любил заходить в русский ресторан «Режанс» инкогнито, пропустить стаканчик-другой и понаблюдать за посетителями. Хозяева ресторана специально для него всегда держали в холодильнике графинчик ледяной водки, настоянной на лимонных корочках.
Водка в Турции продавалась под известными именами. Так, водку «Бывш. поставщика двора П. А. Смирнова» выпускал один из его сыновей – Владимир. Производство «огненной воды» было рассчитано прежде всего на русских эмигрантов, а деньги, вырученные от ее продажи, должны были идти на содержание русского кабаре «Паризиана», в котором выступала его возлюбленная звезда оперетты Валентина Пионтковская.
Но расчет не оправдался: эмигрантская среда оказалась неплатежеспособной, а турки пили мало.
Красавец-сердцеед Владимир Смирнов имел две истинные страсти – женщины и лошади. До рокового 1917-го он содержал в Петербурге театральную труппу и дарил Пионтковской бриллианты в 40 карат.
В изгнании ситуация разительно поменялась. Спасаясь от кредиторов, чета переезжала из страны в страну. И везде Владимир Петрович тотчас открывал производство водки. Всемирно известная отцовская марка «Смирнов» осталась единственным товаром, которым он располагал. В середине 20-х наследник «водочного короля» перебирается во Францию. Но бизнес не пошел и тут.
Своенравная Пионтковская, боясь нищеты, покинула его.
К 1924 году почти вся русская колония Стамбула, пережив пору недолгого расцвета, стала постепенно разъезжаться: «Чехословакия принимала студентов, инженеров и врачей. Болгария и Сербия приютили у себя часть галлиполийцев, Аргентина звала безземельных казаков, в Германию устремились банкиры, скорняки, Франция нуждалась в дешевой рабочей силе. Русский Стамбул опустел», – находим признание у Вертинского[20].
И если сразу после революции число «стамбульских» русских зашкаливало за миллион, то к 1930 году в Стамбуле осталось лишь 1400 русских.
Я очутился в Константинополе, этом сказочном городе, с восемью деникинскими тысячерублевками – «колокольчиками», что по тогдашнему курсу было равно нескольким турецким пиастрам.
Некоторое время я был в унынии, пока не встретил Валентину Ивановну Пионтковскую. Она была директрисой театра «Паризиана», где собирались по вечерам сливки экспедиционного корпуса. Пионтковская пригласила меня петь в «Паризиане», и я выступил в первый же вечер, и гонорар был мне положен 35 лир в сутки. Я сразу почувствовал себя Ротшильдом, но, кроме этого, я получал еще от офицеров союзных армий и флота денежные подарки за частные выступления в их интимной компании. И сплошь да рядом, покидая на заре театр, я уносил в карманах валюту всех стран – американские и мексиканские доллары, турецкие, английские и египетские фунты, французские и бельгийские франки, итальянские лиры и греческие драхмы.
Но вот Босфор запрудился 130 кораблями флотилии Врангеля. Это был клочок плавучей России, не пожелавший остаться под большевицким ярмом. Женщины и дети изнемогали от голода и жажды. Снабжение всей этой беженской армады в первые дни совсем не было налажено. Необходима была немедленная помощь. Я организовал бродячий хор, и с мандолинами, гитарами мы давали концерты на улицах, на площадях, во дворцах турецких министерств, возле иностранных посольств, под окнами богатых левантинцев, армян и греков. Деньги сыпались как из рога изобилия. Особенно щедры были турки, влюбленные в русских дам. Мы пели им сентиментальные романсы, а они, расчувствовавшись, давали нам по пятидесяти и по сто лир.
Накупив провизии, фруктов, минеральной воды, мы, погрузив все это на ялик, подплывали к пароходам с беженцами и раздавали все свои запасы, главным образом детям и женщинам. И так продолжалось несколько дней. Помощь наша, хотя и незаметная с виду, на деле оказалась довольно значительной. Значительной также и в смысле моральном: мы показали нашим соотечественникам, что они не забыты теми, кто находится на свободе и в лучших материальных условиях.
Я уже отметил, что моя служба в «Паризиане» приносила мне более чем достаточно денег. Настолько, что хотя я жил широко и еще шире помогал, однако же в сравнительно короткий промежуток времени я отложил две тысячи турецких лир.
А из «Паризианы» я ушел, да если бы и не ушел, она все равно закрылась бы. Пришлось серьезно задуматься над тем, как быть и что предпринять…
Но свет не без добрых людей. По странной иронии судьбы, в нашем беженском взбаламученном мире этими добрыми людьми оказывались большею частью наши недавние враги по Великой войне – турки. Много трогательных страниц можно было бы заполнить описанием того, что делали в частном, интимном порядке для наших беженцев отдельные турки. Такой «отдельный» турок выпал и на мою долю.








