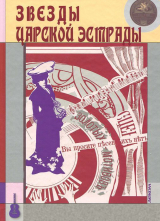
Текст книги "Звезды царской эстрады"
Автор книги: Максим Кравчинский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Это был богатый, европейски воспитанный и образованный паша, очень мало живший в Константинополе и очень много живший в Европе.
У него имелся роскошный особняк, в котором он не останавливался, навещая изредка столицу своей родины и предпочитая апартамент в Пера-Палас отеле. Паша предложил мне свой трехэтажный особняк со всем его убранством и с многочисленным штатом прислуги, начиная от поваров и кончая лакеями-нубийцами, частью в восточном одеянии, частью в расшитых золотом вицмундирах с эполетами и аксельбантом на левом плече.
– Устраивайте что хотите и как хотите.
Я и устроил: в одном этаже – ресторан с концертной программой, в другом этаже – гостиные комнаты и библиотека, в третьем – карточный клуб. А если ко всему этому прибавить еще волшебный тропический уголок в виде зимнего сада, то будет понятным, почему устремились к нам и дамы, залитые бриллиантами, и те сливки экспедиционного корпуса, которым я был хорошо известен по «Паризиане».
Я был главным директором этого предприятия, а моей главной сотрудницей была Иза Кремер.
Однажды у нас был особенно парадный вечер; были французские, английские и американские адмиралы… Был почти весь штаб командующего союзными силами на Ближнем Востоке генерала Франше д’Эсперэ.
Настроения в этой среде были явно монархические, по крайней мере по отношению к России. Эти оговорки необходимы для уяснения дальнейшего.
По требованию публики оркестр исполнил русский гимн. Все встали, как один человек. Все, за исключением Изы Кремер. Она демонстративно продолжала сидеть.
Ко мне подходит французский полковник, весь в орденах, и с возмущением заявляет:
– Как вы допускаете это? Как смеет эта дама сидеть, когда слушают гимн стоя, все, до высших чинов нашей армии и флота!
Я был и без того накален бестактным поведением Изы Кремер, а вполне резонное замечание французского офицера подлило еще масла в огонь. Я подошел к Изе Кремер и сказал:
– До ваших политических убеждений мне нет никакого дела, но хотя бы потому, что вы являетесь сотрудницей этого предприятия, вам следовало встать, чтобы не быть объектом возмущения всех наших гостей.
И, наконец, если уж вам так неприятен русский гимн, вы могли незаметно уйти. До сих пор я отказывался верить, что в Одессе, во дни большевиков, вы пели в местной чрезвычайке, одетая во все красное, но после того, что произошло, я не сомневаюсь, что это было именно так!..
Иза Кремер начала мне что-то возражать, сейчас уже не помню, что именно, я не сдержался и резко потребовал:
– Сейчас же, сию минуту потрудитесь покинуть зал.
Мое требование было немедленно исполнено. Прошло много лет, и я ни на один миг не жалел о моем поступке, хотя тогда же, в Константинополе, он мне дорого обошелся. Читатель увидит, как и почему наше предприятие в особняке щедрого паши прекратилось самым неожиданным образом. Наш благодетель скоропостижно скончался где-то на благодатной французской Ривьере. Наследники паши, а таковых оказалось несколько, совсем не склонны были продолжать его меценатскую затею и с восточной деликатностью, но вполне твердо просили очистить особняк. Я попытался было заикнуться, что теперь мы настолько уже окрепли, что можем оплачивать помещение, но и это не имело никакого успеха. Пришлось эвакуироваться в ударном порядке, как говорят большевики, и устремить свои взоры на поиски чего-нибудь нового.
Увы, это было не так легко. Все лучшие места были уже разобраны, расхватаны, никуда не приткнешься, и надо было превратиться в ресторанного Колумба, дабы открыть что-нибудь совсем неведомое, а затем это неведомое приспособить в надлежащем смысле.
За городом, вернее, почти за городом, ибо это уже окраина, пересекаемая длинною улицею Шишли, процветал негр Томас со своею «Стеллою». Этот уголок привлекал кутящую публику и делал хорошие дела.
Кстати, Иза Кремер, уйдя от меня, начала выступать у Томаса. Невдалеке от «Стеллы», поближе к центру, имелся маленький полусад, полупустырь, прозябавший самым жалким, самым бесславным образом. И вот его-то я с Настей Поляковой взяли в аренду. Закипела работа.
Ближайшими моими помощниками были многоопытный в этом деле и вообще на все руки талантливый Александр Семенович Полонский и художник Непокойчицкий. В результате из поганого пустыря мы сделали петербургский летний «Буфф» в миниатюре. Выросли легкие, изящные павильоны, киоски, дорожки были усыпаны каким-то необыкновенным гравием.
Весь сад так ослепительно был залит электричеством, что над ним стояло багровое зарево, видимое издалека. У подъезда – шесть дуговых фонарей, в буквальном смысле слова небо пылало заревом. Потускнела томасовская «Стелла». Вся трагедия была в том, что публика, направляющаяся в «Стеллу», недоезжая, заворачивала к нам, в «Стрельну», и у нас уже бросала якорь.
На амплуа гарсонов у нас были светские и титулованные русские дамы; не потому, что мы к этому стремились, а так выходило случайно.
Мы процветали, больше чем процветали – блаженствовали. Даже некоторые хозяйственные недочеты и упущения не могли особенно поколебать наших доходов. А недочеты сводились главным образом к тому, что заведование баром не находилось на должной высоте. В заведующие я взял Мейендорфа, высокого мужчину с довольно резким и носатым профилем, а в помощники к нему приставил моего многолетнего друга и аккомпаниатора – Сашу Макарова, ныне покойного, Царство ему небесное! Но вот уже не знаю, кто кого научил – Саша Макаров Мейендорфа или Мейендорф Сашу Макарова, но только они решили, что гораздо выгоднее, по крайней мере для них, торговать своими напитками и деньги класть в свой карман, а мое вино стояло нетронутым. Но, повторяю, даже эти комбинации не могли свалить нас, свалило нас другое.
Оккупационная жандармерия и полиция установила предельный час для торговли в ночных ресторанах, варьете и барах. За нарушение этого правила налагали взыскания и кары. Это в теории, на практике же если и не всегда, то довольно часто можно было найти обходную лазейку. У нас, хотя обходных лазеек и не было, но, полагаясь на наше отечественное авось, мы не особенно строго соблюдали предельный час… И сплошь да рядом он затягивался до белого дня.
И вот на нас последовал донос. Мне передавали, будто это произошло не без участия Изы Кремер, которая в это время выступала у нашего конкурента – в ресторане Томаса «Стелла». Если это так, то весьма возможно, это была личная месть мне за скандал во время исполнения гимна.
В итоге нас закрыли на восемь дней – это было равносильно полному разгрому. Превосходно вертевшееся колесо остановилось, замерло. Все те веселящиеся компании, которые направлялись к нам, увидев, что у нас глухо и пусто, по инерции попадали в гостеприимные объятия «Стеллы».
Правда, нас любили, нам сочувствовали, но от этого нам не было легче.
Стараясь сохранить лицо, мы объясняли гостям, что у нас ремонт, что мы готовим нечто изумительное – весь Константинополь ахнет, но и эта невинная ложь практически ничего не давала. Хотя не совсем ложь. Мы действительно готовили нечто изумительное, и вправду ахнул весь Константинополь, но даже и это не могло покрыть наших убытков.
Мы долго и тщательно готовились к постановке «Прекрасной Елены» с новыми, чисто рейнгардовскими трюками. Елену-Пионтковскую выносили в паланкине чернокожие рабы, и это не были статисты, вымазанные сажею, а настоящие колоссального роста негры и нубийцы. Агамемнон выезжал на ослике, а Менелая-Полонского вносил на сцену турецкий грузчик-«хамал». Если прибавить к этому два оркестра музыки, кордебалет и хор, оригинальную постановку, действие в публике, при эффектном освещении прожекторов, красочность костюмов, то будет понятен ошеломляющий успех «Прекрасной Елены». Это был наш последний луч солнца, погасший в густых, зловещих тучах, скопившихся над нашими головами.
Нашей тяжелой, надгробной плитою оказался прозаический подоходный налог. Турецкие чиновники, ведающие налогами, пользовавшиеся ежедневным нашим широким гостеприимством, все время уверяли нас, что подоходный налог – лишь буква закона, не более, и что нам платить в турецкую казну ничего не придется – они, чиновники, позаботятся об этом. Мы легкомысленно верили им.
И вот в одно скверное утро я получил повестку с требованием в кратчайший срок уплатить подоходный налог в размере 5000 турецких лир! За неплатеж – изволь садиться в тюрьму! Чудесный народ турки, но ужасны их тюрьмы. Перспектива очутиться в одном из этих клоповников не прельщала меня нисколько, а внести 5000 лир было для меня такой же физической невозможностью, как, скажем, проглотить великолепную мечеть Айя-София.
Надо было выбирать что-то среднее между этими двумя крайностями. Я решил стремительно покинуть берега Босфора, дабы ускользнуть от ничуть не заслуженной мною тюрьмы. А то, что турецкая казна не получит подоходного налога с меня, русского беженца и греческого подданного, – право же, в этом грех небольшой для меня и еще меньший для казны. Да, кстати, мое греческое подданство усугубило бы мои тюремные страдания, ибо, как известно, турки особенной нежности к грекам не питали и не питают.
Итак, жребий брошен!
В полдень я еще завтракал у Токатлиана в обществе моих друзей и знакомых, а в час дня был уже на борту итальянского парохода «Клеопатра» и был забронирован экстерриториальностью. Мои чемоданы отправлены были еще с вечера на пароход.
Дивертисмент
Иза Кремер: «Красная Коломбина»
В далекой знойной Аргентине,
Где небо южное так сине…
Из репертуара И. Я. Кремер

Иза Кремер, вынудившая Морфесси бегством скрываться из Константинополя, была талантливой артисткой и незаурядной женщиной. Судьба ее заслуживает отдельного рассказа.
Иза Яковлевна Кремер родилась в Бессарабии. Позднее семья перебралась в Одессу. Не обладая солидным достатком, ее «бедные и не очень грамотные родители» сумели разглядеть в дочери явные способности к пению и отправили юную девушку учиться вокалу в Италию. Вернувшись в конце 1911 года на родину, зимой 1912-го юная актриса дебютирует на сцене. Но подлинный успех пришел лишь несколько лет спустя, с уходом из оперного театра и началом сольной карьеры на эстраде. Она прославилась как исполнительница легких жанровых вещиц – «музыкальных улыбок». Ее творчество перекликается с «печальными песенками» Вертинского. Подобно Александру Николаевичу Иза Кремер часто являлась и автором исполняемых шансонеток, а иногда просто переводила французские, итальянские, испанские куплеты на русский язык. Даже манера исполнения была у них в чем-то схожа.
Бурные овации и восторженные крики поклонников потонули в раскатах выстрелов «Авроры» – в 1920 году певица вместе с мужем отплыла в Константинополь.
«Почему Кремер покинула родину? – задается вопросом известный советский импресарио И. Нежный. – Для меня такой шаг явился неожиданностью. Мне известно, что она сочувственно встретила революцию, симпатизировала новой власти. Когда в город вошли красные, Иза Кремер охотно и довольно часто выступала в клубе военной комендатуры. Больше того, она привлекала к бесплатным концертам Надежду Плевицкую и других известных актеров и актрис.
…Потом, когда Одессу снова заняли белогвардейцы и интервенты, они припомнили Изе Кремер ее общение с красными. На первом же концерте, как только она вышла на эстраду, из зала раздались выкрики: “Комендантская певичка!”,
“Ей место в контрразведке!” Но вся остальная публика буквально обрушилась на белых хулиганов и заставила их замолчать. Не посмели принять против певицы и репрессивные меры – слишком велика была ее популярность.
А Кремер не испугалась. В самый разгар белого террора, когда людей по малейшему подозрению хватали и расстреливали прямо на улицах, она совершила смелый и самоотверженный поступок. Однажды Иза Яковлевна встретилась на улице с бывшим красным военным комендантом города и порта Сановичем.
Он был в штатском, так как скрывался от преследовавших его контрразведчиков. Кремер сразу же узнала Сановича и поняла, что его преследуют. Не растерявшись, она быстро отвела его к себе на квартиру и прятала там, несмотря на то что это было сопряжено с большим риском. Когда же белогвардейский разгул несколько приутих, она помогла ему перебраться в безопасное место и тем самым спасла жизнь красному коменданту Одессы.
И все же Иза Кремер уехала из России… По-видимому, решающую роль тут сыграло влияние ее первого мужа – бывшего редактора “Одесских новостей” Хейфеца…»
Как складывалась карьера Изы Яковлевны в Стамбуле, нам уже известно из строчек Баяна русской песни.
После недолгого пребывания на берегах Босфора актриса едет в турне по европейским столицам, но в середине 20-х обосновывается в США. Приятный голос и интернациональный репертуар позволяют ей стать звездой бродвейских мюзиклов. В Нью-Йорке она записала несколько пластинок с русскими песнями, которые исполняла во время многочисленных и очень успешных гастролей по всему миру.
Сохранилось воспоминание одной из зрительниц концерта Изы Кремер в Париже: «Я видела и слышала нежную, очень артистичную Изу Кремер. Она выступала в приталенном черном платье и пела “Мадам Лулу” и “Черного Тома”. Это было в зале Гаво, в Париже, и концерты собирали много народу. Иза была среднего роста, слегка полноватая, носила глубокое декольте».
В 1923 году, несмотря на антисемитские выступления и даже звучавшие в ее адрес угрозы смерти, Иза Кремер дала концерт для евреев Варшавы. В 1933 году она приехала в Германию, чтобы выступить в Обществе еврейской культуры. Кроме того, певица дала множество концертов в поддержку испанских республиканцев.
В 1934 году, во время своего очередного турне по Южной Америке, Иза познакомилась с Грегорио Берманном, педагогом по профессии и социалистом по убеждениям. Девять лет спустя они поженились.
В 30-е и 40-е годы американским импресарио Изы Кремер был Сол Юрок, устраивавший гастроли в Америке самого Ф. И. Шаляпина. (Кстати, сочувствовавший коммунистам Юрок лично передавал Шаляпину письмо от советских властей с предложением вернуться в СССР.)

В США на фирме певца Севы Фулона Seva records вышли пластинки Изы Кремер – популярные песни на еврейском языке.
Во время Второй мировой войны в Аргентине, где правительство тайно поддерживало нацистов, Кремер давала концерты, сбор от которых шел в пользу союзников.
Из-за своей весьма активной общественной деятельности супруги пострадали: Берманн потерял работу, а Изу отлучили от больших залов. Но они остались верными своим идеалам мира и справедливости. Иза Кремер передавала средства от своих концертов жертвам Холокоста, дала концерт в поддержку только что появившегося Государства Израиль. Все это привело к тому, что в последние годы ее карьеры певицу всячески замалчивали.
Скончалась Иза Кремер в городе Кордова, в Аргентине, летом 1956 года во время сборов к поездке в СССР.
Не успели мы еще пройти Дарданеллы, как мне пришла идея, каковую я разве только по своей скромности не назову гениальной. Учтя многочисленных нарядных пассажиров и вообще комфорт и размах, царивший на этом почти океанском пароходе, я предложил моей маленькой труппе:
– Дадим концерт и посмотрим, что из этого выйдет!
Вышло успешно и обогатило нашу тощую кассу без малого на 4000 итальянских лир. Грядущее уже не казалось таким мрачным, и даже серенький дождливый день, встретивший нас в Пирее, показался солнечным. В Пирее стало на пароходе одним высокопоставленным пассажиром больше – это был греческий экс-король. Мы проходили узенькую ленточку Коринфского канала. С обеих сторон бежали за пароходом полунагие бронзовые мальчишки. Мы им бросали медные монеты, и они ловили их с ловкостью жонглеров…
…В Венеции мы проделывали традиционный для всех путешественников ритуал: посещение дворца дожей, кормление голубей на плаца Сан-Марко, катание на гондолах по Большому каналу. Ночью мы, скользя мимо уснувших палаццо, пели цыганские романсы, и так как в это время все это было еще ново в Венеции, наша цыганщина производила сенсацию.
Но еще большую сенсацию произвел я с одним моим другом, полковником. Зашли мы в бар, наполненный гостями. И явилась нам озорная мысль перепробовать все ликеры, имевшиеся в буфете. Каждый из нас выпил по 20 рюмок густой, маслянистой жидкости всех вкусов, цветов и оттенков. Это произвело потрясающее впечатление и на хозяина, и на весь персонал, и на публику. Нас провожали с поясными поклонами, и за нами долго следовал хвост из нескольких десятков любопытных. Мало этого, когда на другой день мы скромно ели мороженое на площади св. Марка, под портиками кафе Флориана, которое за триста лет никогда, ни на один день не запиралось, вокруг нас собралась толпа, привлеченная теми, кто накануне был свидетелем нашего подвига в баре.
Следующий наш этап – Вена. В австрийской столице нам не повезло, что я и предвидел. Были переговоры с дирекцией Большого театра.
Нам дали дебют. Пришелся он как раз на православную нашу страстную субботу. Я уговаривал моих коллег, убеждал, что в этот день нельзя петь, а если мы выступим, ничего хорошего нам это не принесет. Я оказался в одиночестве, все остальные были за дебют. Скрепя сердце я должен был покориться. И получилась неудача. Самый дебют прошел неплохо, но с дирекцией вышли трения, контракт не был подписан. Других предложений не было, и мы уехали в Прагу. Там дела пошли бойчее.
Мы с успехом выступали в ресторане «Златни гусли». Но вот подоспела большая полувыставка, полуярмарка, где мы отважились выступить независимо ни от кого, а своей собственной антрепризою.
Мы сняли балаган и в таком же балаганном духе начали свои концерты. Мой друг полковник зазывал гостей. Брали мы по две и по три кроны. Публика валом валила. Антрактов не было, одна программа сменяла другую. Не успевали мы кончить, зрительные места балагана очищались, наполнялись вновь, и начинался очередной сеанс. Чистого искусства в этих ремесленных выступлениях было немного, но зато был материальный успех, столь необходимый ввиду полной неопределенности дальнейшего.
Весть о наших лаврах в деревянном пражском балагане докатилась до Парижа, и мы получили выгодный контракт от бывшего русского офицера, который держал на улице Комартен ресторан «Тройку», впоследствии перенесенный куда-то на Монмартр.
После патриархальной чешской столицы Париж ослепил, оглушил и очаровал нас. Да и в «Тройке» была совсем другая публика. В то сравнительно далекое время было еще много богатых русских, и дамы первых рядов сверкали такими бриллиантами, что, если бы их собрать воедино, можно было бы на вырученные деньги освободить Россию от большевиков…
Глава XIII
МОЯ ПЕРВАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА С ГРИГОРИЕМ РАСПУТИНЫМ. ЕГО САМОЗВАНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СИМАНОВИЧ. ПОЕЗДКА ПО СИБИРИ. КИТАЙСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. В ЧАЙНОМ ДОМИКЕ
Распутин во дни его наибольшей популярности заинтересовал собою все круги петербургского общества и даже те, которые до самого последнего времени с ним не соприкасались да и не имели ни желания, ни практической выгоды соприкасаться.
Я разумею артистические круги – художников, певцов, журналистов, актеров. Но и здесь произошел сдвиг. Этот мужицкий сфинкс, полуюродивый, полусектант, заинтересовал многих из нас. Светские и полусветские дамы, известные прямой и относительной близостью к Распутину, устраивали обеды и на эти обеды, вернее, на «старца», приглашали литераторов и артистов.
На один из таких обедов приглашена была целая группа: неизменные Аяксы – актер Ходотов и пианист Вильбушевич, гармонист Рамш, танцовщик Шурка Орлов, еще несколько человек и я.
Хозяйка дома, по происхождению полугречанка, была очень горда тем, что может показать нам Распутина. Я приехал вместе с Ходотовым, и первым нашим впечатлением был этот «виновник торжества». В гостиной, в тесном соседстве нескольких дам, сидел тот, чье имя широко было известно не только в России, но и за границей. Длинные, густо напомаженные или намасленные волосы не производили особенно приятного впечатления, как, впрочем, и вся фигура знаменитого старца. Жиденькая борода, крупные, словно топором вырубленные черты и маленькие, пытливые глазки. Одет он был в поддевку поверх малиновой косоворотки, а плисовые штаны были заправлены в высокие сапоги. При ближайшем рассмотрении ногти Распутина оказались обведенными траурной каймой. Внешний облик не располагал к себе, и не было никакого желания подойти к Григорию Ефимовичу, как заискивающе величали его здесь. Мы с Ходотовым держались в стороне.
Заметил это Распутин, несколько минут наблюдал нас исподлобья. Ходотов отвечал ему не особенно ласковым взглядом. Старцу, избалованному всеобщим поклонением, это не понравилось. Цепко и легко для своей с виду неуклюжей фигуры сорвавшись с места, он такой же цепкой и легкой походкой приблизился к нам, вернее, к Хо-дотову, и спросил его:
– Что ты на меня так нехорошо глядишь? Видно, я не по сердцу тебе, не любишь меня?
Ходотов, пожав плечами, сухо ответил:
– Что я? Тебя вся Россия не любит.
У Распутина что-то дрогнуло в лице, и, насупившись, он отошел. Но недолго тянулось его мрачное настроение. За обедом ему усердно подливали красного вина, и он так же усердно пил стакан за стаканом. Ел он весьма неаппетитно, гораздо чаще прибегая к помощи пальцев, нежели к помощи вилки.
И здесь были его поклонницы, но присутствие посторонних несколько сдерживало этих дам. По словам очевидцев, на строго интимных обедах поклонницы в каком-то благоговейном экстазе облизывали и обсасывали руки Распутина, запачканные в рыбном или говяжьем соусе. Обед кончен. Рамш, взяв гармонию, с виртуозной лихостью начал исполнять плясовую. Зажженный этими звуками изящный и ловкий Орлов, одним прыжком очутившись на столе, пустился в «русскую». Это подзадорило Распутина, и он, разогретый вином, ринулся вприсядку. Это был обыкновенный мужицкий пляс, но с несомненным придатком особенной волевой силы, мало-помалу перешедшей в хлыстовское радение. И чем дальше, тем больше от жестикуляции старца веяло такой откровенной эротикой, что делалось омерзительно. Я поспешил незаметно уйти. Это была моя первая и последняя встреча с фатальным Григорием Ефимовичем. Впрочем, она могла бы быть далеко не последней, но я сознательно уклонялся от приглашения в те дома, где мог с ним встретиться.
От Распутина вполне понятен и логичен переход к его личному секретарю Симановичу.
Разумеется, это секретарство было мифическое и вполне самозваное. Зная, что около старца легко поживиться и на его имени легко играть, Симанович назвался его секретарем.
Что такое Симанович?
Прежде всего мелкий клубный игрок, выражаясь клубным языком, «сидящий на швали». Потерпев поражение на карточном поле, он решил вознаградить себя, эксплуатируя возможности и связи Распутина. Оседлав безграмотного мужика, Симанович преуспевал, выдумывая и осуществляя один гешефт за другим. Он устраивал оргии, на которых опьяневший Распутин делался в его руках послушным и слепым орудием.
Если бы Симанович на этом и закончил свою карьеру, это бы еще с полгоря, мало ли таких, как он, не стоило бы о нем и вспоминать. Но в том-то и дело, что он осмелился выпустить свои «Мемуары»…Трудно выдумать более дурной тон, чем язык этих воспоминаний. «Не по Сеньке шапка», можно сказать по адресу этого мемуариста.
А вот где оказался Симанович в своей родной стихии, это в роли импресарио дочери Распутина Марьи Григорьевны. Он возит по всему свету эту неуравновешенную, странную особу и показывает ее на подмостках разных кафешантанов и варьете. Все ее номера и скетчи – тенденциозное унижение бывшей императорской России. В одном из таких скетчей Распутина появляется в царской короне и с кнутом в руках, что должно символизировать «кровавую тиранию самодержавия». Меня удивляет равнодушие эмигрантской печати ко всей этой гнусности вместе с вдохновителем ее – Симановичем.
Был 1917 год. Была керенщина. Я надумал большую сибирскую поездку с целым рядом концертов, начиная с Вологды и Перми и кончая Владивостоком.
Я с моей труппою занял ряд купе в спальном вагоне сибирского экспресса. До Екатеринбурга все шло благополучно. Вернее, какая-то видимость благополучия. Никто не врывался к нам, но эта угроза висела над нами, и вообще мы чувствовали себя во власти анархии, быть может, временно и случайно притаившейся.
…Чем дальше, тем ярче сказывались завоевания революции. Битком набиты были шинельной чернью все вокзалы и станции Сибири. Эти орды останавливали движение, атаковали поезда. Узнав, что какой-нибудь пассажирский поезд идет раньше, они устремлялись к этому поезду, выламывая окна и двери, терроризируя платных пассажиров и бесчинствуя вовсю. Пассажиру, мало-мальски прилично одетому, рискованно было выйти на станции. Какой-нибудь агитатор сейчас же науськивал на него серую массу.
Так было и со мною в Омске. Чернобородая каналья, увидев меня, завопила:
– Товарищи, смотрите, в каких шубах ходят буржуи, а наш брат трудящийся…
И пошел, пошел!
Я видел вокруг себя искаженные ненавистью физиономии и насилу пробился в вагон сквозь гущу нафанатизированной чернобородым толпы.
Единственным утешением и моральным подспорьем был тот успех, которым мы пользовались повсюду, где только давали свои концерты. Переполненные залы, овации и широченное, чисто сибирское гостеприимство.
Благодатная Сибирь еще не успела вкусить всех прелестей переворота с его голодом и разрухою. Проделав весь сибирский путь, я убедился, как чудесно поставлена была реклама граммофонного общества His master's voice, законтрактовавшего меня на целую серию пластинок. Все станции до самых маленьких и глухих включительно заклеены были большими моими портретами.
…А когда мы очутились в Маньчжурии, она показалась нам раем, до того напоминала мирные и безмятежные времена. Уклад жизни был самый дореволюционный, и вдобавок с подневольного сухого режима мы сразу перешли здесь на мокрый. Алкоголь, запрещенный в европейской и азиатской России, здесь имелся и продавался в неограниченном изобилии. Помню, какое ошеломляющее действие это произвело на моего пианиста Карлина. Не успели мы остановиться в одном из харбинских отелей, как пианист забегал по коридорам, неистово вопя по адресу китайцев-слуг:
– Водки, ходя, водки!
И на радостях напился до бесчувствия.
Дешевизна в Харбине была анекдотическая. Я дал моему лилипуту-мажордому Николаю Сурину рубль с тем, чтобы он накупил всякой всячины.
Он вернулся перегруженный пакетами, купив бутылку водки, хлеба, соленых, консервных и мясных закусок, еще чего-то и к довершению принес еще около 30 копеек сдачи. Вообще Маньчжурия пленила нас красочностью и необычайностью всего, что мы увидели. До сих пор я только в оперетках видел гейш, и китайские фонари, и рикш, этих двуногих лошадей, а здесь мы посещали чайные домики с гейшами, передвигались на рикшах, и цветные бумажные фонарики сообщали какую-то особенную декоративность и маньчжурской улице, и маньчжурской ночи.
…При посещении чайного домика с гейшами мы должны были снять обыкновенную обувь и надеть деревянные туфли. Это оказалось не особенно любопытным зрелищем. Мы застали несколько гейш, в кружок сидевших на циновках, раскачиваясь, они пели что-то свое под аккомпанемент струнного инструмента с длинным грифом, имеющим отдаленное сходство с национальным кавказским инструментом тари. Нам подали чай, а затем алкогольный напиток, зовущийся саки и не лишенный привкуса водки самой обыкновенной, но цвета зубровки, вдобавок теплый. Теплая водка – это совсем по-китайски.
На другое утро меня начала одолевать жажда, я выпил два стакана воды и сразу охмелел. Оказалось, что именно таково свойство саки: стоит выпить ее накануне, а на другое утро выпить воды – опьянеешь. С Дальнего Востока мы думали перекинуться в Японию и там дать несколько концертов, но план этот мы не осуществили, получив из Петербурга телеграмму о падении Временного правительства и торжестве большевиков. Забыв про Японию, мы поспешили в Петербург спасать свои квартиры, свое имущество.
Как милый курьез купил я в Маньчжурии несколько маленьких мешочков с новенькими серебряными пятиалтынными японской чеканки. Меня прельстило своей оригинальностью то, что это была, как теперь говорят, продукция не русской столицы, а японской. Монеты ничем не отличались от чеканки петербургских, с тою лишь разницею, что эти пятиалтынные под русским государственным гербом снабжены были знаком восходящего солнца. Я эти мешочки вспоминаю с особенным умилением. Как и всем моим остальным добром, ими воспользовались большевики, и по каким-то комиссарским рукам теперь гуляют эти маленькие серебряные монетки с российским двуглавым орлом, на смену коего пришел серп и молот. Грустно и тяжело вспоминать все это…
Глава XIV
КАК Я СТАЛ ЭСТРАДНЫМ ПЕВЦОМ. БОЙ НА НЕВСКОМ ПРОСПЕКТЕ. КАВКАЗСКИЙ ПОГРЕБОК, ИЗДАТЕЛЬСТВО ДАВИНГОРФ И ПЛАСТИНКИ «ГОЛОС СВОЕГО ХОЗЯИНА». НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БОКС С Ф. И. ШАЛЯПИНЫМ
Вот уже моя книга подходит к концу, а я до сих пор еще не рассказал, как из оперного и опереточного премьера я сделался эстрадным певцом, заслужил популярность и дорогое мне звание – Баян русской песни…Впервые исполнил я на эстраде русские народные песни в Одессе. Я только что встал после жестокого воспаления легких. Пользовавший меня врач строго-настрого запретил мне возвращаться в оперетту. Врач был опытный, серьезный, не верить ему я не мог, и пришлось серьезно задуматься: как же быть дальше? Жить без сцены я не мог – я отдал ей всю свою молодость, сжился, сроднился с нею. С тоскою смотрел я в будущее. Мелькнула было мысль: сделаться эстрадным певцом, который может петь не утомляясь, беречь себя, но только мелькнула и расплылась, как облачко в небесной лазури. Для концертной эстрады нужны деньги хотя бы на гардероб, а болезнь унесла с собою все мои сбережения…
В одну из таких тоскливых минут зашел ко мне мой приятель Розен-блит, и я поведал ему все свои невеселые мысли – мечты о карьере певца русских народных песен как единственном выходе из создавшегося трудного положения.
– Так в чем же дело, – воскликнул он, – будешь эстрадным певцом, будешь давать концерты, петь русские песни. Отлично!..
– Да, друг мой, но мне не на что даже сшить себе поддевку.
– Что такое поддевка? Сшей себе сразу пять. Я тебе дам триста рублей. Довольно?
С этих трехсот рублей и началось. Еврей Розенблит помог мне создать новый жанр национальной русской песни своими деньгами, а другой еврей, Резников, сшил мне мою первую национальную русскую поддевку. Как раз в это время пришли ко мне студенты с просьбою участвовать в их благотворительном концерте. Я засел за пианино и как следует разучил несколько песен: «Ну быстрей летите, кони», «Пожар московский», «Понапрасну, мальчик, ходишь» и др. Настал день концерта. Не без трепета надел я свою новенькую поддевку и вышел на эстраду. Но после первой же песни я понял, что успех обеспечен, распелся, зажег публику и потом много, по ее требованию, бисировал!.. Новая моя карьера началась блестяще и обещала мне и моральное, и материальное удовлетворение. И мое предчувствие не обмануло меня.








