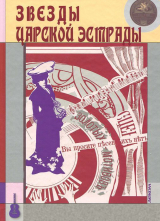
Текст книги "Звезды царской эстрады"
Автор книги: Максим Кравчинский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Шаляпин с удовольствием слушает в русских ресторанах Парижа и Берлина известных ему по России эстрадных знаменитостей и перенимает у них цыганские новинки. С Морфесси Шаляпин был знаком еще по Петербургу. Как директор артистического кафе “Уголок” Морфесси приглашал его к себе на вечера. Именно из его репертуара Шаляпин перенимает такие романсы, как “Вы просите песен”, “Дни за днями катятся”, “Искорки пожара” и др. Условия эмиграции заставили и Шаляпина терпимее относиться к русским певцам эстрадного жанра и даже ощутить с ними некую общность, независимо от их амплуа и высоты полета. Когда в Бухаресте он слушал Петра Лещенко или Константина Сокольского, он радовался успеху русской песни и романса. С жаром жал руки своим эстрадным коллегам и говорил: “Русская песня – это знамя, несите знамя русской песни!”»[27]
Эмигрант первой волны В. А. Серебряков оставил воспоминания о концерте великого артиста в Шанхае в 1930-х годах: «…На банкете Шаляпин осчастливил всех присутствующих импровизированным концертом. Среди ужина Шаляпин встал и крикнул: “Пашка, выкатывай!” Тут же появился рояль, и Шаляпин, будучи уже немного навеселе, начинал петь. В ходе банкетного выступления, видимо, по устоявшейся традиции Годзинский начал “Очи черные”, но Шаляпин остановил, попросил другую тональность и с большим жаром спел эту вещь. Последней вещью этого концерта стала “Две гитары”. Видно было, что и певец испытывает от них громадное удовольствие».
«Еще в 1922 году Шаляпин пришел к простой мысли, что главное – как петь, а не что петь», – заканчивают главу о творческих исканиях артиста в эмиграции Уколовы. «Лучше хорошо петь цыганские романсы, чем плохо – классические», – такие слова якобы звучали из уст певца в адрес критиков.
Антракт
Русская песня на Монмартре
Интерес ко всему русскому в послереволюционные годы беспримерно велик в мире. Реагируя на спрос, оживляются представители различных видов искусств, способных отразить пресловутый «русский дух». Европейцы азартно увлечены нашим балетом, кинематографом, театром, литературой, живописью, музыкой. На этой волне в 1922 году открывается в Париже, на улице Пигаль, первое «русское кабаре» «Кавказский погребок». Пройдет каких-то пять-семь лет, и таких «погребков» расплодится великое множество.
Историк российской эмиграции С. С. Ипполитов отмечает, что общественное питание стало главной отраслью российского бизнеса во Франции середины 1920-х годов.
В 1924 году в столице были уже известны рестораны: «Русь», «Волга», «Хлеб-соль», «Москва», «Русский уголок», «Тройка», «Ванька-Танька», «Золотая рыбка», «Нет».
В эмигрантских газетах ежедневно публиковались «вкусные» объявления. «Где в Париже можно хорошо поесть? Выбирайте сами и в любом случае останетесь довольны – рестораны “Аллаверды” (Монпарнас), “Мартьяныч” (пл. Клиши), “Русский Эрмитаж” (рю Босси)».
Или:
«Ресторан Федора Корнилова (рю Клозель). Лучшая в Париже кухня под наблюдением самого хозяина. Изысканные русские блюда: “Царский студень”, “Солдатские щи”, “Глухари в красной капусте по-московски”. Ежедневно блины со свежей паюсной икрой. Большая артистическая программа с участием несравненного Юрия Морфесси. С гитарой – С. Массальский. Песни старой Москвы».
К началу 30-х численность ресторанов еще больше выросла. Эмигранты открывали заведения разных ценовых категорий – от солидных и дорогих заведений до дешевых столовых-забегаловок.
«В Биянкуре (пригород Парижа в 20-е гг. – М. К.) была улица, где сплошь шли русские вывески и весной, как на юге России, пахло сиренью, пылью и отбросами. Ночью шумел, галдел русский кабак. Он был устроен как отражение кабака монмартрского, где пел цыганский хор, или еще другого, где плясали джигиты с перетянутыми талиями, в барашковых шапках (в те годы входивших в моду у парижанок и называвшихся “шапка рюсс”), или еще третьего, где пелись романсы Вертинского (пока он не уехал в Советский Союз) и Вари Паниной, пелись со слезой и разбивались рюмки французами, англичанами и американцами, которые научились это делать самоучкой, понаслышке, узнав (иногда из третьих рук) о поведении Мити Карамазова и Мокром.

Кавказский танец в русском ресторане-кабаре «Шахерезада» в Париже, ок. 1930 г. Фото из архива А. Корлякова
Тут же на столиках с грязными бумажными скатертями стояли грошовые лампочки с розовыми абажурами, треснутая посуда, лежали кривые вилки, тупые ножи. Пили водку, закусывали огурцом, селедкой. Водка называлась “родимым винцом”, селедка называлась “матушкой”. Стоял чад и гром, чадили блины, орали голоса, вспоминался Перекоп, отступление, Галлиполи.
…Безработный джигит в отставке шел вприсядку во втором часу ночи, пышногрудая, в самодельном платье с блестками, певица с двумя подбородками выходила к пианино, у которого сидел cтapый херувим, видавший лучшие времена. Она пела “Я вам не говорю про тайные страданья”, и про уголок, убранный цветами, и “Звезду”, текст которой, между прочим, взят у Иннокентия Анненского. Она тоже пела, как романс, стихотворение Блока “Она как прежде захотела”, переложенное на музыку, вероятно, не кем иным, как старым херувимом, и четыре строчки Поплавского, которые вкраплялись в “Очи черные”:
Pecторан закрыт, путь зимой блестит,
И над далью крыш занялся рассвет.
Ты прошла, как сон, как гитары звон,
Ты прошла, моя нeнaглядная!
Потом выходила Прасковья Гавриловна. Ей уже тогда было под шестьдесят. На ее строгом, темном лице еще горели глаза. Истрепанный платок закрывал ее плечи, ситцевая юбка в цветах ложилась вокруг худых колен. Она когда-то пела у “Яра”, в “Стрельне”, и ее подруги сейчас допевали на Монмартре, на Монпарнасе, выпестовав свою цыганскую смену. У Прасковьи Гавриловны голоса больше не было, она не годилась туда, где шампанское было обязательно, где у входа стояло ваше превосходительство с веером расчесанной бородой (не то пермский, не то иркутский губернатор). Она годилась только здесь… Она больше бормотала, чем пела, она хрипела иногда почти шепотом, сидя между двумя “цыганами” (армянином и евреем), которые наклонялись к ней с гитарами. Да, она была теперь здесь, а Настя Полякова, Нюра Массальская, Дора Строева были там, где румыны со своими смычками, свежая икра и крахмальные салфетки»[28].
В парижских кабаре и ресторанах экстракласса, «где свежая икра и крахмальные салфетки», обрели поначалу пристанище кумиры: Юрий Морфесси, Александр Вертинский, Надежда Плевицкая, Михаил Вавич, получившие признание еще в дореволюционный период.
«Они представляли собой эстрадную элиту, известность которой простиралась много дальше локальной географии выступлений. Но были и такие исполнители, популярность которых ограничивалась несколькими ресторанами, в которых они работали. Это также были профессионалы, пусть даже ставшие таковыми нежданно-негаданно для самих себя. К примеру, Н. А. Кривошеина рассказывает о певице Лизе Муравьевой, происходившей из семьи богатых саратовских помещиков Юматовых. В Париже она зарабатывала на жизнь исполнением цыганских и русских романсов».
Гайто Газданов в повести «Ночные дороги» создал яркий портрет самодеятельного артиста Саши Семенова, в прошлом штаб-ротмистра конной батареи, переквалифицировавшегося в ресторанного шансонье после «галлиполийского сидения».
«Все, что он пел, всегда звучало одинаково минорно, независимо от слов, и в голосе его дрожала густая и, как говорили, его поклонницы, незримая слеза. Свою жизнь он сравнивал с вечным круизом, совершающимся в одной и той же каюте корабля: ресторанные стены, оркестр, эстрада, те же слова тех же романсов, та же музыка, тот же шницель по-венски, та же водка».
«Корреспонденты газеты “Дни», которые вели рубрику “Русский труд за границей”, рассказывали о многочисленной армии “кабацких музыкантов”, совмещавших дневную работу на заводах с игрой в оркестре или вокалом в вечернее время. Некоторые из них благодаря такому приработку удваивали, а то и утраивали свое заводское жалованье. Однако, не считая себя профессионалами в музыке, они не торопились рвать с работой у станка. Так было надежнее.
Разумеется, владельцам ресторанов часто не приходилось выбирать: услуги профессионалов обходились бы дороже, чем выступления самодеятельных артистов…
Были заведения экстракласса, в которых абсолютно всё – от светильников и посуды до пластики официантов, не говоря уже о выступлениях артистов, – представляло собой часть театральной постановки.
Умелая режиссура охватывала все стороны деятельности. Так, приглашения на открытие ресторана «Казбек» на авеню Клиши были разосланы на екатерининских ассигнациях достоинством в 100 рублей. По рассказам знаменитой певицы Аллы Баяновой, ресторан был оформлен как духан, вдоль стен стояли диваны, обложенные разноцветными подушками; по стенам развешаны ковры, к ним приделаны полки, сплошь уставленные серебряными кубками, чашами и блюдами, которые, по словам хозяина, некогда принадлежали владетельным князьям Кавказа. Столики со стеклянными столешницами и ювелирные изделия на полках так искусно подсвечивались изнутри, что вокруг них был разлит серебряный нимб. Официанты разносили шашлыки, держа наподобие раскрытого веера по шесть-семь шампуров, на концах которых синевато горели куски ваты. Даже гурьевская каша, и та, облитая спиртом, полыхала синим огнем. Выступления артистов часто происходили не на сцене, а в зале, среди посетителей, обостряя ощущение включенности в сценическое действие.
Другой бар-ресторан, где также выступала Баянова, – “Казанова” – располагался у подножия монмартрского кладбища. Несмотря на мрачное соседство, это было самое гедонистическое заведение. Название было позаимствовано у одноименного фильма 1926 года режиссера Александра Волкова с великим актером немого кино Иваном Мозжухиным в главной роли. Интерьер заведения был оформлен в венецианском стиле: стеллажи по стенам были заставлены тонким венецианским стеклом, светящимися аквариумами…По части устройства “тысячи и одной ночи развлечений” учредителям “Казановы” не было равных. Когда постоянный гость входил в ресторан, по взмаху дирижерской палочки оркестр исполнял его любимую мелодию. В этом ресторане, как вспоминал французский ресторатор, “никто не помнил, какой нынче день, который час, но там всегда был шашлык, шампанское, все мыслимые водки, громкая музыка, а для гурманов – сырники, которые умеют готовить только русские”. В “Казанове” выступали лучшие оркестровые коллективы и лучшие певцы…
А вот еще одно заведение – “Шехерезада”. Название было связано, с одной стороны, с балетом, триумфально прошедшим на подмостках французских театров во второй “русский сезон” в Париже в 1910 году, а с другой – с русской экранизацией этого волшебного сюжета. Гости приезжали не только отведать изысканную кухню, потанцевать, но и послушать лучшие голоса – Нюру Массальскую, Ганну Мархаленко, Володю Полякова и звезду цыганско-русского романса Настю Полякову».
«…До войны в Париже был настоящий “золотой век” художественных кабаре, – с грустью в голосе рассказывала певица Анна Марли. – Таких кабаре больше не существует во Франции.
Это было как сон. Люди элегантно одевались, выступали прекрасные артисты. В “Шехерезаду” ходило много знатных англичан. Часто бывал Чемберлен, не расстававшийся со своим зонтиком. Постоянно бывал принц Уэльский Эдуард, впоследствии отказавшийся от своего королевства. С ним было связано много анекдотов.
…Знатная публика прямо-таки валила туда, а французские аристократы дневали у нас и ночевали.
Многие французы сильно подпали под русский дух и русские таланты и стали покровительствовать молодым артистам. Жозеф Кессель пропадал с цыганами ночами, пил шампанское и закусывал бокалом! Не знаю, глотал ли он стекло, но оно всегда исчезало. Довоенный Париж был смесью роскоши и тяжелой жизни. Но для нас, артистов, было большое поле деятельности в то время. Турне по Европе, балканским странам, Алжир, Лондон.
При случае, если мы хотели хорошо поужинать, то шли в ресторан “Кормилов”, еще был “Золотой колокол”, куда мы приходили после концерта, в 4–5 утра. Там собирались все русские певцы и цыгане, и начинался полный разгул. Пели мы “Замело тебя снегом, Россия”, “Калитку”, “Караван”, “Вечерний звон”, “Молись, кунак”, военные марши старой России, “Дорогой дальнею”, “Хризантемы” и все старые романсы. А потом возвращались в свои бедные квартиры – часто за город, утренним поездом, с гримом на лице и с гитарой под полою…» Заслуженную славу снискал «Большой Московский Эрмитаж». Его учредителем и директором был Алексей Рыжиков (до революции возглавлявший ресторан «Эрмитаж» в Москве).
В нем все излучало утонченную роскошь – даже мыло в туалетах было необыкновенным. Русская кухня здесь открывалась иностранцу во всем своем разнообразном великолепии… Здесь пел цыганский хор, в котором солировала все та же незаменимая Настя Полякова, плясали лихие кавказские джигиты и «зажигали» Александр Вертинский и Юрий Морфесси.
Разумеется, гвоздем программ были знаменитые артисты, на которые валом валил даже искушенный парижский зритель. Однако для того, чтобы подобрать созвездие артистов, нужно было умение продюсера, которым овладевали тогдашние мэтры ресторанного бизнеса. К примеру, Рыжиков для своей артистической труппы оборудовал в Эрмитаже специальное общежитие, больше напоминавшее шикарный отель. Артисты ежедневно приглашались на five-o-clock tea. А. Н. Вертинский имел обыкновение не только являться сам, но и приводить на поводке белого бульдога Люсю, которая усаживалась на отдельный стул напротив хозяина. Как видно, ее присутствие здесь никого не раздражало. Кроме того, поздним вечером для артистов накрывался банкетный стол, за которым они коротали время в ожидании своего выхода на сцену, поддерживая таким образом традиции братства людей искусства. Эти заведения были рассчитаны на богатых иностранцев, интересовавшихся «русской темой».
Дивертисмент
Настя Полякова: «Цыганская королева в изгнании»
…Когда она на сцене пела,
Париж в восторге был от ней.
Она соперниц не имела…
Подайте ж милостыню ей!
«Нищая» (Беранже), из репертуара Насти Поляковой

Упомянутая Морфесси Настя Полякова родилась в семье таборных цыган старинной певческой династии[29]. Начинала в хоре ресторана «Яр». Обратила на себя внимание после участия в сборном концерте с выдающимися мастерами жанра. С этого момента началась ее карьера певицы. В 21 год вышла замуж и на несколько лет оставила сцену. Вернуться на концертную эстраду Настю уговорила известная цыганская исполнительница Варя Панина. В 1911 году Настя Полякова выступила в Малом зале Московской консерватории, а в 1912 году – в зале Дворянского собрания в Петербурге. О благотворительном спектакле с Настей Поляковой, состоявшемся в зале Благородного собрания в Москве, вспоминает летописец русской эмиграции Роман Гуль.
«В молодости, в России, я любил цыганщину. Но послушать настоящих цыган живьем довелось только раз. Зато этот “раз” я навек запомнил. Было это, к сожалению, не у “Яра” и не с загулом. А был это чинный большой концерт в Благородном собрании в Москве в 1915 году всего цыганского хора от “Яра” во главе с незабываемой Настей Поляковой. Концерт давали цыгане в пользу раненных на войне солдат и офицеров, лежавших в московских госпиталях.
Как сейчас помню, чудесный зал Благородного собрания – битком. На сцену выходят “яровские” цыгане и цыганки в разноцветных, своеобразных, ярких одеяниях с монистами. А когда этот очень большой хор заполнил эстраду, под бурные аплодисменты зала, вышла и знаменитая Настя Полякова: одета в ярко-красное (какое-то “горящее”) платье, смуглая, как “суглинковая”, статная.
А за ней два гитариста – в цыганских цветных костюмах. Настя встала в середине эстрады, впереди хора, гитаристы – по бокам. И началось. Чего только Настя Полякова тогда не пела: “Ах да не вечерняя” (любимая песня Льва Толстого), “В час роковой”, “Отойди, не гляди”, “Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого”… А гитаристы на своих краснощековских гитарах (гитары все в лентах) такими переборами аккомпанировали, что закачаешься.
А потом? А потом – всего лет через семь-восемь – Настя Полякова с цыганским хором (уж не таким большим, но хорошим) пела в дорогом ночном парижском ресторане (кажется, в “Шехерезаде”). Хором управлял ее брат Дмитрий Поляков, в хору и соло пели, ей под стать, знаменитые цыганки – Нюра Массальская, Ганна Мархаленко, пел… и знаменитый Владимир Поляков, ее племянник, пели чудесные цыгане Димитриевичи. Наездами в Париже бывал знаменитый исполнитель цыганского романса Юрий Морфесси. “Правнук греческого пирата”, как он говорил о себе. Успех у него всегда бывал небывалый. Такой же, как и во всей России до революции. В России Морфесси пел даже перед государем на яхте “Полярная звезда”, за что получил царский подарок – запонки с бриллиантовыми орлами.
Еще любимцем цыганщины у русских парижан был бывший летчик Н. Г. Северский, большой друг Морфесси, сын знаменитого до революции певца. Настя Полякова концертировала во Франции, Германии, Америке – пела даже в Белом доме перед президентом Рузвельтом. Но вряд ли Рузвельт понял что-нибудь в этом “исступлении чувств» (это специальность русская, а никак уж не американская). Теперь все эти знаменитые зарубежные цыгане ушли в лучший мир… В былой России «цыганщина» жила как у себя дома. В Москве – Поляковы, Орловы, Лебедевы, Панины. В Петербурге – Шишкины, Массальские, Панковы. Сколько цыганок вышло замуж за русских дворян и купцов. Цыганское пение было на высоте. Русский эмигрант, парижанин, в былом известный театральный критик, А. А. Плещеев в книге воспоминаний “Под сенью кулис” рассказывает, как во время “загула” у яровских цыган знаменитый композитор и пианист Антон Григорьевич Рубинштейн рухнул вдруг перед хором на колени и прокричал: “Это душа поет, душа говорит! Слушайте!!! А я? Что я? Инструмент играет, а не я! Я не должен играть перед вами!”»

Настя Полякова с братьями Егором и Дмитрием
В 1920 году Настя Полякова вместе с семьей эмигрировала. О начале ее житья-бытья на чужбине мы уже знаем из рассказов Юрия Морфесси.
Впоследствии Настя осела во Франции. В 1926 году «цыганская Примадонна» с размахом отметила в Париже тридцатилетие своей артистической деятельности, на торжествах председательствовал писатель Куприн. Сохранились прекрасные воспоминания Аллы Баяновой о выступлениях цыганского хора Поляковых в парижском ресторане “Эрмитаж” в конце 20-х:
«…В Большом Московском «Эрмитаже» было очень интересно: большой цыганский хор Полякова. Солисткой была Настя. Хор всегда располагался одинаково: стулья полукругом, солистки посредине, за ними хоровые женские голоса, а сзади стояли гитаристы, солисты-мужчины и плясуны. И был такой Володя Поляков, который недавно умер в Париже – ему было 90 лет, а он еще пел. А вот в те времена, которые я вспоминаю, он был плясуном. И каким! Он выдавал такую чечетку цыганскую: с ладошками и пятками. Чудо пляска!
А Настя, значит, сидела посредине. Она всегда прятала под шалью горячую грелку. Настя страдала печенью. Черные платья, никаких ярких тряпок, никаких юбок с воланами. Шаль у всех на одно плечо, у талии стянута рукой… После выступления цыгане с чарочкой и подносом обходили зал. По-моему, Поляковы зарабатывали огромные деньги. Этот их поднос с чарочкой всегда был полон, он просто ломился от подношений».
В конце 70-х годов художник Михаил Шемякин выступил продюсером и спонсором записи единственной долгоиграющей пластинки Володи Полякова.
Известно, что помимо «Эрмитажа» Настя пела в кабаре «Голубой мотылек» на Монмартре и в других известных всему Парижу популярных клубах.
«В “Шехерезаду” приезжали со всей Франции, чтобы послушать знаменитую певицу с хором, где пели не менее замечательные цыганки: Нюра Массальская, Ганна Мархаленко. Настя была смуглая, статная. Я помню и ее, и Нюру еще по Болгарии, такую прекрасную, что мой брат Кирилл не устоял и потерял с ней свою невинность. В этот раз я заметил, что обе выглядели значительно старше своих лет, много пили в силу необходимости поддерживать компанию с поклонниками их искрометного таланта»[30].
С началом Второй мировой войны Настя с мужем, который был евреем, перебрались в Северную Америку. Певица начала выступать в ресторане «Корчма». Супруг Насти Илья занимался ювелирным делом. Однажды, работая над очередным изделием, он укололся и умер от заражения крови. Анастасия Алексеевна осталась совсем одна и практически без средств к существованию.
«Петь, как прежде, Настя Полякова больше не могла, она уже не пела романс за романсом весь вечер, а была в силах позволить себе исполнить только две вещи – “Меня ты вовсе не любила” и “Вдоль по улице”. И хотя два этих номера считались относительно легкими для исполнения, генная гениальность Поляковой, особенно колорит ее пения и душевная интонация, были настолько мощны, что зал безумствовал.
“Как Настя пела, этого нельзя передать словами, – вспоминала певица Маруся Сава. – Ведь она была уже очень пожилой. Старая, полная женщина… Но когда она начинала петь, то рождала такой волшебный мир, что слушающие забывали обо всем на свете”.
…Но вскоре ресторан “Корчма” закрылся…Дошло до того, что великая Настя Полякова стала искать хоть какую-то работу по объявлениям в газете»[31].

Владимир Поляков (1887–1985) – ресторанный певец, племянник Насти Поляковой
Ее взяли к себе домработницей знакомые эмигранты. Взяли, скорее, из жалости и любви к ее таланту.
Через некоторое время постаревшую звезду разыскал ее горячий поклонник, эмигрант из России Карл Фишер, очень преуспевший в Чикаго.
Он поддерживал любимую артистку до конца ее жизни, но помощь его пришла слишком поздно…
Певица Настя Полякова скончалась в нью-йоркском госпитале от болезни почек осенью 1947 года. С ней ушла эпоха…
Глава XV
ДВЕ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ
В 1922 году я приехал в Берлин. Остановился в отеле «Эксельсиор», дал несколько концертов, прошедших с большим успехом. Этот успех привлек внимание известной антрепренерши Мери-Бран. Странное существо! Полумужчина, полуженщина. Во всяком случае мужского «начала» было в ней больше, чем женского; и одевалась она скорее по-мужски, и склонность имела к молодым блондиночкам с нежной белой кожей.
Мери-Бран законтрактовала меня на Данциг и на модный польско-немецкий курорт Цопот. Я уже собирался в путь-дорогу – звонок. Снизу какой-то незнакомец (он так и не назвал себя) просит разрешения увидеть меня. Получив таковое, поднялся ко мне в номер. И хотя он знал, что он у меня и перед ним я, однако для большей уверенности полюбопытствовал:
– Вы господин Морфесси?
– Да, я.
– Можно у вас отнять полчаса?
– Смотря для чего…
– Один ваш старый знакомый очень хотел бы вас видеть и прислал за вами автомобиль.
– Кто же это?
– Разрешите сделать вам сюрприз, – уклонился посетитель от прямого ответа.
– В таком случае я приеду с дамой. Это ничего?
– О, сделайте ваше одолжение!
Я вышел с моей знакомой артисткой Бэлочкой. У подъезда нас ждала открытая машина, умчавшая нас в отель «Эспланад». Входим в лифт; выходим. Лакей распахивает дверь дорогого апартамента. Нас встречает увядшая дама, любезно произносит несколько английских фраз. Убедившись, что мы не говорим и не понимаем по-английски, переходит на очень ломаный русский язык. Откуда-то из глубины появляется еще такая же приблизительно дама. А минуту спустя из глубины апартамента выходит совсем молодой человек в цилиндре, во фраке и в легком черном пальто с пелериной.

Есенин и Дункан
Довольный собой, развязный, спрашивает меня:
– Вы не узнаете меня? – И, не дождавшись ответа, заканчивает: – Я тот самый Есенин, помните? Да, я его тотчас же вспомнил, несмотря на фрак и цилиндр и на несколько лет – и каких лет! – проведших борозду между первой встречею и второй.
Сейчас я понял, зачем прибегнуто было ко всей этой загадочности. Да и сам Есенин тотчас же пояснил:
– Я боялся, что если мое имя будет названо, вы не пожелаете меня видеть!..
Хотя, в сущности, какой же я большевик?..
Смешно…
Замяв эту, видимо, неприятную для него тему, он предложил:
– Может быть, отужинаем вместе… Я буду очень рад…
Я особенной радости не обнаружил, но согласился. Наши дамы перезнакомились и научились кое-как понимать друг друга. Первая дама, встретившая нас, оказалась женою Есенина, знаменитой танцовщицей Дункан.
Ехали мы долго, ехали на двух машинах и очутились в ресторане, где все – и помещение, и убранство – было на старонемецкий лад. Все было выдержано в стиле тяжелой, монументальной готики. Нас здесь ждал чудесно сервированный стол, весь в цветах, с тончайшими деликатесами, которые были непостижимы для тогдашнего Берлина, сурово и упорно голодавшего.
Гастрономический обед запивался отборными винами, и хотя никто из нас не был умерен в напитках, но Дункан после обеда потащила меня в соседний с нашим кабинетом бар, требуя, чтобы я пил с ней какой-то необыкновенный крепкий коньяк. Он ударил ей в голову, и после третьей рюмки у нее стал заплетаться язык. Выходим и рассаживаемся по автомобилям, причем в одном из них мы были вместе – Есенин и Дункан и я со своей дамой. Есенин только-только разошелся, – необходимо заехать в какой-нибудь ночной кабак. Тогда в Берлине это было легче сказать, нежели осуществить. Социалистическая власть, с целью поднятия нравов, относилась к ночным увеселительным учреждениям отрицательно, попросту позакрывала их. Но Есенин знал один ночной приют, работавший всю ночь. Там выпили мы две бутылки шампанского и – по домам. Но дорогой пьяный Есенин затеял ссору с еще более пьяной Дункан. Он ее крыл вовсю трехэтажными словами, она же отвечала на языке, непонятном ни самому Есенину, ни благородным свидетелям в нашем лице. Все это производило омерзительное впечатление, но уже совсем невмоготу стало, когда пролетарский поэт в цилиндре замахнулся на свою подругу, смело годившуюся ему в маменьки.
– Ах ты, шкура барабанная, туда и сюда тебя! Вон пошла, вылезай! – И, остановив шофера, распахнув дверцу, он стал выталкивать Дункан на пустынную, предрассветную улицу.
Не дождавшись окончания этой безобразной сцены, я, воспользовавшись этой остановкой автомобиля, покинул его вместе с Бэлочкой.
Такова моя вторая и последняя встреча с Есениным. А теперь скажу несколько слов о первой.
Это было в Царском Селе в 1916 году. Я часто бывал в Царском и потому, что пел в лазаретах императорской семьи, и потому, что в Царском жил мой близкий друг полковник Ломан, несший обязанности ктитора Федоровского собора.
Однажды Ломан говорит мне:
– Юрий, у тебя артистический вкус. Я хочу, чтобы ты прослушал двух юных поэтов! Самородки из мужиков…
Я выразил живейшее согласие, и самородки из мужичков были приведены Ломаном в трапезную Федоровского собора. Оба они были в стрелецких костюмах. Не берусь утверждать, но, кажется, Ломан одел их в стрелецкое платье, чтобы представить юных самородков императрице Александре Федоровне. Одного из них звали Есенин, а другого – Кусиков. Оба они поочередно стали декламировать свои произведения. Декламация Кусикова совершенно стерлась у меня в памяти, некоторые же стихи Есенина не забылись, и в них тогда еще пленили меня места, где так художественно и свежо описывались картинки природы.
Ломан спросил мое мнение. Я высказался в пользу Есенина, отметив его полное превосходство над Кусиковым. И вот спустя шесть-семь лет вместо робкого деревенского подростка в стрелецком кафтане – денди во фраке и цилиндре, познавший все наслаждения крупных центров не только Европы, но и Америки. Вспоминая это, нельзя не вспомнить трагическую обреченность Есенина и Дункан – этой нелепейшей по своей контрастности пары…
Сначала гибнут дети Айседоры Дункан, упав вместе с автомобилем в Сену. Затем гибнет Есенин, написав своею кровью последнее стихотворение, так и не опубликованное большевиками, и повесившись. Совсем необычайна и фантастична смерть Дункан, смерть, технически схожая со смертью Есенина; ее, как и его, затянула петля, но не веревочная, а петля шелкового шарфа, концы которого попали в колесо автомобиля. Мало этого, совсем недавно покончила самоубийством особа, подарившая Дункан этот шарф: ее угнетали угрызения совести, она считала себя косвенной виновницей смерти Дункан. По ее мнению, не будь этого шарфа, Дункан осталась бы жива…
Глава XVI
ПАВЕЛ ТРОИЦКИЙ. ЕВРЕЙСКАЯ СВАДЬБА. НА БЕРЕГАХ ДНЕСТРА И ДУНАЯ. БЕЛГРАД. В. В. ЛОЗОВСКАЯ – ГЕРОИНЯ ЛЕГЕНДАРНОГО ПОДВИГА ПРИ ОТСТУПЛЕНИИ КУТЕПОВА ОТ РОСТОВА – МОЯ ЖЕНА. ПАРИЖСКИЙ КОНЦЕРТ
В 1926 году Павел Троицкий уговорил меня сделать концертное турне по Румынии. Новая страна, новые впечатления… Подумал и поехал.
…Благодаря жизнерадостному характеру моего спутника происходили с нами приключения забавные, подчас совсем анекдотического характера. Расскажу только одно.
Ехали мы в дилижансе из Татарбунар в Сороки. Вместе с нами торопилась туда же невеста – молоденькая, хорошенькая евреечка – со своими родителями: на следующий день должна была состояться ее свадьба с молодым сорочанином, которого она один раз в жизни только и видела, – когда он приезжал свататься. В дороге все мы перезнакомились и к Сорокам подъезжали уже друзьями, в особенности П. Троицкий, с невестою и ее родными. Само собой разумеется, что мы получили самое искреннее приглашение на свадьбу. Но у нас в тот же вечер был назначен концерт, а после концерта и длинной, утомительной дороги – не до свадьбы. И я старался как можно деликатнее отказаться от любезного приглашения. Иного, однако, мнения в этом отношении был П. Троицкий, который сумел так обворожить стариков, что и сам начал чувствовать себя на положении чуть ли не близкого родственника, отсутствие которого на свадьбе может омрачить весь праздник Своими беспрерывными шутками и прибаутками он привел родителей невесты в такое игривое настроение, что, когда при въезде в Сороки мы попали в толпу поджидавших невесту будущих ее родственников и свойственников, родители невесты представили его как «американского дадюшку». В первый момент встречавшие поверили этой шутке, и трудно описать, что здесь произошло. Все со сладостными возгласами бросились обнимать и целовать Троицкого, и нужно было видеть, с какой ловкостью он ускользал от объятий стариков и старух и как пылко – совсем не по-родственному – он взасос целовал молодых девушек – хотели они этого или нет, безразлично. А когда после концерта он явился на свадьбу, то вскоре оказался центром внимания, общим любимцем и, кажется, вскоре действительно породнился с большею частью и хозяев и гостей.








