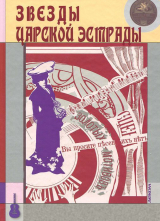
Текст книги "Звезды царской эстрады"
Автор книги: Максим Кравчинский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 19 страниц)
В конце 20-х Жорж Северский приобрел небольшой спортивный самолет и, снова увлекшись частными полетами, совершал перелеты через Ла-Манш в Англию, где успешно выступал со своими песнями. Летом Георгий Северский пел в курортном ресторане «Казанова» на Лазурном берегу. Принимал участие в сборных концертах вместе с Александром Вертинским, певицами Ксенией Вековой, Ниной Кривошеиной и многими другими эмигрантскими исполнителями. Однажды, подписав контракт со спортивным журналом на участие в полетных съемках для фотографов, снимавших велогонку, Жорж Северский, чтобы дать возможность сделать фотографам лучшие снимки, повел самолет очень низко по петляющей горной дороге и попал в тяжелую авиакатастрофу, врезавшись в гору. Он выжил, однако у него серьезно пострадала нога, и с тех пор всю оставшуюся жизнь он сильно прихрамывал»[14]. В середине 30-х Жорж Северский неоднократно выступал в парижском кабаре «Монте-Кристо» с сольной программой The singing pilot («Поющий пилот»).

Реклама выступления Жоржа Северского в Монте – Карло
Впоследствии он перебрался в Англию, откуда в 1950 году был вынужден отправиться в Штаты. По каким-то причинам суровые британские законники не давали Северскому вида на жительство. Помочь ему не смог даже его близкий друг принц Эдуард, много лет безуспешно хлопотавший за Жоржа.
В Нью-Йорке «поющий пилот» на общественных началах занимал пост вице-председателя Общества бывших русских летчиков в Америке, работал в фирме брата и… оставался довольно популярным певцом. Записал несколько пластинок. Н. А. Кривошеина, содержавшая в период расцвета «русского Парижа» ресторан «Самарканд», в своих мемуарах «Четыре трети нашей жизни» вспоминала о Жорже Северском: «Он был почти профессионал; сын известного до революции в Петербурге опереточного певца Северского и брат знаменитого авиаконструктора… В войну 1914 года и он, и отец его, и брат – все были военными летчиками. Он пел английские и американские песенки тех времен, как, например, репертуар гремевшего тогда на весь мир певца МакКормика, но и некоторые русские песни, и даже советские – братьев Покрасс. Голосок имел небольшой, сладкий, старательно учился английскому прононсу, был роста невысокого, с бледными глазами и чем-то неподвижным в лице. Успехом он пользовался немалым, особенно у высоких, крупных дам бальзаковского возраста…»
А об успехах на любовном фронте Юрия Морфесси написал конферансье А. Г. Алексеев в своих мемуарах «Серьезное и смешное»: «Грек, по происхождению, черноволосый и черноглазый красавец, Морфесси прекрасно знал свои достоинства и держал себя на сцене “кумиром”. Да и в жизни он “играл” эту роль: входил ли он в парикмахерскую, подзывал ли извозчика, давал ли в ресторане швейцару на чай – каждый жест его был величавым жестом аристократа… из провинциальной оперетты. И дамы критического возраста млели, а гимназистки и старые девы визжали у рампы».
Любили, наверное, покутить на пару эти два записных сердцееда?!
Глава V
РАУТ В ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ В МЕСТЬ АДМИРАЛА БИТТИ. Я ПОЮ НА ЦАРСКОЙ ЯХТЕ ПЕРЕД ГОСУДАРЕМ. МИЛОСТИВОЕ ВНИМАНИЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. МОИ ГАСТРОЛИ ПО РОССИИ В ДНИ ВОЙНЫ. КАВКАЗСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ. МОИ ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЦАРСКИХ ГОСПИТАЛЯХ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОРЫ-МЕЦЕНАТЫ. КОРОЛЬ ВОРОВ САШКА-ЦЫГАН В РОЛИ МОЕГО АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ
На Кронштадтском рейде отдала якорь мощная английская эскадра. Молодой талантливый адмирал Битти, краса и надежда британского флота, был гостем русского императора.
Пышно праздновался этот медовый месяц англо-русской дружбы, да и самое слово «дружба» произносилось чуть ли не впервые.
Прием был не только официально-восторженный. Нет, даже холодный, равнодушный к политике Петербург проявил чисто славянское гостеприимство к сынам туманного Альбиона.
Адмирала Битти с его эскадрою положительно на руках носили. Обеды, рауты, чаи, спектакли и зрелища, зрелища без конца… Петербургская городская дума устроила грандиозный чай. Как великолепно был декорирован зал с портретами царей… Какие оргии тропических растений на лестницах и в парадных комнатах! Одна из этих комнат была пышно убрана в русском стиле. Это было устроено для меня, как подобающая рамка для моего выступления перед гостями, которых я должен был познакомить с нашей русской песней. И под аккомпанемент моих неизменных спутников Саши Макарова и Де-Лазари я пел без конца перед адмиралом Битти, его штабом и офицерами его эскадры. Положительно без конца, так как англичане, вошедшие во вкус, не хотели меня отпускать. Мало кто из них владел русским языком и мало кто понимал смысл романсов и песен, но голос мой, экспрессия, передача не только удовлетворяли британских моряков, но возбуждали в них самый подлинный экстаз. Англичане вошли в раж. Аплодисменты, выкрики, топот ног, раскрасневшиеся лица… Я изнемог, пересохло в горле, пот катил градом, и моя поддевка, русская малиновая рубаха моя – всё хоть выжми!..
А когда я умолк – заговорило шампанское. Пили за государя императора, пили за короля Георга, за Россию, за Англию, за русский флот, за великобританский.
Здорово пили крепкие, вытренированные в спорте и в алкоголе английские моряки, но и мы не посрамили земли русской, в особенности же Саша Макаров, являвший собою поистине бездонную бочку. Эта бочка спокойно и бесстрастно поглощала несметное количество самой варварской смеси.
Смутно помню, как мы покинули особняк городской думы, но помню, что пальмы в кадках и экзотические растения чудились мне первобытным тропическим лесом с тиграми, обезьянами, носорогами и прочим соответствующим населением…

Яхта «Полярная звезда», на борту которой Ю. Морфесси пел для Николая II
Наутро я проснулся хотя и с не совсем свежей головой, но в отличном настроении. На душе было празднично. Я решил дать себе заслуженный отдых и поехать на скачки. Но судьба распорядилась иначе. Утром телефонограмма. Изысканно вежливый голос, с чисто военною чеканкою слов. Дежурный офицер сообщил мне следующее:
– Вы, господин Морфесси, приглашены петь на яхте «Полярная звезда» в присутствии их величества. Благоволите вместе с вашими аккомпаниаторами пожаловать к восьми часам вечера к Николаевскому мосту, где вас будет ждать миноносец, который немедленно вас доставит на Кронштадтский рейд.
Неведомый мне дежурный офицер был для меня вестником необъятной радости. Я не хотел верить, что через несколько часов буду петь перед государем в такой интимной обстановке, как яхта их величеств. Весьма понятное волнение овладело мною. Надо было подготовиться в ускоренном темпе и репетировать вплоть до момента, когда я выеду с моей квартиры на Каменноостровском проспекте к Николаевскому мосту.
Надо было немедленно мобилизовать моих верных аяксов – Сашу Макарова и Де-Лазари с их незаменимыми, непревзойденными гитарами. Заработал телефон.

Артист Ходотов (слева) и Иван Де-Лазари. «…Ваня Де-Лазари отличался поразительной находчивостью на экспромтные тосты в стихах и особенно нежным “туше” на гитаре»
Саша Макаров тотчас откликнулся своим низким, похрипывающим голосом, но с Де-Лазари дело обстояло далеко не так благополучно. После вчерашнего загула в Думе он скрылся «в неизвестном направлении» и где-то лежал пластом с головой, туго обтянутой полотенцем. Грузный Саша Макаров был уже у меня, уже брал переливчатые аккорды, а беспутного Де-Лазари нет как нет! Я разнервничался, посылал его ко всем чертям и призывал на его голову громы и молнии. Тут в качестве гения-хранителя интересов своего патрона выступил мой мажордом Николай Сурин, лилипут, ростом с пятилетнего мальчика, умом же – дай бог убеленному сединой старцу.
– Юрий Спиридонович, я их разыщу!
Встретив мой скептический взгляд, он с незыблемой уверенностью повторил:
– Я их беспременно разыщу! – и даже притопнул ножкой.
И действительно, через час с небольшим Николай доставил мне бледно-зеленого Де-Лазари с томным после пьянства лицом. Я первым делом прописал ему холодную ванну, опохмелив его большою рюмкою мартелевского коньяка, и закипела работа. К вечеру весь репертуар был заново пройден, и мы смело могли предстать перед нашим державным слушателем.
Николаевский мост. Миноносец. Огни Кронштадта. Изящная, стройная яхта «Полярная звезда». Силуэты великих княжон и цесаревича на палубе. Кают-компания, где нас радушно встретил флаг-капитан адмирал Нилов. Тут же был великий князь Кирилл Владимирович с супругой, министр двора граф Фредерикс, флигель-адъютант полковник Дрентельн, остальные лица государевой свиты и все офицеры яхты…
Вошел государь с великими княжнами. Все заняли места, и началась трапеза. За столом служили матросы Гвардейского экипажа, красавцы великаны, с громадными руками в белых перчатках Я в первый раз имел возможность близко и долго наблюдать государя. Он как-то вдруг очаровывал, подкупал и своей внешностью, и своей благородной простотою. И чем дальше, тем это впечатление усугублялось. Нельзя было оторваться от его мягких фиолетовых глаз, с каким-то необыкновенным разрезом, которого я никогда больше ни у кого не видел. Я сидел насупротив государя, имея справа и слева от себя Кирилла Владимировича и Викторию Федоровну… А когда я начал петь, тотчас же за мною устроились со своими гитарами Саша Макаров и Де-Лазари.
Покидая кают-компанию, государь, пожав мне руку, поблагодарил за доставленное удовольствие. Затем, всматриваясь в меня, сказал:
– Какая у вас, однако, память! Вы помните наизусть весь текст ваших романсов. Это удивительно!
– Привычка, ваше императорское величество, – ответила.
– Браво, браво! – И после некоторой паузы государь продолжал: – Где мы с вами виделись в последний раз?

Николай II на борту яхты. 1911
Я уже собирался ответить, но государь быстро закончил:
– Это было год назад, в Царскосельском театре, шла оперетта «Нищий студент», и вы играли нищего студента.
– Так точно, ваше величество. Этикет не позволял мне изумляться необыкновенной памятью государя, много лучшей, чем моя. Государь удалился, а мы все остались, и я еще долго пел в кают-компании. Да, флаг-капитан Нилов, провожавший государя и потом вернувшийся, улучив минутку, сообщил мне:
– Государь в восторге от вашего пения. Вы удостоились еще небывалой для артиста чести: вы приглашены на императорскую яхту, в шхеры, и в течение трех дней будете гостем их величеств. Вас своевременно известят обо всем… Офицеры Гвардейского экипажа, мои друзья Мясоедов-Иванов, Мочульский, Карташев и другие горячо поздравили меня: после этой поездки в шхеры я, имея государевы подарки, несомненно, удостоюсь высокого звания солиста его величества. Это было 17 июня 1914 года. 17 июля меня вызвал в Петергоф флаг-капитан Нилов для вручения царской милости. При этом был фиксирован день отхода императорской яхты в шхеры.
Но, увы, 19 июля была объявлена война…
Поездке в шхеры не суждено было осуществиться…
…За пение на «Полярной звезде» я удостоился высочайшего подарка – запонок с бриллиантовыми орлами.
Началась война. Общий энтузиазм захлестнул и меня. Первым моим движением было идти на фронт, хотя я никогда не был военным. Но, подумав, я решил, что больше принесу пользы, работая в тылу по своей специальности. И я не ошибся. Я предпринял целый ряд концертных поездок по всей России. Эти поездки превращались в триумфальные шествия. Никогда я не пел с таким подъемом потому, что все мои концерты носили патриотический характер как по своему репертуару, так и по значительным отчислениям из вырученных денег на нужды войны. Особенно плодотворно было в этом отношении мое турне по Волге, начиная от Рыбинска и кончая Астраханью. Не ограничиваясь концертами во всех попутных городах, мы устраивали еще плавучие концерты на пароходе. И надо сказать, публика отличалась музыкальной чуткостью и жертвенной щедростью. Из этих поездок я вывозил большие десятки тысяч в пользу Скобелевского комитета и разбросанных по всей империи его лазаретов.
Перед моей поездкой по Волге зашел я в состоявший под личным его императорского величества покровительством Скобелевский комитет при императорской Николаевской академии, пропагандно-издательским отделом которого заведовал А. А. Морской. Он мне и предложил, кроме отчислений с концертов, заняться и сборами в пользу раненых и увечных воинов. Взял я квитанционные книжки и запечатанные красной печатью кружки и на первом же концерте на теплоходе «Цесаревич Алексей» приступил к делу. Первую трехрублевую бумажку, помню как сейчас, положил в кружку пленный австрийский офицер, прекрасно говоривший по-русски.
– Ах, господин Морфесси, – со вздохом обратился он ко мне, – какую мы совершили ошибку. Если бы не пошли против, а вместе с Россией – вся Европа была бы наша.
Рука австрийца оказалась легкая. По окончании поездки я вручил Скобелевскому комитету очень крупную сумму.
…Я посетил вновь, уже при других условиях и в другой обстановке, и нефтеносный Баку, и живописный Тифлис.
…Во время этой поездки я задержался на группах Минеральных Вод. Там война не сказывалась, как в Тифлисе. Там жизнь била ключом и еще более повышенным темпом, нежели в мирное время. Понаехало много из Петербурга и Москвы дам света и полусвета. Офицеры залечивали свои раны и полученные на фронте недуги, и поэтому скопление военных было чрезвычайное. Гостиницы и пансионы не могли вместить и половины приезжих. Останавливались в частных квартирах, в казачьих станицах, в черкесских и кабардинских аулах. В таком же духе переполнены были и концерты, и с каждым концертом росли все новые и новые приглашения. Наилучший показатель моего успеха следующий: большой симфонический оркестр в Железноводске, давно уже мечтавший о своем бенефисе, привлек к этому бенефису меня, чтобы округлить и свою рекламу, и свой сбор. Оркестр не прогадал ни на том, ни на другом.
…Кончилась моя одиссея где по железной дороге, где по воде, где на лошадях, где на автомобиле. Покрыв таким образом несколько десятков тысяч верст, я возвратился в Петербург.
Здесь пришлось изо дня в день, из вечера в вечер выступать в лазаретах как столичных, так и царскосельских. Моими партнерами были неизменные Саша Макаров и Де-Лазари и, кроме них, гармонист Федя Рамш и балетные Лопухова и Орлов.
В Царском мы очень часто выступали в лазаретах императрицы, великих княжон и цесаревича. Мы могли вдоволь присмотреться, с какой любовью и с каким вниманием, исполняя все физические работы вместе с заурядными сестрами, ухаживали за ранеными бойцами государыня и ее дочери.
Появлялся наследник в сопровождении своего громадного А. Е. Деревеньки. Можно ли было допустить, что этот избалованный и задаренный царской семьей матрос после революции окажется таким негодяем и хамом!
Наследник, живой, минуты не могший усидеть на месте, затихал, когда начиналось концертное отделение. От меня этот царственный ребенок требовал повторения двух вещиц: «Корочки» и «Васильки», особенно ему понравившихся. Я охотно повторял, и разве можно было в чем-нибудь отказать этому царевичу из волшебной сказки?! Но иногда меня выручали великие княжны:
– Довольно, Алексей, довольно! Ты совершенно замучаешь господина Морфесси!
…Я, в сущности, вскользь упомянул о своих концертных турне по России в годы войны. А между тем сколько воспринималось и вывозилось впечатлений – хватило бы заполнить много страниц большой книги. И как же им было не быть, впечатлениям? В то необыкновенное время, когда вся страна жила повышенной, нервной жизнью, жила как-никак для фронта и вестями с фронта.
Я не буду останавливаться на тогдашних общественных настроениях. Это не входит в задачу моих воспоминаний, другие сделают, да уж и делали это лучше меня. Поэтому я ограничусь тем, что в первую голову запомнилось и что может иметь наш бытовой артистический интерес.
У меня всегда было предубеждение против рыжих мужчин. Вообще потому, что как-то не подобает мужчине быть рыжим, отчасти же – и это по проверенным наблюдениям – рыжие мужчины выделяют из своей среды значительный процент людей нехороших, отталкивающих.
И вот наперекор этому своему убеждению я взял с собой в поездку по Центральной России начинающего пианиста Сергея Орского. Это был подчеркнуто рыжий молодой человек. Он подъехал ко мне, вполне умно решив, что я могу его выдвинуть, и зная, как я вожусь с начинающей молодежью, памятуя свою собственную молодость и свои первые шаги. Словом, я взял Орского в поездку, обеспечив ему максимальный комфорт и довольно крупный фикс. Он клялся мне в любви и преданности, обещал никогда не забывать моих по отношению к нему благодеяний…
Мы вычерчивали замысловатые маршруты по Южной России, не брезгуя и большими уездными городами, так как опыт показал нам, что там можно пожинать не только лавры, но и золотое руно. Так мы очутились в Александровске-на-Днепре, для следующего концерта наметив себе Мелитополь. В гостиницах я всегда снимал самую большую комнату. Так как в этих номерах имеются всегда две кровати, то я обыкновенно приглашал кого-либо из спутников разделить мое одиночество. На этот раз в Александровске я пригласил к себе ночевать Орского.
С деньгами у меня было заведено так: крупные суммы хранились у моего администратора-управляющего Блока, а несколько тысяч я держал при себе и клал вместе с бумажником под подушку. Перед самым концертом бумажник из-под подушки исчез. В нем было около пяти тысяч рублей. Подозрение мое пало на пианиста, почти весь день остававшегося в комнате и в те часы, когда я разъезжал по городу. Только подозрение, уверенности не было, но я даже и подозрение гнал от себя, чтобы не расстраиваться перед концертом.
Орский же так расстроился и так вскипел и разволновался, что мне приходилось его успокаивать.
– Это безобразие, это черт знает что! – выкрикивал он. – Ты не смеешь так оставить! Заяви полиции непременно!
Полиции я заявил, но толку из этого не вышло…
Концерт сошел великолепно, собрав не только весь город, но и окрестных помещиков и промышленников каменноугольного района.

Такой же успех был у нас и в Мелитополе. Хотя Орский оставался у меня на подозрении, но за отсутствием прямых улик подозрение ослабело, а во-вторых, сколь ни был мне антипатичен сей рыжий молодой человек, расставаться с ним в самый разгар поездки было неудобно. Пианист он был способный, и такого в два-три дня не заменишь.
Мы вернулись в Петербург. Захожу я по своим делам в депо роялей Шрейдера. Управляющий, большой мой приятель, радостно встречает меня. Поздравляет с успешным турне.
– Воображаю, сколько вы привезли с собою денег, если ваш пианист так хорошо заработал на этой поездке!
– Да? – полуспросил я, насторожившись.
– Как же, с месяц назад получили мы от него открытку из Мелитополя, где он просил задержать для него двухтысячный рояль, который он облюбовал себе перед отъездом. И действительно, не успел вернуться, внес целиком все полностью, и рояль стоит уже у него…
Я пробормотал что-то неопределенное в ответ. Но теперь уже не было никаких сомнений: Орский украл мои деньги. И задним числом вспомнилось мне, как он в Харькове носился на лихачах, кутил с женщинами, дарил им цветы, большие коробки конфет и вообще сорил деньгами. Мало того, как нежный старший брат он посылал мальчику-брату целыми пакетами дорогие игрушки в Петербург. Признаться, я накалился. Было сильное желание проучить наглого вора. Я обдумал всю инсценировку. Позвал к себе вечером гостей, исключительно мужчин, кое-кого из артистического мира, кое-кого из общества. А заблаговременно, по телефону, пригласил Орского. Он явился, ничего не подозревая, веселый, развязный, с моей легкой руки уже сделавший себе имя…
Вечер прошел оживленно, говорили о войне, музицировали, затем был подан ужин, а после ужина я пригласил Орского и двух-трех человек в так называемую «восточную» комнату. Запер дверь на ключ – и к Орскому:
– Сережа, ты украл в Александровске мои деньги! Если завтра не доставишь мне все сполна, я заявлю в сыскную полицию, ты сядешь в тюрьму, и твоя карьера будет кончена!
Может быть, это было и жестоко, но эффект получился чрезвычайный. Орский тут же, при свидетелях, бухнулся мне в ноги и, пытаясь целовать мои руки, умолял:
– Не губите меня, пожалейте доброе имя отца и матери! Я действительно мерзавец и негодяй, но взываю к вашему доброму сердцу, пожалейте меня!
На другой день от Орского был доставлен мне концертный шрейдеровский рояль. Но этим и ограничилось. Да и откуда ему было взять 2000 руб.? Я махнул рукою и вскоре забыл всю эту историю.
Тотчас же после революции, в дни керенщины, Орский сделался видной политической фигурою. Он арестовывал царских сановников, кричал о своей преданности революции, продавал с американского аукциона портреты Керенского и, кажется, был комиссаром над несколькими клубами, что приносило ему изрядный доход.
При большевиках он арестовывал агентов Временного правительства, а когда французы уступили Одессу григорьевским бандам,
Орский занял в этом городе видный комиссарский пост. По странной иронии судьбы, я в это время в Одессе же перешел на нелегальное положение. К счастью, Орский слишком поздно, накануне смелого завоевания Одессы добровольцами узнал, где я и что я. Только благодаря этому сорвалась его месть за то унижение, которое он испытывал при моих друзьях в «восточной» комнате на Каменноостровском проспекте.
Я сталкивался и с профессиональными ворами, и, признаюсь, они много симпатичнее своего коллеги-дилетанта Сергея Орского. Они не прикрывались никакими героическими тогами и стойко несли свое клеймо отверженных. По отношению же к нам, артистам, они проявляли какое-то меценатство, никогда не посягая на наши бумажники, часы и портсигары. Я опускался на столичное воровское дно вместе с Александром Ивановичем Куприным. Знаменитому писателю нужны были человеческие документы. Мне нужны были впечатления вне круга моей обыденщины.
Вождем и атаманом всех петербургских воров был некий Сашка-цыган, смуглый, черноволосый парень, голубоглазый, малый ростом, очень широкий в плечах, очень сильный физически. Во время войны я устроил благотворительный спектакль в Малом театре, где поставили «Цыганские романсы в лицах», по Северскому, с участием таких сил, как Владимир Николаевич Давыдов и Раиса Раисова. Чистый сбор достиг небывалых размеров, выросши в такую внушительную цифру, как без малого 20 тысяч рублей.
Не ограничившись этим, мы в последнем антракте устроили в фойе сбор добровольных пожертвований. Собирали артисты во главе с Владимиром Николаевичем Давыдовым; он держал в обеих руках свою шляпу, и она быстро наполнялась кредитными билетами. Отовсюду тянулись руки к маститому артисту. Я находился тоже в толпе. Вдруг подбегает ко мне Саша Орлов.
– Юрий, только что срезали у Владимира Николаевича царский подарок, часы с цепочкой. Вот этот самый срезал!..
И мне был указан тип в смокинге. Я его сгреб за шиворот и потащил вниз по лестнице к дежурному полицейскому офицеру. Тип покорно следовал за мною, но когда мы спустились с лестницы, что-то ударилось о мраморный пол. Вор, пытаясь отделаться от вещественных доказательств, выбросил Давыдовские часы с царским орлом.
Я сдал вора полицейскому офицеру и не успел выйти из дежурной комнаты, как меня перехватил сконфуженный Сашка-цыган, одетый тоже… в смокинг.
– Юрий Спиридонович, Бога ради, не подумайте, что это наших рук дело. Мы всегда уважаем господ артистов и никогда ничего такого ни-ни! Это понаехали из Финляндии гастролеры. Вы думаете, они только Владимира Николаевича обчистили? Да там такой тарарам был, просто ужас! А только вы не извольте беспокоиться: мы с ними в таком тет-а-тет побеседуем, будьте благонадежны, все сполна завтра же получите. Не откажите сами пожаловать к нам к Пяти Углам.
У Пяти Углов, на задней половине одного из трактиров, помещался штаб Сашки-цыгана. Этот штаб был хорошо знаком и мне, и А. И. Куприну. Туда стекались со своими трофеями все карманные воры столицы, работавшие в трамваях, на вокзалах, в театрах и в кинематографах. Наши друзья неоднократно угощали нас в своем штабе, делая это с поистине воровской щедростью и с размахом людей, добывающих свой хлеб хотя и не особенно почетным способом, но зато легко. Раз уже я вспомнил об этом притончике у Пяти Углов, следует набросать картинку первого посещения «штаба», когда все было так ново и так волнующе интересно.
Сашка-цыган, исполняя роль тороватого хозяина, в то же время успевал делать беглый обзор всего того, что приносили ему его помощники. Перед нами вырастала и с такою же быстротою исчезала горка дамских сумочек, серебряных и золотых, из кольчужного золота, портсигаров, браслетов, часов и всего того мало-мальски ценного, что мужчины носят в карманах, а женщины на себе и при себе.
У всех этих воришек и воров был какой-то серенький вид, и поэтому особенно резко выделялся среди них красивый, породистый и элегантно одетый, чудесно державшийся брюнет лет тридцати. Он развлекал меня с повадками светского человека. По всему замечалось, что он был таковым когда-то. Он встал, надел пальто, натянул перчатки, взял трость и шляпу.
– Надеюсь, господин Морфесси, вы не торопитесь? Мои коллеги не дадут вам скучать. Я вынужден на часок лишиться вашего приятного общества. Но, вернувшись, надеюсь вас застать… – И, сделав плавный жест и взмахнув тростью, как денди, он удалился уверенной походкой. Сашка-цыган пояснил мне:
– Король трамвайного дела!..
Через час «король» вернулся и, подсев к столу, с небрежной грацией вынимал из кармана добычу – все вещи и вещицы отменного качества: булавки жемчужные и бриллиантовые, туго набитые бумажники, золотую сумочку и все прочее в таком же духе. Это была гениальная работа, особенно же принимая во внимание ограниченность времени. С такой внешностью, с тремя каратами на мизинце легко работать! Кто бы мог заподозрить в этом изящном джентльмене вульгарного трамвайного вора!
И вот на следующий день после спектакля в этом самом штабе Сашка-цыган с рук на руки сдал мне все те ценности, которые похищены были у артистов, принимавших участие в сборе пожертвований. Тщетно пробовал я узнать от Сашки-цыгана, как именно технически ему удалось получить все это у гастролеров из Финляндии. Сашка, забронировавшись профессиональной тайной, был неуязвим и непроницаем.
Я с ним встретился еще раз, и эта встреча спасла мне мою шубу, мои государевы часы, мой бумажник и – мою жизнь…
Это была первая большевистская зима. Рестораны и клубы еще не были закрыты, но по ночам, под аккомпанемент ружейной, револьверной и даже пулеметной стрельбы, шел грабеж с кровью и человеческими жертвами. Люди в серых шинелях устраивали вооруженные заставы на Марсовом поле и у целого ряда мостов; не пропускался ни пеший, ни конный. Каждое утро я узнавал, что кто-нибудь из моих добрых знакомых ограблен и убит или на лучший конец только ограблен.
Но это никого не смущало. В ресторанах лилось шампанское, в клубах проигрывались и выигрывались громадные суммы. Во всем этом чувствовалась какая-то обреченность. Никто не думал о завтрашнем дне – только бы дожить сегодняшний…
На царственной набережной Николаевского моста был открыт какой-то клуб. Забыл, какой именно, но не в этом дело. С моей знакомой дамой, А. Н. Васильевой, я поужинал в этом клубе, и в третьем часу ночи мы вышли, чтобы ехать на Каменноостровский. У подъезда вытянулись вереницы наемных автомобилей. Взяв первый попавшийся, я уже хотел открыть дверцу и пропустить свою даму, как лицом к лицу вырос передо мною Сашка-цыган.
– Господин Морфесси, вы не берите этот автомобиль, а возьмите лучше вот этот…
– Почему? – не поняли.
– Так спокойнее будет, – последовал загадочный ответ.
А кругом также загадочно шныряли во тьме люди в серых шинелях. Слов нет, Сашка-цыган лучше меня учитывал обстановку, и я последовал его совету. Он спросил:
– Вы как? Через Тучков мост?
– Я думаю, через Троицкий.
– А я думаю, сподручнее вам через Тучков!
И здесь я сдал позицию перед профессиональным опытом Сашки-цыгана. К довершению всего он до того простер свое внимание к моей особе, что сам сел рядом с шофером.
– И я сам прокачусь с вами за компанию.
Все это нервировало, суля какие-то острые ощущения. Моя дама забилась мелкой дрожью, опасаясь за свое дорогое манто и за свои крупные бриллианты в ушах, и прежде всего – за нас обоих. Двинулись в путь. Остался позади Николаевский мост, осталась влево монументальная колоннада Биржи и замаячил впереди Тучков мост. Едва мы приблизились к нему, раздались выстрелы в воздух – сигнал машине остановиться, что и было сделано тотчас же. Люди в серых шинелях с наведенными револьверами обступили наш автомобиль.
– Руки вверх! Вылезай!
И тогда-то наш приземистый, широкоплечий цыган выступил в роли ангела-хранителя. Выпрямившись на шоферском сиденье, он властно крикнул:
– Молодчики, аль не узнаете меня? Опустите ваши шпайера[15] и дайте нам дорогу!
Молча повинуясь, серые шинели тотчас же расступились, машина рванулась и загрохотала по деревянной настилке Тучкова моста. Благодаря Сашке-цыгану мы отделались дешево, одним волнением. В эту же самую ночь, на Марсовом поле, возле красных могил первых «жертв революции», был застрелен несколькими пулями артист Александровского театра Валуа и там же основательно избит и ограблен поэт Агнивцев.
Антракт
Песни каторжан на русской эстраде
Воспоминание Юрия Морфесси о своем знакомстве с «королем воров» характерно для представителя богемы той эпохи. В начале XX столетия интерес «просвещенной публики» к миру «отверженных» принял небывалый размах. Интеллигенция зачитывалась очерками о сибирских острогах В. Максимова и записками о сахалинской каторге Власа Дорошевича. Сочувственное внимание к «униженным и оскорбленным» выказывали Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов, А. Куприн, М. Горький, В. Гиляровский и сотни других, менее известных, сочинителей.
Образ несправедливо угнетенных и выброшенных на обочину жизни людей, столь ярко воплощенный знаменитыми литераторами, вызывал сострадание и любопытство. С азартом первооткрывателей сановники и ученые, купцы и студенты, белошвейки и курсистки разглядывали «каторжные типы», с трепетом узнавали о нравах тюрьмы и робко вслушивались в мелодии «беглых и бродяг».
Зимой 1902 года в Москве, на сцене Художественного театра, произошло событие, фактически легализовавшее жанр «песен каторжан, беглых и бродяг». Самое непосредственное отношение имел к этому… будущий «буревестник революции» Максим Горький.
18 декабря уже помянутого 1902 года состоялась премьера его пьесы «На дне» – где главные герои, как известно, обитатели ночлежки для бездомных, – в которой впервые с большой сцены прозвучала тюремная песня «Солнце всходит и заходит».








