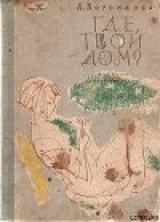
Текст книги "Где твой дом?"
Автор книги: Любовь Воронкова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
«Ну и работенка!»
Были и такие в совхозе, что подсмеивались над молодыми утятницами. Ребята – полеводы и огородники поддразнивали Руфу и всю ее бригаду.
– Ути-ути! – кричали они. – Хвостики, перышки!
А старые кумушки повторяли свое:
– И для этого надо было столько лет учиться? Да мы и без всякой грамоты любую скотину, любую птицу выращивали.
Руфа не оставалась в долгу:
– Вы, тетечка, выращивали две утки да третьего селезня. А у нас восемнадцать тысяч. Вот и попробуй сохрани их всех без науки. Тут и накормить надо знать чем, и как, и когда… Вон, слышали, в колхозе «Мир» привезли пятьсот утят, пустили всех в пустую избу, кормить стали чем попало. Они все пятьсот и подохли за одну ночь.
А ребятам отвечала просто:
– Посмотрим, кто больше заработает! Людям не только хлеб, но и мясо нужно.
Но все эти разговоры и шутки хороши были до того дня, пока не нагрянули в бригаду утячьи полчища. Руфа, хотя и сохраняла невозмутимый вид, ощутила это как бедствие. Да и все ее подруги опомниться не могли от того, что на них свалилось. Тысячи желтых, неуклюжих, падающих, зябнущих птенцов толпились, жались в кучу и непрерывно пищали. Брудеры захватывали своим теплом широкий круг, но каждому утенку хотелось быть непременно в самой середине, где потеплее. Утята пищали, толпились, теснились, опрокидывали слабых, мяли их своими розоватыми широкими лапками…
Вот тут-то и узнали утятницы, что такое утиная страда. С той самой минуты, как привезли утят и выпустили их под брудеры, девушки ни на минуту от них не отходили. Приходилось неусыпно следить за ними, спасать слабеньких… А главное – то и дело кормить всю ораву. Утята все время хотели есть. Поедят, попьют, опять беда: намокнут сами и друг друга намочат. Надо сушить намокших: утенок нежный, сейчас же простудится – и нет его!
– Ну и работенку ты нам сагитировала, – пеняли девушки Руфе. – Да тут с ума сойдешь… Причесаться некогда.
– Чего причесаться – мухи не отгонишь.
– Ничего, потерпим, – отвечала Руфа, смахивая пот со лба, – с недельку потерпим, и все! Что ж делать-то, вон они какие глупые…
Не жаловалась и не охала только одна Женя Каштанова. Она сразу так замоталась, что уже и не могла ни шутить, ни разговаривать. Она ничего вокруг себя не видела и не слышала, все заслоняла эта живая масса, которую все время нужно было бережно разгребать руками, чтобы утята не мяли и не душили друг друга, снова и снова разгребать эти легкие живые вороха и вовремя уметь подхватить пуховый комочек, который оказывался вдруг кверху лапками, или отогревать мокрого, озябшего утенка, и опять разгребать эту толкучку…
Женя уже не помнила себя, у нее не было ни чувств, ни мыслей, ни ощущений – некогда было ни задуматься, ни отвернуться, ни разогнуть спину…
«Когда же вечер, ой, когда же вечер! – чувствуя, что изнемогает, думала она, взглядывая на голубые квадраты окошек. – Ой, как дотерпеть! За целую ночь не опомнишься. Скорее бы домой!»
И, словно в ответ на ее мысли, Руфа сказала:
– Девочки, придется нам всю ночь сегодня дежурить. Домой не пойдем. Разве можно их оставить?
– Какое тут – оставить, – отозвалась губастенькая Фаинка, – помнут друг друга до смерти.
– Поясницу разломило, – чуть не плача, сказала Катя, – не выдержать мне до утра…
– А мы меняться будем, – возразила Руфа. – На две смены разделимся. Одна смена спит, другая – работает.
– А где эта смена спит? – спросила Женя.
– Где спит? Вон на мешках и ляжем, – сказала Аня Горкина, кивнув в сторону кладовой. – Перины нам, что ли, нужны?
– Как же спать на мешках? – негромко, обращаясь к себе самой, усомнилась Женя.
Руфа услышала ее.
– Девочки, только не расходитесь! До дома далеко, не расходитесь! – взмолилась она. – Видите, что тут творится. Как можно уйти?
– Да авось, – беспечно отозвалась Фаинка, – вон солома есть – не уснем, что ли! Я сегодня на камнях усну, а не то что!..
Вечер наступил как-то внезапно, может, потому, что и ждать его перестали. Утята немного угомонились.
– Женя, ты пойдешь спать в первую смену, – распорядилась Руфа, – и ты, Катя. И еще кто сильно замучился. Иди ты, Фаинка, – ты у нас слабенькая.
Катя с наслаждением разогнула спину.
– Ух, чтоб вы пропали, – беззлобно сказала она и направилась в кладовую, где лежали мешки с кормом.
– За что же они должны пропасть? – улыбнулась Руфа утенку, которого держала и грела в руке. – Посмотри, какой миленький, какой маленький… Женя, и ты ступай, чего ждешь?
– Нет, – отозвалась Женя, – пускай кто-нибудь.
– Да ты же не выдержишь.
– Ты выдержишь – и я выдержу.
– Девочки, идите кто-нибудь. Иди ты, Клава. Аня, и ты ступай. Каштанова у нас упрямая, переспорить ее не надейтесь. А ты, Фаинка, вот что: ты у нас самая быстрая. Беги домой, принеси нам молока и хлеба. И скажи там – мы здесь ночевать будем. А то подумают еще, что в озере утонули.
Странная, трудная была эта ночь. Синий прохладный сумрак глядел в квадратные окошки птичника. Руфа и Женя дежурили около брудеров. Утята притихли, лишь иногда кое-кто вдруг начинал пищать, и тогда надо было его немедленно вызволять из тесноты. От брудеров шло ровное, мягкое тепло. Сон кружил голову. Женя ходила, о чем-то разговаривала. А чуть умолкала, ей сейчас же слышался плеск озера, слышались голоса, в окна лезли ветви деревьев и тут же зацветали розовыми цветами… Встряхнув головой, она заставала себя прислонившейся к беленому столбу птичника, видела перед собой тысячи пуховых комочков, сгрудившихся под брудерами, соображала, что она в птичнике, что она дежурит, – а розовые цветы по-прежнему лезли в окна и нежно, протяжно позванивали волны на озере…
Женя глядела на Руфу, видела, как та похаживает по птичнику в своем голубом с розами шарфике и в старенькой жакетке, видела ее молочно-белое, с теплым румянцем лицо и не узнавала ее. Руфа то становилась больше ростом, то делалась совсем маленькой, такой далекой и маленькой. Птичник уходил вдаль на целый километр, и где-то там, в самом конце, ходила маленькая, ростом с куколку, Руфа в своем голубом шарфике.
– Знаешь что, поди-ка ляг.
Голос у Руфы низкий, чуть грубоватый.
Женя вздрогнула. Все стало на место – птичник, утята… И Руфа в своем обычном виде была возле нее. Только эти назойливые розовые ветки то появлялись, то скрывались за окнами.
– Что ты – я ничего, я не сплю! – Женя протерла глаза, и ветки окончательно исчезли.
– Иди, иди, я одна справлюсь. Скоро девочки встанут… – Руфа взглянула на часы. – Осталось минут десять. Пусть доспят. А ты иди.
Утята опять чего-то всполохнулись, и Руфа поспешила к ним. Женя неуверенным шагом направилась в кладовую. Дощатая дверь была открыта, и из маленькой кладовой, заваленной мешками с комбикормом, доносилось сонное дыхание. Девушки спали, и ни одна не услышала, как вошла Женя и, отыскав свободное местечко на мешках, легла. И ей было уже все равно, на чем она спит, лишь бы дали ей вытянуть ноги и не трогали бы ее… Уснула сразу, словно опустилась в омут.
На заре к птичнику подошла Елизавета Дмитриевна. Ее блеклое, помятое со сна лицо было расстроено и сердито.
Девушки хлопотали около утят, и ни одна не обратила на нее внимания – глянули мимоходом, да и все. Елизавету Дмитриевну это покоробило, все-таки ведь она не прохожий какой-то, а жена директора. Она не понимала, что девушкам даже глаз оторвать некогда.
– Где Женя? – плачущим голосом спросила она.
Курносенькая Аня, разрумянившаяся на утреннем холодке, готовила под навесом корм для утят.
– Да она здесь, чего вы забеспокоились? Разве вам не сказали, что мы тут ночуем?
– Но где же она?
– А вот они, спят…
Аня подвела Елизавету Дмитриевну к двери кладовой. Женя и Руфа крепко спали, пристроившись на тугих мешках. Обе они шевелили во сне руками, будто силясь отодвинуть что-то. В темных волосах Жени торчали соломинки, на руках засохли остатки утиного корма.
– Боже мой, да что же это… – начала было Елизавета Дмитриевна, схватившись за голову.
– Это они во сне утят разгребают, – засмеялась Аня. – Я тоже сегодня всю ночь руками шевелила. Весь день разгребаешь, так и во сне не можешь остановиться.
Пользуясь свободной минуткой, Аня торопливо заплетала свою растрепавшуюся рыжую косичку. Елизавета Дмитриевна стояла в растерянности – разбудить Женю и немедленно увести домой или дать ей доглядеть утренние, самые сладкие сны? Но – на мешках, сноп соломы под головой! И зачем это все, зачем?
На Руфу Елизавета Дмитриевна даже не взглянула, она не заметила, что у Руфы и снопа под головой нет. Да что глядеть на Руфу! Быть может, она и дома не лучше устроена, привыкать ей, что ли? Но Женя, Женя, выхоженная, выпестованная!..
– Давно Женя легла? – спросила строго Елизавета Дмитриевна.
– Давно. Часа три уже спят, – ответила Аня, – скоро будить будем: им с Руфой дежурить, отдохнули, и хватит.
– Ну так я сама разбужу.
Елизавета Дмитриевна вошла в кладовую.
– Женя, вставай, – потребовала она, трогая Женю за плечо, – вставай и живо – домой!
Она кричала, не обращая внимания на то, что разбудила и Руфу.
Женя села на мешке, встряхнула кудрями и еле раскрыла глаза. В них еще проплывали сонные видения.
– Мама, ты что?
– Ничего! Вставай – и домой сейчас же! Посмотри, на кого ты похожа, позор один!
Женя окончательно проснулась.
– Это ты, мама, иди домой, – сказала она жестко, – а я никуда не пойду. Попроси тетю Наташу – пускай принесет завтрак. А если некогда ей, то и не надо.
Руфа уже вскочила и торопливо расчесывала свои густые русые косы.
– Мне скоро молока принесут, – сказала она, – хватит и тебе.
– А ты, Руфина, мою дочь не опекай! – набросилась на Руфу Елизавета Дмитриевна. – Еще что выдумала. Женя, ты сейчас же, немедленно отправишься домой!
Но Женя, будто не слыша, прошла мимо нее в открытую дверь и побежала к озеру.
По сырой отмели четко печатались ее лиловые на розовом песке следы.
– Да куда же ты, куда? – Елизавета Дмитриевна чуть не заплакала.
– Умываться! – не оборачиваясь, крикнула Женя.
– Умываться… – упавшим голосом повторила Елизавета Дмитриевна.
Руфа, наскоро повязавшись своим голубым шарфиком, быстрым шагом направилась в птичник – решила посмотреть, все ли там благополучно, не случилось ли чего за те три часа, что она спала.
– Что ж это – так и будете здесь жить? – крикнула ей вслед Елизавета Дмитриевна.
– Так и будем, – ответила Руфа.
– Но до каких же пор?
– А пока утята на ноги не станут. С недельку, не меньше.
– О боже, пошли мне терпенья! Они совсем одичают. – Елизавета Дмитриевна запрокинула к небу свое блекло-розовое, с желтыми бровями лицо. – Впрочем, что поделаешь? Пусть отец говорит. Пусть Наталья, в конце концов…
Она вздохнула, пожала плечами и, зябко кутаясь в белый шелковый платок, медленно вышла из калитки.
Утиная страда
Прошла неделя. Девчонки из Руфиной бригады совсем измучились. И больше всех замучилась сама Руфа. Она никому не поверяла своих чувств, своих тревог, страхов и опасений. Она каждый день ждала, что бригада взбунтуется и бросит утят – девушки уж очень уставали, до того уставали, что и браниться друг с другом начали. Чуть что не так – кричат друг на друга: «Это ты недоглядела, это ты не сделала!»
Правда, сердились недолго, а все-таки нехорошо. Работать с бранью и с досадой нельзя, работать надо с лаской, с добротой. Даже земля, поле – и то это чувствуют. А здесь – живьё! Утиные детки, птенчики. А деткам, всем детишкам на свете, всегда нужна забота и ласка.
Иногда Руфа украдкой поглядывала то на одну, то на другую подругу – не думает ли бросить все да сбежать? Особенно тревожила ее Женя – ей-то всех труднее, она не привыкла работать, она не умеет не спать, когда нужно, Засыпает, и все, и ничего с ней не поделаешь. Вот и Клава тоже. Лицо у нее унылое, недовольное.
Каждый день Руфа ждала, что Клава подойдет к ней и скажет:
«Ну, хватит с меня, Посмотрела, попробовала. А теперь в Москву, к тетке».
Но Клава молчала. А сдалась как раз та, о ком Руфа и не беспокоилась, – крепкая, плечистая, румяная Катя.
– Не могу, что хочешь делай, не могу. Поясница болит, руки болят, голова болит и спать хочу до смерти.
– Что ты, Катя, – жалобно просила Руфа, – и пяти дней не прошло. Дальше-то легче будет.
– Отосплюсь – приду. А сейчас не могу.
Повернулась и ушла, убежала, чтобы не видеть никого из бригады и не слышать упреков.
Руфа проводила ее мрачным взглядом, сжала свои крупные розовые губы, помолчала, подумала. Справилась, как всегда, в одиночку, с горькой обидой, согнала морщинки со лба и пошла к утятам, будто ничего не случилось.
– Катя отсыпаться домой побежала, – сказала она девушкам, – не выстояла, подкосилась.
– Тоже мне, – презрительно отозвалась Клава Сухарева, – кисейная барышня! А еще комсомолка.
Руфа засмеялась от радости, что именно Клава так сказала. Значит, она-то бежать не собирается…
– Если бы Каштанова ушла, я бы не удивилась, – пожала круглыми плечиками Аня.
Женя, которая возилась с утятами, гневно подняла голову, глаза ее стали злыми.
– А я что – давала повод так думать обо мне? Говори – давала?
– Да я потому, что ты, ну все-таки не как мы… – начала что-то лепетать Аня, – ты все-таки…
– Значит, я хуже вас?!
– Девочки, перестаньте! – Руфа встала между ними. – Ой, глядите, утята водой заливаются.
Пока они спорили, утята набились в поилку и некоторые уже лежали в воде кверху лапами. Все бросились вытаскивать их, принялись обтирать; сушить. Просто глаз нельзя отвести от этих маленьких негодников!
Но хоть и погашена была ссора, у Жени в душе все-таки саднило от обиды: как ни работай, как ни будь стойка и самоотверженна, все равно «ты не как мы»! А о том никто и не подумает, что делается у нее дома, какой раздор у нее с матерью и с отцом – особенно с отцом. Как тяжело у нее из-за этого на душе и насколько ей труднее сейчас, чем им всем! А для чего, все это? Для того, чтобы быть такой, как все, – комсомолкой, а не «директорской дочкой».
«Сами не понимают, так я объяснять не буду, не жалости же у них просить!»
День прошел трудно. Девчата нервничали, сердились. Все устали, хотели спать, хотели вернуться к нормальной человеческой жизни, хотели жить так, как жили до сих пор: на ночь ложиться в постель, днем работать, а вечером принарядиться и отправиться в клуб. Уже бродили неясные разговоры – вон, Катя собралась да и ушла, не мучается, как мы… Ну, и не выстояла, ну, и подкосилась – а что, из комсомола исключат, что ли?
И кто знает, что сталось бы с бригадой, если бы не Руфа.
– Девочки, еще немного потерпеть! – уговаривала она. – Еще денька два-три, смотрите, они уже на ножках крепко стоят. А растут-то как заметно. А хорошенькие-то какие!
Иногда потихоньку кивала на Женю:
– Посмотрите на нее – все-таки избалованная, работать не привыкла, а не сдается, не жалуется. А что же мы-то?
И оттого, что Руфа никогда не теряла спокойствия, и оттого, что не забывала вовремя распорядиться насчет кормов, и оттого, что была всегда весела и дружелюбна, девушки держались около Руфы и бригада не распалась.
И каждая думала – ну еще, еще немного, дня три, потом уже будет легче, и вздохнем свободнее, и жизнь наладится.
На шестое утро Женю разбудил чей-то плач. Она открыла глаза, прислушалась.
Плакала Аня.
– Ой, ой! Целых восемь штук. Мертвенькие, совсем мертвенькие!
– Ну, значит, ты их не разгребла, – кричала Клава Сухарева, – уснула, наверно! Дежурная тоже! Заработаешь с такими!
– Как не разгребла? Все время разгребала.
– Восемь штук! – тоненько охнула Фаинка и тоже заплакала: – Ой, бедненькие! Ой, маленькие…
Женя вскочила и ринулась в птичник. Девушки стояли вокруг мертвых утят, бранились и плакали. Только Руфа молчала, нахмурив светлые брови.
Женя нагнулась, потрогала утят. Упругий пух был неживой, холодный, крошечные перепончатые лапки беспомощно вытянулись, глазки закрылись. И Женя неожиданно для самой себя всхлипнула.
– Почему? Ну почему же они погибли?
– Звонила сейчас Пожарову, – сказала Руфа, – пускай придет, скажет. И как это мы недосмотрели, простить себе не могу.
Женя после того откровенного разговора не видела Пожарова. И сейчас ей подумалось, что в последнее время у них с Пожаровым дороги что-то не встречаются. А как это случалось раньше? Идет Женя вправо – и Пожаров тут. Идет Женя влево – и Пожаров здесь… А нынче по телефону вызывать его нужно. Неужели он что-нибудь все-таки понял? Хорошо бы! И не лез бы к ней больше, и не мучил бы, и с матерью не вынуждал бы ссориться.
– Бедные, бедные, маленькие! – Женя взяла в руку мертвого утенка. – Прямо терпенья нет, как жалко…
Пожаров подошел к ней своей мелкой, неслышной походкой.
– Если бы мне когда-нибудь сказали, – начал он с усмешкой, – что Женя Каштанова, гордая девушка, перед которой жизнь так широко раскрывает двери, будет стоять и плакать над мертвым утенком, которому грош цена, я никогда бы не поверил, не смог бы поверить. И вот – факт!
– Если бы вы его кормили целую неделю, да вылавливали из поилки, да грели бы, так и вы заплакали бы! – сверкнув на него глазами, запальчиво ответила Женя.
Пожаров засмеялся:
– А глаза-то у вас действительно желтые.
– И не грош ему цена! – закричала Клава. – Он бы вырос, так уткой был бы. А утка грош, что ли, стоит?
– При чем тут грош! – плакала Аня. – Жалко ведь.
– Мы ведь обязательства взяли, – напомнила Руфа. – Нам каждый утенок дорог. Как же вы так?
– Ну, а что тут с ними? – Пожаров перевернул одного утенка, другого, третьего…
– Если они вот так у нас ни с того ни с сего погибать начнут, тогда и браться было нечего, – продолжала Руфа, – значит, не сумели, не поняли чего-то…
– Вы всё поняли и всё сумели. – Пожаров поднялся и вытер руки пучком соломы. – Вы тут ни при чем. Утята попались негодные – видите, пупки у них черные. Эти все равно жить не смогли бы. Просто яйца были авитаминозные.
– Значит, мы не виноваты? – встрепенулась Аня, вытирая глаза.
– А все-таки: почему они такие получились? – допытывалась Руфа. – И неужели этот отход обязательный? И неужели этого предусмотреть нельзя?
– Предусмотреть? – Пожаров пожал плечами. – Отчасти можно. Есть такие бригадиры-энтузиасты, которые на инкубатор бегают, смотрят, какие яйца для них закладываются, не попалось бы авитаминозное…
– А что же вы мне не сказали?! Я бы тоже съездила…
– Да! – сердито подхватила Клава. – Чего же вы молчали-то? Зоотехник тоже. И нечего усмехаться, ничего смешного нет.
– Да будет вам! – Пожаров глядел на них, насмешливо прищурясь. – Чего трагедии-то разводите? Пропали – ну и ладно. Если над каждым утенком дрожать… В больших хозяйствах это ни во что не ставится.
– И все-таки жалко. Все равно жалко, – сказала Женя, нахмурясь, – и одного жалко, а тут – восемь.
– Ох, Женя, Женя, – вздохнул Пожаров, – ну, что эти ничтожные единички среди десятков и сотен тысяч? Капля в море.
Девушки деликатно отошли, оставив Женю и Пожарова.
Одни направились кормить уток, другие пошли отдыхать, третьи побежали к озеру умываться.
– А вы как – тоже в озере умываетесь? – спросил Пожаров.
Женя быстро взглянула на него:
– Да. А что?
Пожаров отступил на шаг и оглядел ее с головы до ног.
– А вы элегантно одеты, – иронически усмехнулся он. – Лыжные штаны из-под шелковой юбки. Это что – последняя мода?
Женя покраснела, ей казалось, что она сейчас ослепнет от стыда, от злости, от смущения.
Пожаров стоял перед ней стройный, в начищенных сапожках, в белоснежной рубашке, подтянутый, а Женя – непричесанная, неумытая, с соломой в волосах… Да еще эти коричневые лыжные штаны из-под юбки.
– А потому, что ночью холодно было у озера…. вот штаны тетя Наташа и принесла, – пробормотала она, – а вообще… вам-то какое дело? Лучше бы за делом смотрели… Побольше бы утятами интересовались, чем на мои лыжные штаны смотреть.
– До свиданья, – сухо сказал Пожаров, – у меня не только ваша бригада. Никанор Васильич на совещании в районе, так что я один на весь совхоз, А у меня еще и Вера. Тот участок, извините, поважнее.
Пожаров прошелся по птичнику, проверил брудеры, заглянул в кормушки.
– Ну, что ж, все в порядке! – И снова, оглядев Женю, усмехнулся: – Эх вы, ути-ути!
Женя отвернулась. Калитка захлопнулась. Ушел. Запомнилась насмешка, блеснувшая в его глазах. Она оглядела себя и снова покраснела.
«Я становлюсь, как Вера, – растрепанная, неприбранная. Вот и ногти грязные. Неужели так надо? Нет, так не надо и так не будет. Еще два дня, если с утятами ничего не случится… Еще только два дня».
Решение со зла
О, как хорошо было дома! С каким наслаждением Женя вымылась горячей водой и улеглась в свою свежую, чистую постель, как отдыхали ее руки и ноги… Можно было спать всю ночь до утра и не вскакивать, не бежать к утятам, не тревожиться. Руфа отпустила ее. Утята подросли, стали умненькие, не тонут в поилках, не падают, дежурить уже не так трудно.
Женя лежала, закрыв глаза, слушала, как за окном в теплых сумерках пошумливает под легким ветром старая груша… Она приподняла веки – комната была озарена слабым светом луны и отблеском придорожных фонарей, на окнах ветер надувал белые полотняные занавески, и Жене уже начало мерещиться, что она плывет в лодочке, и белые маленькие паруса надуваются над ее головой, и в нежном плеске волн звучит голос Арсеньева, зовущий ее…
Дрему прервал легкий шум на лесенке за дверью, шаги, разговор шепотом…
– Но должна же я с ней поговорить. Я ведь все-таки мать.
– Завтра поговоришь. Если ты мать, дай отдохнуть человеку.
– Нет, я должна…
– А я не пущу. Я хоть и не мать, а всего только тетка, однако не пущу…
Шум затих.
«Спасибо тете Наташе!» – подумала Женя, блаженно засыпая.
Утром Елизавете Дмитриевне тоже не удалось поймать Женю. Женя долго мылась, тщательно причесывалась и одевалась. Елизавета Дмитриевна решила, что «утиное Женино сумасшествие» кончилось. Собирая на стол, она с удовольствием думала, как не торопясь и подробно она выскажет свое мнение о том, что делает Женя. И отец выскажет. И до чего-нибудь они наконец договорятся.
Но, когда Савелий Петрович пришел завтракать и самовар стоял на столе, оказалось, что Женя давно позавтракала и исчезла.
– Нет, это невозможно, – чуть не плача, закричала Елизавета Дмитриевна, – это все Наталья! Зачем ты ей дала завтракать? Почему не сказала мне, что она уходит? Ты разрушаешь мою семью. Кто тебе дал право?
– Ладно, ладно, – спокойно ответила тетя Наташа, наливая чай Савелию Петровичу, – человек на работу спешит, не на гулянье. Что же ей, не евши идти? Ты-то вот еще и не работала, а есть садишься.
– Савелий, почему ты молчишь?
– А что же говорить, если она уже ушла?
– Нет, это невозможно… – И Елизавета Дмитриевна вдруг всплакнула: – Все всё делают, как хотят, а я вроде кошки в доме.
Женя, отдохнувшая и веселая, бежала на птичник. Она торопилась, досадовала, что так далеко до озера, ей уже не терпелось узнать, все ли там в порядке, все ли благополучно. Ей казалось, что она бог знает сколько времени не была на птичнике, и, к удивлению своему, чувствовала, что соскучилась обо всех – и о Руфе, и об Анечке, и о Фаинке, и о Клаве Сухаревой… А что всего удивительней – кажется, и об утятах соскучилась.
Она не заметила, как пробежала лесом, не заметила его утренней прелести, не услышала пения птиц и шелеста листьев. Но вот сбежала с бугра – и вдали засветилось озеро. И словно домой вернулась, когда подошла к калитке птичника.
На берегу было солнечно, мирно, светлая зыбь дрожала у отмели. И утята, ее утята, еще совсем пуховые, с чуть намеченными перышками в хвосте, качались на этих зыбульках, как поплавки.
– Ах вы мои милые, когда ж вы успели научиться плавать? – засмеялась Женя. – Смотрите пожалуйста!
– Ты пришла, – сказала Руфа, – теперь я пойду. Не могу больше. Ждала тебя.
– Иди, Руфа, иди! – Женя только сейчас увидела, как осунулась и побледнела Руфа за эти последние дни, какие усталые у нее глаза. – Иди отдохни хорошенько, я отоспалась, у меня опять сил сколько хочешь. А эти-то, – она кивнула на утят, – плавают, а? Никто не учил, а плавают.
Руфа вяло улыбнулась:
– Катька тоже отоспалась. Вон пришла. Не знаю – принимать обратно в бригаду? Ведь в самое трудное время ушла, бросила. Девочки ворчат. Подумай тут. Потом решим.
– По-моему, пусть работает, – сказала Женя, – ушла, потому что, значит, никак не смогла. Но только запишем это в нашем бригадном дневнике. Давайте дневник такой заведем и все туда будем записывать. Как думаешь?
– Давайте. Но если ты считаешь, что Катьку надо оставить, – давай оставим. Работать веселее. Да и полегче.
Работать стало вообще легче. Снова можно было ночевать дома, ночное дежурство лишь два раза в неделю. Появились и свободные дни. И как только они появились – опять все нерешенное, все недодуманное встало перед Женей.
«Будто птицу, меня ловят, – думала она. – Мама подкарауливает… Отец совсем не понимает меня. Или не хочет понимать? Да, конечно. Он умный, он понимает. Но делает вид, что не понимает. А Григорию Владимировичу я не нужна. Да, я ему не нужна. Иначе разве он мог бы не видеться со мной так долго?»
За все это время она видела его два раза. Один раз на собрании в клубе. Речь шла о поездках кружка самодеятельности в полевые бригады. Женя сидела в самом дальнем углу, слушала и не слышала, о чем говорит Григорий Владимирович, только видела его лицо, его светлые волнистые волосы, глаза. Она сидела с неподвижным лицом, изо всех сил стараясь скрыть волнение, внутри у нее все дрожало. А когда взгляд Арсеньева отыскал ее и глаза их встретились, Женя вспыхнула и опустила ресницы. Так и сидела с горящим лицом, ни на кого не глядя, – ей уже казалось, что все всё увидели и поняли и в душе посмеиваются над ней. Не дождавшись конца собрания, она тихонько вышла и убежала домой.
В другой раз Женя видела его только издали. Она возвращалась с птичника, а он мчался на велосипеде по дальней полевой дороге. Долго смотрела ему вслед, до тех пор смотрела, пока его выгоревшая солдатская гимнастерка, которую он почему-то любил, не скрылась среди молодых зарослей кукурузы.
«Если бы он знал, что я стою тут и смотрю на него!» – с тоской думала она. Но то, что хоть издали увидела его, сделало этот день праздником…
Теперь, когда стало больше свободного времени, можно было позаботиться о своей внешности. Женя попросила тетю Наташу сшить ей комбинезон.
– Знаешь, такой синенький сатиновый комбинезончик, чтобы со всякими кармашками, с молнией. Это очень красиво – на работу ходить. А то ну в чем же? В платьях – неудобно, в плохом – некрасиво, в хорошем – жалко. И холодно ночью. А штаны эти лыжные… Пфи!
– Тьфу на твои лыжные штаны. Безобразие одно.
– Вот и я говорю – одно безобразие. Я их не надену больше. Только людям на смех. А если бы комбинезончик – и тепло и красиво. Правда, тетя Наташечка?
– Конечно, правда.
– Значит, сошьешь?
– Да ладно уж. Женя вскочила:
– Ура! Бегу за сатином. Где мама?
– Вот она – мама, – важно сказала Елизавета Дмитриевна, входя на терраску из сада, – наконец-то и маму вспомнили. Очень хорошо, что ты дома, – пора поговорить по-человечески.
– Мама, ну подожди ты, все какие-то разговоры у тебя. Дай мне денег, я за сатином…
– И у меня и у отца к тебе разговор, – прервала Елизавета Дмитриевна. – Я бы и сама могла поговорить с тобой. Но я ведь для тебя не авторитет.
Отец был дома. Елизавета Дмитриевна позвала его, и Савелий Петрович, к удивлению Жени, без всяких отговорок оставил свои дела и вышел к ним на террасу.
– Э! Вот как – все в сборе, оказывается. В кои-то веки повидаешься наконец со своей семьей. Одним семья дышать не дает, а тут рад до смерти, если свою собственную дочку повстречаешь.
– Я пойду, – поднялась было Женя.
– Как это? – Мать решительно преградила ей дорогу. – Как это – пойду?
– Мне же в магазин нужно сбегать… Тетя Наташа…
– Опять – тетя Наташа. Ты, Наталья, кажется, ни о чем не думаешь и ничего не соображаешь.
– Да где уж мне! – Тетя Наташа махнула рукой. – Кабы соображала, давно бы меня здесь не было… Кваску принести? – обратилась она к Савелию Петровичу.
– Кваску, кваску, Наталья Дмитриевна, – Савелий Петрович, все еще потирая руки, ходил по террасе, – в такую жару кваску – ох, хорошо.
«Ну, чего тянут? – с тоской думала Женя. – Решили выяснять отношения, так выясняли бы».
Видно, эта же мысль томила и Савелия Петровича. Кроме того, его ждали дела.
– Так что же, дочка, – начал он, наливая в стакан квасу, – к чему же ты пришла в конце концов? Что думаешь делать, как жить?
Женя пожала плечами:
– Поработаю в совхозе… Поступлю на заочное. А года через два мы с Руфой…
– Опять с Руфой! – охнула Елизавета Дмитриевна. – Она хорошая девушка, но…
– …поедем учиться, – продолжала Женя. – Анна Федоровна сказала, если хорошо себя на работе зарекомендуем, то партийная организация поможет нам поступить в вуз.
– Так, – Савелий Петрович иронически усмехнулся, – Анна Федоровна и сюда вплелась. Ясно.
– Женя, – предупреждающе сказала Елизавета Дмитриевна, – имей в виду – ты потеряешь Пожарова. Он мне намекнул, что его жена-утятница не устраивает.
– Что?! – Женя вскочила, глаза у нее засверкали. – И этот еще тут? Так вот скажите ему, что я останусь утятницей. Да! Да! Останусь у-тят-ни-цей. Именно так я и решила. И прошу вас обоих – не упоминайте при мне его имени.
И вообще, я больше этих разговоров слушать не хочу и не стану.
И она быстрым, твердым шагом ушла с террасы. Забыв о сатине, побежала к Руфе.
Озеро встретило ее мирным сиянием воды и негромким утиным разговором. Тускло-зеленые камыши неподвижно склонялись к воде. Островок с березами и липами, отчетливо повторяясь в озере, проложил чуть не до самого берега свою прозрачную зеленоватую тень, в которой гасло слепящее полуденное солнце.
По берегу от кормушки к кормушке ходила Руфа. Утята, уже совсем беленькие, лишь с желтым оттенком на шейках, переваливаясь, спешили к кормушкам, смешно шлепая своими розовыми лапками. Руфа ласково разговаривала с ними: «Скорей, скорей, мои лапки. Скорей, скорей, мои ути. Вот какие они у меня стали умные! Вот какие они у меня стали большие!»
Женя чувствовала, как эта мирная тишина, и этот ласковый говор, и эти маленькие, доверчиво бегущие за Руфой уточки – все это, уже привычное, знакомое, успокаивает ее душу.
Руфа увидела Женю, остановилась. Она глядела на нее из-под голубого шарфика, тревожно приподняв выгоревшие на солнце брови.
– Ты чего? Случилось что-нибудь?
– Случилось, – ответила Женя. – Жених от меня отказался.
– Ну?! – весело удивилась Руфа. – Неужели у него до ума дошло?
– Руфа, подумай, ему, оказывается, утятницу не нужно. А я-то дура, я-то думала, что он и в самом деле меня любит. Еще жалела его иногда. А? Ты подумай!
Руфа откровенно смеялась и радовалась.
– Да чего же ты злишься? Это же счастье для тебя. Такой дурак у тебя столько времени на дороге стоял. Да что ты! Развеселись же.








