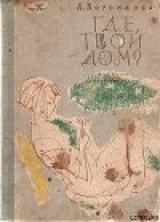
Текст книги "Где твой дом?"
Автор книги: Любовь Воронкова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Пожаров получает пощечину
– Страну кормить надо, – сказал Никанор Васильевич Руфе, – для того и работаем, для того и растим животное. Ведь не для забавы его мы растим.
Но Руфа все это хорошо понимала и без Никанора Васильевича. Однако когда возле птичника зашумела машина и шофер Гриша прогудел, давая знать, что приехал, – у Руфы сбежал румянец с лица.
Сегодня на птичнике собралась вся бригада – все шесть человек. Утки толпились у кормушек. Они недовольно бранились – время поесть, а в кормушках нет ничего.
Но девушки, молчаливые, озабоченные, вместо того чтобы дать корм, отделили от стаи несколько сотен и потихоньку начали загонять в птичник. Утки сначала удивленно крякали, поглядывая на своих птичниц то правым, то левым глазом – смотреть прямо вверх они не умели.
«В чем дело? – спрашивали они. – Мы хотим есть, мы хотим на воду, мы хотим ходить по берегу – для чего это с утра загонять нас в птичник?»
Сначала крякали тихонько. Потом начали повышать голос. И когда загнали их в маленький, тесный отсек и начали хватать по две, по три прямо за шею и передавать через окошко в машину, утки подняли истошный крик. Они метались по отсеку, старались забиться куда-нибудь подальше в угол, совались под ноги своим птичницам и кричали, кричали, кричали.
Никанор Васильевич стоял у самого окна и передавал уток в машину. Рабочий около машины принимал их – бросал в кузов, не глядя, куда и как они упадут. Утки летели, как белые мешочки, шлепались об пол кузова, но тут же вскакивали, взмахивали крыльями и продолжали отчаянно кричать, вытягивая шеи. Их крик оглушал птичниц и перевертывал им сердце.
Руфа первая не выдержала.
– Да что ж это такое! – сердито, дрожащим голосом сказала она. – Что ж вы так-то? Ведь они живые!
– Некогда с ними цацкаться, – возразил Никанор Васильевич, – не стеклянные, не разобьются.
– Да потише вы, потише! – со слезами попросила рабочего маленькая Аня Горкина. – Чего вы швыряете их? Они и там еще натерпятся.
– Скорей, скорей, девушки, – поторапливал Никанор Васильевич. – Сейчас еще две машины придут. Нельзя задерживать, сами знаете.
Машина отошла, увозя живой, белый, просящий защиты и плачущий груз. Девушки, мрачные, ошеломленные, вытирая слезы, вышли на выгон. Женя была среди них. Она молчала.
– Еще загонять? – спросила Руфа, хмуро глядя на Никанора Васильевича.
Никанор Васильевич вытирал платком вспотевшее лицо, намокшие седые виски.
– Ну, а как же, – ответил он, – загонять, и немедленно.
Это была пытка. Ведь они этих уток вынянчили, выходили, заботились о них, как о маленьких детках… И утки знали их, привыкли видеть от них только ласку, и корм, и защиту от всяких врагов – от бродящих по ночам кошек, от ворон и всяких неведомых зверей, грозящих им в ночные часы. А теперь сами, вместо того чтобы вступиться, гонят их куда-то, хватают за шеи, бросают…
– Эту не дам, не дам! – закричала вдруг Фаинка. – Куда хватаете такую хорошую? Я ее у коршуна отняла, не дам! Она крупная, на племя пойдет.
И, схватив свою любимую утку, выскочила из отсека и выкинула ее из окна на выгон.
– Беги, – крикнула она утке, захлопав в ладоши, – беги отсюда!
Девушки сочувственно переглянулись. Но Никанор Васильевич нахмурился.
– А вот это уже – детство. Пора взрослыми быть, пора трезво смотреть на вещи. Вы же знали, что они на мясо пойдут.
– А если бы мы их не любили… если бы не жалели… – у Руфы прерывался голос, – разве могли бы мы их так выходить?
– Уж слишком вы трезвый, как я погляжу, – ввязалась резкая Клаша Сухарева. – «Мясо, мясо»! Это вам – мясо. А нам – наши утки!
– Не понимаете вы ничего, – плача подтвердила Аня, – ничего-то, ничего не понимаете.
– А еще до седых волос дожили… – проворчала Катя.
Женя молчала. И только один раз выдала свои чувства. Поймав двух уток, она прижала их к груди, подержала так, уткнувшись в их белые шелковые перья. И потом отдала. Сжав дрожащие губы, она молча вылезла из отсека и ушла из птичника.
Машины приходили и уходили. Все утро над птичником стоял истошный утиный крик.
Наступил обеденный перерыв. Никанор Васильевич с последней машиной уехал в совхоз. Девушки знали, что сегодня домой сходить не придется, принесли обед с собой. Они уселись около птичника на сухой соломе, разложили все, что принесли, – хлеб, лепешки, яйца, бутылки с молоком. Тетя Наташа сунула два пирога с кашей и луком – Женя любила такие пироги. Но разложили еду, а есть не могли.
– Кто пирогов хочет? – сказала Женя. – Берите.
Катя отломила кусок, откусила.
Соблазнилась и Фаинка, взяла пирог, но тут же положила его обратно, уткнулась лицом в ладони и заплакала в голос:
– Уточки мои, уточки! Ой, мои уточки!
– Да ну вас, – проворчала Руфа и, оставив свой обед, встала и ушла на берег.
Женя сидела и молчала, обхватив руками колени. Наверно, никого и ничего любить нельзя. Даже утку. Надо быть глухой и немой, как вон та колода, что лежит под ветлами.
В эту печальную минуту, когда девушки сидели над своим нетронутым обедом и плакали, хлопнула калитка, перед ними появился Пожаров.
– Привет! Ну, как – сдаете?
– С вашей помощью, – язвительно ответила Клава.
– Что ж поделаешь, что ж поделаешь, – Пожаров развел руками, – не разорваться мне. Вы не одни у меня.
– А мы и не у вас вовсе, – оборвала его Аня, – мы у Никанора Васильича.
– Рад бы. Да вот Никанор-то Васильич и прислал меня сюда. У него голова разболелась, а Пожаров разрывайся.
– А мы и без вас можем, – насмешливо глядя на него припухшими от слез глазами, сказала Катя, – а то, чего доброго, разорветесь еще.
– Вы нам вот что скажите, – спросила Клава, – получим мы какую премию за своих уток или нет?
Женя не вмешивалась в разговор. Она слышала голоса, но смысл разговора не доходил до нее. Так вот шумят деревья, поют птицы, шуршат камыши… Тяжелые впечатления дня легли на ее душу. Арсеньев ушел из совхоза, перевелся на другую работу. Отец объявил ей, что он этого человека знать не хочет и на порог к себе не пустит. А она все равно любит Арсеньева и даже еще больше любит, чем прежде. И Арсеньев сказал, что, если она его любит, пусть идет к нему… А если она уйдет к нему – значит, надо порвать с отцом и с матерью, с родным домом…
Всю ночь она пролежала с одной этой мыслью. Что делать? Как поступить? Она не может отказаться от Арсеньева. Но и порвать с отцом не так-то легко. Ничего не говоря, она встала рано утром и пошла на птичник.
Она не плакала, но все ее существо словно оцепенело от горя. Она ловила своих уток за шеи и отдавала их.
На минутку Женя присела на скамейке возле птичника. Пожаров сел рядом.
– Вы тоже из-за уток страдаете? – обратился он к ней. – В конце концов, утки не главное в жизни,
– Да, – безучастно ответила Женя.
– Мне надо поговорить с вами, Женя. В последний раз.
– Да.
– Я вам все объясню. Вы поймете меня.
– Да.
Девчонки, переглянувшись, направились в сторонку.
– Я в последний раз обращаюсь к вашему здравому смыслу. Женя…
– Я буду утятницей.
– Ну хорошо, ну пожалуйста. Я не об этом сейчас. Я хочу сказать, что мы с вами не должны расставаться. Я понимаю – вам не импонирует мое положение. Конечно, что такое зоотехник, да еще младший? Но, Женя, даже великие люди не родятся сразу великими. Вы не ошибетесь, если выйдете за меня.
– Я не люблю вас.
Пожаров криво усмехнулся.
– Странно, конечно… То есть я хочу сказать – жаль. Но не это же главное. Главное – трезвый, умный союз двух людей, которые в жизни поддерживают друг друга, помогают друг другу. При таком союзе люди многого могут добиться. Я ведь не собираюсь навсегда остаться младшим зоотехником. Да и вообще зоотехником оставаться не собираюсь. Я многого могу достичь. Только вот сейчас мне нужна маленькая помощь, поддержка…
– Поддержка моего отца?
– Ну, что вы, Женя, при чем тут ваш отец? Я думаю только о вас, вы такая умная, у вас такой сильный характер…
– А я люблю другого человека.
– Да? Вот как? Хм… Жаль, конечно. Но если глядеть на это с точки зрения разума, то я стеснять вас не собираюсь… Это не мешает союзу, который я вам предлагаю.
Женя внимательно поглядела на него.
У птичника послышался шум машин. Женя вскочила. Снова начинается пытка, снова надо хватать уток за шею и кидать в кузов…
– Куда же вы? – Пожаров заслонил ей дорогу. – Вы же не ответили мне ничего.
У Жени сверкнули глаза.
– Не ответила?
Она закусила губу и наотмашь ударила его по щеке. Замахнулась было еще, но Пожаров поспешно отступил.
– Нет, зачем же… – пробормотал он. И, взглянув испуганно на девушек – не видели ли они? – торопливо направился к калитке.
Девушки видели. Их смех долго еще преследовал Пожарова, пока он пробирался сквозь березняк на дорогу.
Жизнь берет свое
– Что ж, так все и будешь молчать как камень? – сказала Руфа, когда они остались с Женей одни на сумеречном сыром берегу, среди своего сильно поредевшего стада. – Что тебе Григорий Владимирович сказал?
– Он сказал: вот устроюсь на работу – и приедешь ко мне. А еще сказал… – Женя вздохнула, – если трудно будет дома, переходи сразу к бабушке Софье, и все. Сказал, что она примет…
– Ну, что ж? – подумав, сказала Руфа. – По-моему, это хорошо. Только все-таки еще надо поговорить с отцом. Может, он смягчится, тогда не надо будет и к бабушке Софье бежать, и вообще… Ведь и отца жалко тоже.
– Жалко, – у Жени дрогнул голос, – даже и сказать не могу… как жалко… Он меня любит очень.
Женя замолчала, чтобы скрыть слезы.
Пасмурный вечер сгущал тени, вода становилась свинцовой, лиловые блики лежали у дальнего берега. С деревьев, стоящих на островке, изредка слетали поблекшие листья и медленно падали в воду.
– Уже и липы начинают облетать… – заметила Руфа. – И как это дерево всегда торопится! Вот и ясень тоже – ты заметила? Еще сентябрь только, а они уже скорей листья ронять.
– Мне умереть хочется, – Женя неподвижными глазами глядела на застывшую в сумерках воду, – вот легла бы и умерла.
Руфа обняла ее за плечи и решительно повернула от озера.
– Даже и спорить с тобой не буду. Пойдем-ка готовить корм. Когда человек не в себе и несет всякую чепуху, зачем с ним спорить? Смешно!
– Я не хочу жить больше.
– Работать. Работать надо. Работать надо – ты жить не хочешь, а утки жить хотят. И что ты за человек – как что-то не заладилось, так сейчас же умирать. Умереть-то и дурак может.
Руфа заставила Женю вертеть кормодробилку. Чем больше устает человек, тем меньше одолевают его думы. Пусть устанет хорошенько. Работа помогает во всем. И прежде всего помогает справиться с душевной неурядицей.
«Пожалуй, и дежурить ее оставлю сегодня, – решила Руфа, – пускай полуночничает с утками…»
Женя осталась без возражений, хотя и не ее очередь была дежурить. Ей было все равно. Да, пожалуй, легче бродить ночью по берегу, сидеть под навесом, кормить на заре уток, разговаривать с ними, чем идти домой.
Едва ушла Руфа, Женя легла лицом вниз в сырую высокую траву. Туман, наползавший с озера, заволакивал берег, песок, траву, накрывал с головой… Тоска была такая, что казалось, никаких сил не хватит одолеть ее.
И вдруг среди этой мягкой, затаенной тишины резко вскрикнула утка. И сразу целый хор утиных голосов рванулся из-под навеса – утки звали, кричали, вопили.
Женя вскочила. Промокшая, стуча зубами от холода, она бросилась к навесу. Утки стояли, вытянув шеи, и кричали. С крыши сорвалась бесшумная тень и, пролетев через проток, скрылась в туманных вершинах острова.
– Сова, что ли? – Женя плохо разбиралась в птицах, особенно в ночных. – А может, филин… Ах, мерзавка, – ругала она себя вслух, – лежит там, умирает! А тут хищники вьются. Ты жить не хочешь, а утки хотят. Я тебе полежу! Все бы так – как горе, так в траву бросаться. И что бы это было тогда? Вера же вон живет, в траву не бросается…
Она прошла в кладовую, взяла Руфину теплую жакетку и снова вернулась к уткам.
…Арсеньев вернулся через два дня. За эти два дня он так осунулся, что бабушка Софья чуть не заплакала.
– Эко перевернуло-то тебя. Как сквозь огонь прошел.
– Ничего, – ответил Арсеньев, – просто устал немного.
Переодевшись с дороги, отказавшись обедать – ведь это же долго! – Арсеньев поспешил к Жене на птичник.
Дорога показалась очень длинной. За эти два дня чего только не лезло ему в голову. Почем он знает, – может, отец сумел убедить Женю, что он ни в чем не виноват, а что, наоборот, это Арсеньев склочник и клеветник. Почем знать, – может, Женя уже раздумала и отказалась от него – ведь Каштанов-то все-таки ей отец. Может, он придет сейчас, а она отвернется?
Он миновал поля, поднялся на косогор. Вниз по косогору сбегала березовая рощица – к самому птичнику. От озера в рощицу долетали девичьи голоса. Кто-то тоненьким голоском пел песенку. Не Женя, конечно. Это было бы непостижимо, если бы Женя сейчас могла петь…
Арсеньев подошел к калитке и тотчас увидел Женю. Она стояла, окруженная утками, собираясь кормить их. Тоненькая фигурка в синем комбинезоне перегнулась под тяжестью большой, набитой месивом бадьи. У Арсеньева заныло сердце – что-то безнадежное и беззащитное было в этой фигурке, в ее движениях, в ее чуть склоненной голове.
– Женя! – негромко окликнул Григорий.
Женя подняла голову. Глаза на осунувшемся лице казались огромными. Она поставила бадью и, не сводя взгляда с его лица, направилась к нему. Она шла молча, без улыбки, но Арсеньев увидел и понял, что ничто не свете не сможет разлучить их.
Позже, провожая домой Женю, он рассказал о колхозе, где собирается работать. Колхоз небогатый. А клуб колхозный – просто изба, да еще запущенная, грязная, с выбитым окном. Один там разбуянился как-то в праздник, его вывели за дверь. Так он взял кирпичину – и в окно. Так и стоит этот «клуб» с разбитым окном. Много придется помучиться, положить сил, чтобы изба стала клубом.
А пока что туда собираются только поплясать, да и то если на улице дождь. Ни газет, ни журналов – все растащено. Газеты идут старикам на курево. Из журналов – есть такие охотники – вырезают картинки, на стены клеят. Зря тратятся колхозные деньги.
– Знаешь, Женя, я даже рад, что все так случилось. Я там гораздо нужнее, гораздо. А разве не интересней работать там, где ты очень нужен, а? Трудно будет, да. Но ребята хорошие есть, помогут.
– И я помогу, – не поднимая глаз, тихо сказала Женя.
Решение
– Наконец-то изволила явиться! – Елизавета Дмитриевна поливала в садике душистый табак. – Ведь ты же дежурила ночью, где же пропадала весь день?
– Ты льешь себе на платье из лейки, – сказала Женя и вошла в дом.
Елизавета Дмитриевна смущенно посмотрела на свое намокшее платье и продолжала поливать цветы. Скажите пожалуйста, она даже не отвечает. Ну, нет, она научит эту девчонку разговаривать с матерью!
Полив цветы, она вошла в комнату и заметила, что в доме до странности тихо. Сестра Наталья стояла у окна и молча глядела в темнеющий сад, хотя ясно было, что она глядит и ничего не видит. Елизавета Дмитриевна подозрительно посмотрела на нее.
– В чем дело? Что это все молчат сегодня?
Наталья слабо отмахнулась от нее рукой.
– И не отмахивайся. Что происходит в доме? Одна проходит мимо, другая стоит и молчит. Я хочу знать, что происходит? Где Женя?
– У отца.
– С работы – и сразу к отцу? И там секреты?
Елизавета Дмитриевна толкнулась в кабинет Савелия Петровича. Дверь была заперта. Елизавета Дмитриевна принялась стучать. Стекла в окнах вторили ее стуку дробным звоном.
Савелий Петрович открыл дверь.
– Пре-кра-ти.
Елизавета Дмитриевна сразу утихла:
– Что с тобой, Савелий? Ты заболел? На тебе лица нет!
Она отстранила мужа и вошла в кабинет. Женя сидела у стола – плакала, закрыв лицо руками.
У Елизаветы Дмитриевны подкосились ноги. Она села на первый попавшийся стул, беспомощно переводя жалостный взгляд то на дочь, то на мужа.
– Я уже сказал тебе: меня спросили – я ответил, – продолжал Савелий Петрович начатый разговор, – и опять повторяю – брать на себя чужие ошибки не намерен. И что это вообще за трагедии тут разыгрываются?
– Ты мне только скажи, – вытирая платком заплаканное лицо, сказала Женя, – ты правду им сказал, тем, в газете, или нет?
– Как сказал, так и сказал. Ты что это взялась меня допрашивать?! Если я так сказал, значит, так и было.
Но по тому, как отец горячился и волновался, вместо того чтобы объяснить что-нибудь, Женя поняла, что все-таки это было не так.
– А ведь ты меня учил не лгать, – сказала она.
– Женя! – возмущенно воскликнула мать.
Но Женя не слышала ее.
– Да что это, в конце концов?! – не выдержал и Савелий Петрович. – Я всю жизнь поступал так, как считал нужным. И впредь буду поступать так же. И все. И за-по-мни это!
– Значит, ты все-таки лжец, – сказала Женя, – значит, ты из тех, с кем в разведку не ходят.
У Савелия Петровича глаза стали бешеными. Он хлопнул ладонью по стулу.
– Ты не смеешь! Девчонка! Наслушалась сплетен! Что ты понимаешь в делах? Суешься, где тебя не спрашивают… Ты лучше спроси у Арсеньева, как он твоего отца в области опозорил. Кляузу написал.
– Не кляузу, а правду.
– И ты его оправдываешь? Ну конечно, умнее его никого нет и лучше его никого нет. Еще бы!
Но Женя уже не слушала. Далеким, безучастным взглядом посмотрела она на отца и медленно вышла из кабинета. Мать что-то говорила ей, но Женя, не отвечая, закрыла за собой дверь.
Тетя Наташа обернулась к ней.
– Укладывать?
Женя кивнула головой:
– Только поскорее, тетя Наташечка.
И бросилась наверх по крутой скрипучей лесенке в свою девичью комнату, которую сегодня покидала навсегда.
Уходить из родного дома нелегко, хотя бы и к любимому. Женя растерянно бродила из угла в угол, собирала какие-то мелочи: старые открытки, приобретенные еще в седьмом классе, ниточку бус, чулки, разбросанные по всем местам, – привычка, от которой ее никак не могла отучить тетя Наташа… Собирала все это и засовывала в свой маленький школьный портфель. Школьные записи, которые могли еще пригодиться, любимые книги, учебники – это она сложила аккуратной стопкой, тетя Наташа потом принесет.
Собравшись, она остановилась у своего маленького открытого окна.
«Вот и все, – думалось ей, – кончилось детство. Это уже не мой дом. Не мой сад. Не моя груша… Не моя семья…»
На старой груше, которая всю жизнь заглядывала в ее окно, уже появились блеклые, желтые и лиловые листья. Маленькие жесткие плоды торчали кое-где на черных корявых ветках. Всю жизнь Женя собирала эти маленькие вязкие груши, отыскивая их в траве. А теперь они будут валяться там и гнить. Одна только Женя могла их есть.
«Это уже не мой дом… А где мой дом? У бабушки Софьи?»
Внизу нарастала ссора. Мать кричала на тетю Наташу:
– Я знала. Я так и знала, что без тебя тут не обошлось. И как еще я живу на свете – не знаю. Все, все хотят загнать меня в гроб, а я живу.
Женя спустилась вниз. Она оделась и взяла чемодан из рук тети Наташи. Мать попыталась отнять чемодан:
– Не дури, Жека, опомнись!
Женя осторожно отвела ее слабые руки.
– Куда ты идешь из своего дома?
– Мой дом не здесь.
– Да где же, где этот твой дом?
– Там, где я буду жить, где буду работать, где будет моя семья. Лишь бы любить и уважать – уважать! – тех, с кем живешь под одной крышей.
Женя обняла ее, поцеловала – может быть, в первый раз в жизни – и сошла с крыльца. Тетя Наташа помахала ей рукой.
– Савелий, – закричала Елизавета Дмитриевна, – ты посмотри! Ты посмотри – она же уходит из дома. Что же ты молчишь там? Выйди, останови ее!
Савелий Петрович не вышел. Он стоял у окна и смотрел, как уходила Женя. Она шла не оглядываясь по красной от заката глинистой дороге, чемодан слегка оттягивал ей руку. Она шла с поднятой головой, и ветерок шевелил темные прядки волос. Светлые листья слетали с деревьев, и, словно бабочки, вились над ней, и падали ей под ноги.
Все дальше и дальше уходила Женя, уходила совсем, и закатные сумерки понемногу заволакивали ее тонкую одинокую фигуру… Вот она уже скрылась за углом дома, скрылась, растаяла, а Савелий Петрович все стоял и все глядел в ту сторону, все еще не мог поверить, что Женя, его дочь, ушла от него, ушла совсем, навсегда, не простившись и не простив.
– Как жестоки дети. Как они безжалостны…
Савелий Петрович отошел от окна. Он вдруг почувствовал себя старым и слабым. И впервые задумался о том, как счастливы люди, которые не боятся смотреть людям в глаза, и прежде всего – прямо смотреть в глаза своим детям. Ведь молодость не знает компромиссов. И разве он сам не был когда-то таким же, как Женя, когда даже самая маленькая ложь заставляла его презирать человека? Когда же и как утратил он ту принципиальность, из-за которой сейчас его дочь, не простясь, уходит от него?
И, может быть, пройдут дни, пройдут годы, все сгладится, со многим люди примирятся, многое забудется. Но этих минут, когда он стоял у окна и смотрел, как его дочь уходила из дома, Савелию Каштанову, пожалуй, не забыть до самой смерти.








