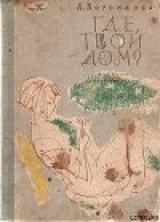
Текст книги "Где твой дом?"
Автор книги: Любовь Воронкова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Прием у Веры Грамовой
Колокольцевы жили в стороне от совхоза, над озером. Их дом стоял на крутом косогоре – старый, бревенчатый, с маленькими окнами. Возле дома ни деревца, ни кустика, и стоял он как-то сиротливо, словно растерялся от того, что попал сюда, на косогор, и не знает, что делать дальше.
– Руфа! Руфина-а!
Женя кричала изо всех сил, но дом Колокольцевых словно оглох. Только окошки его задумчиво глядели из-под старых резных наличников.
– Дома, что ли, нет никого? – пробормотала Женя, взбежав на косогор. – Что-то тихо как!
Но тут на крылечко вышла маленькая сестренка Руфы – Сашенька, с большой чумазой куклой в руках.
– Руфа дома, Сашенька?
– Ага, дома. С отцом ругаются.
– Как? Почему?..
Входить или не входить? Но Сашенька уже закричала:
– Руфа, к тебе Женя директорова пришла!
Колокольцевы были дома. Плотник Степан Васильевич сидел, положив на стол свои большие натруженные руки и слегка понурив густоволосую голову. Жена его неслышно возилась у печки. Лида, сестра Руфы, школьница, гладила белье. Братишка Витька сидел, уткнувшись в книгу. В доме стояла какая-то настороженная тишина, будто только что здесь говорили, волновались, сердились, может быть, а потом вдруг сразу все затихли и углубились в свои мысли.
Женя поздоровалась, внимательно поглядела то на одного, то на другого.
– А Сашенька сказала, здесь у вас шумно…
– Да, вроде и так, – ответил Степан Васильевич, разглядывая свои узловатые руки, – семейные дела решаем.
– А что же еще решать, – сказала Руфа, – разве не решили? – Голос ее дрогнул, и она опустила ресницы, чтобы не видели подступивших к глазам слез. – Мне-то легко, что ли? А они еще и сбивают!
Степан Васильевич как-то жалобно крякнул и полез в карман за табаком.
Мать Руфы, невысокая худенькая женщина с загорелым безбровым лицом и синими глазами, отошла от печки, вытирая полотенцем руки.
– Так что же плакать-то, Руфина, – сказала она с холодком. – Мы тебе свое говорим, а ты – свое. Может, мы с отцом обижаем тебя, ну что ж делать. Поневоле обижаем. Легко, думаешь, было нам помогать тебе, пока ты училась? Ведь не одна ты у нас, вон вас сколько! Думали до настоящего дела тебя довести. Чтобы с образованием. А ты раз-два – и все по-своему повернула.
– Да разве я по-своему? – негромко сказала Руфа. – По-своему-то я и разговора бы не завела. Поехала бы, да и все. Но ведь я же комсомолка, мама! Все наши комсомольцы остаются, все!
Мать вернулась, повесила полотенце на гвоздь.
– Если считаешь, что без тебя совхоз пропадет, оставайся. О нас что же думать? Наше дело – работать. Обидно, конечно, учить человека одиннадцать лет, а потом – на тебе: утятница.
Руфа справилась со слезами, подняла на мать ясные глаза.
– Да не навек утятница, мама! Я же учиться буду. На заочное поступлю. И настоящее образование все равно получу! Нельзя мне уезжать сейчас из совхоза, а они вот никак понять не хотят.
Степан Васильевич молчал, тщательно свертывая цигарку.
– Ну что ж, тебе виднее, – вздохнула мать, – только смотри потом не жалуйся.
– Не пожалуюсь, мама, не пожалуюсь!
– Храбришься, – неожиданно всхлипнула мать, – а у самой-то на сердце кошки скребут!
– А что же я – чурка деревянная, что ли?..
– Да ладно уж вам, – жалобно сказала Лида, – а теперь и плачут еще.
Витька, который давно уже сидел, не перелистывая страниц, захлопнул книгу, вскочил и вприпрыжку ринулся из избы на улицу. Все ясно: Руфа остается, Руфа никуда не уедет, и это самое лучшее, что могло сегодня решиться.
– Я к Вере сейчас иду, – сказала Руфа, обратившись к Жене. – Сходим вместе?
Женя рада была выйти на улицу. Боялась, что мать Руфы спросит: «А что, Женя тоже остается?» Что могла бы ответить Женя на это?
Девушки направились по дороге к озеру.
– Значит, ты окончательно решила остаться? – спросила Женя, покусывая травинку.
– А как же мне еще решать? – мягко возразила Руфа. – Мы же вчера комсомольское слово дали Савелию Петровичу.
– А как же я?
– А ты поезжай. Ты вчера сидела и молчала. И правильно. Если решила ехать, зачем себя связывать?
Они долго шли молча.
– Зачем тебе к Вере? – спросила Женя, когда вдали, сквозь кусты ракитника, заблестело озеро.
– Ну, во-первых, ты же знаешь – она в Москву едет. Интересно, как это получилось? Какое приглашение прислали? А потом… у меня дело…
– Секрет?
– Что ты! Просто прикидываю, если решила остаться в совхозе, то на какую работу пойти? Может, стоит утками заняться? Вот и хочу приглядеться пока…
– Утками? И станешь тоже как Вера?
– Как Вера – это бы очень хорошо!
– И такая же растрепанная… и в сапогах?
Руфа засмеялась:
– А вот это – не обязательно.
Они подошли к озеру. Среди солнечной озерной синевы белела утиная стая.
– Смотри, как у Веры хорошо, – сказала Руфа, – будто черемухи намело. А на нашем озере тихо, глухо… Никакой жизни.
Женя остановилась:
– Я не пойду дальше.
Руфа внимательно поглядела на нее:
– Неужели «директорову дочку» не забыла? Будь выше этого.
Женя, несмотря на уговоры, все же хотела свернуть в сторону, но было поздно – их увидели. Вера Грамова стояла у калитки утиного загона и смотрела на девушек. Крупная, в большом холщовом фартуке поверх темного рябенького платья, в платке, повязанном по самые брови концами назад, Вера казалась гораздо старше своих двадцати четырех лет.
– Чего – помогать, что ли? – спросила она, поглядывая то на одну, то на другую. Но тут же сама себе возразила: – Да, уж видно, нет. Пока школьницами были – одно дело, а нынче выросли. Барышни! Куда уж с утками возиться!
– А что ж, – Руфа пожала плечами, – если надо, и теперь поможем. Говори, чего делать?
– Пока ничего, уже накормила, пускай плещутся. Да жалко туфельки ваши. – Вера покосилась на светлые Женины туфли. – На берегу-то и песок и глина…
– Ничего, – весело ответила Руфа, – скоро придется и по глине, и по песку – Привыкать надо.
– А чего это вам привыкать? – усмехнулась Вера. – Что, и вправду, что ли, в совхозе останетесь?
– Останемся.
– И в институт в свой не поедешь?
– И в институт не поеду.
Вера внимательно оглядела Руфу с головы до ног:
– Вот оно как! – и тут же добавила: – Может, ты-то и останешься. А уж про Женечку не говори. Ей в совхозе остаться папаша не позволит.
Женя вспыхнула. «Почему все так говорят о моем отце? Почему думают, что он такой двуличный человек? Сегодня, сегодня же скажу ему, этого просто уже терпеть нельзя!»
Руфа, подметив, как сердито блеснули у Жени глаза, поспешно заговорила о другом:
– Вера, ну как ты, волнуешься?
Вера приняла независимый вид.
– А чего волноваться? Не одна я, чай, буду там. Что людям, то и мне.
– Ты получше Москву рассмотри, – продолжала Руфа начатый разговор, – какие улицы, дома. Метро там очень красивое, в кино мы видели…
– Да уж разгляжу как-нибудь, – ответила Вера и тут же протяжно зевнула, прикрыв рот рукой. – С ними разве поспишь? – Она кивнула в сторону уток. – Сами не спят всю ночь и людям не дают. Вон какие, как снеговые.
С еле заметной горделивой улыбкой она загляделась на свое белое стадо.
С косогора по дороге из совхоза шли какие-то люди. Приглядевшись, девушки узнали Аркадия Павловича Пожарова в его голубой с «молниями» тужурке. С ним еще трое совсем незнакомых людей.
– Вера, к тебе, – негромко предупредила Руфа.
– Ну, так и есть, – с досадой ответила Вера, – опять какая-то делегация. Вот и ходят, вот и смотрят, только время отнимают. Надоели до смерти.
Но хоть и говорила она с досадой, однако видно было, как она довольна, что к ней ходят учиться. Ведь правда, кто она такая, академик, что ли? Простая крестьянская девушка, даже семи классов не окончила. А была бы грамотная по-настоящему – не такие дела делала бы…
– Пойдем, – нетерпеливо шепнула Женя, потянув Руфу за рукав, – все равно с Верой теперь не поговоришь.
– Погоди. Интересно, кто такие. И ее послушаем, как она про уток объяснять будет.
Женя вздохнула. В общем, зря пришла она сюда, но сейчас уж придется потерпеть, уйти неловко.
Щеголеватый, оживленный, с огоньком в темных глазах, Пожаров приветственно помахал рукой.
– Гости к вам, Вера Антоновна!
– Милости просим! – ответила Вера с достоинством.
И Жене показалось, что она в эту минуту даже стала как-то выше ростом, осанистей.
Приезжие были колхозники из соседних колхозов. По округе уже давно шел разговор, что пустуют у них озера. Земля болотистая, глинистая, бугры да косогоры – для пахоты неудобная, урожаи добываются трудно. Мачеха, а не мать-земля у них. А вот озера, где такое приволье для гусей и уток, лежат пустые, только смотрят в небо, облака отражают, да и все. Хотят теперь и колхозы взяться за уток, как Вера Грамова сделала. Да как взяться? С чего начинать?
– Прежде на хозяйство взгляните, – предложила Вера и распахнула калитку в загон.
Колхозники залюбовались стадом снежно-белых птиц, дремавших на воде в заливчике, обнесенном металлической сеткой. И тут же принялись расспрашивать Веру о рационах, чем кормит, да сколько раз в день, да куда загоняет на ночь, и вообще загоняет ли, и как скоро утки растут, и какой привес.
Руфа напряженно слушала их разговор. Ей нравились эти кроткие, спокойные птицы. А кроме того, оказывается, они растут очень быстро и польза от них хозяйству очень заметная. Почему же так мало занимаются утками у них в совхозе? Все внимание – коровам, молочным стадам. Но ведь и птица может быть хорошим подспорьем.
Женя тоже ходила вместе со всеми по берегу, по сырому песку, среди белого, как облако, утиного стада, но ничего не слышала, не понимала. Люди вокруг о чем-то спрашивали, Вера куда-то их вела, оказалось, к сараю, где лежал фураж, мешки с комбикормом, зеленые вороха молодого клевера… Голос у Веры твердый, уверенный, но он все время от Жени ускользал. Женя думала о своем… Руфа остается. Собирается работать на ферме… А если и она, Женя, останется – что ей делать тогда? Неужели то же, что и Руфа? Стать как… Вера?
– Вы грустите? – спросил Пожаров, подойдя к ней.
– Нет, не грущу. Я думаю.
– Что-то серьезное?
– Да. Очень. Мне надо остаться в совхозе.
Пожаров даже остановился.
– Что?! Вы шутите?!
– Почему? Ведь Руфа остается.
– Руфа – одно, а вы, Женя, – другое. Что ни говорите, а в этом есть своя закономерность. Руфа – девушка деревенская, она создана для деревни, она, наконец, воспитана для деревни. Ей тут будет даже лучше. А у вас, Женя, другая дорога. Дружба – дружбой, а жизнь – жизнью. У всякого свое, вот что. Не обязательно всем быть утятницами, телятницами, поросятницами. Есть еще и профессии учителя, инженера, строителя… И представьте себе – все эти профессии тоже нужны! Вот как.
– Да, да… – тихо повторила Женя, – не всем же утятницами… – И, встряхнув коротко подстриженными волосами, переменила разговор: – Вам понравился вчерашний праздник? Правда, Григорий Владимирович хорошо придумал? Целый ритуал!
– Веселый человек, – снисходительно ответил Пожаров.
– Почему это – веселый? – Женю задел его тон. – Не такой уж он веселый. Просто талантливый. И очень любит клуб… и нас всех…
– Ха!
Женя нахмурилась.
– А это что означает?
– Вы очень наивны, Женя. «Хороший праздник, любит нас всех»… Никого он не любит. Он делает свое дело. И прямо скажем – делает хорошо. А праздник этот имеет одну цель – задержать рабочую силу в совхозе. Так давайте-ка почествуем нашу молодежь, польстим самолюбию. Глядишь, ребята почувствуют ласку и останутся дома месить грязь по дорогам, ночевать в поле на тракторах, задыхаться в пыли у молотилок! А как же? Молодые рабочие руки нужны, очень нужны.
– По-вашему, все на свете делается только из расчета?
Женя сверкнула на него глазами: как бы она ударила его сейчас!
Но Пожаров сделал вид, что не заметил презренья в ее словах.
– Что делать? Я не ношу розовых очков. И уверен – Арсеньев их тоже не носит. Да, кстати, вот он и сам сюда шествует – видно, проняла-таки Верина слава!
От калитки к озеру шел Арсеньев. Женя не знала, что делать – бежать, скрыться, сделать вид, что не замечает…
– Поглядите, как его сейчас встретит Вера, – с усмешкой сказал Пожаров. – Очень интересно. А я пойду на уток гляну, вон там, я вижу, что-то не все в порядке…
Арсеньев прошел мимо, коротко взглянул на Женю, поздоровался без улыбки. Лишь на одно мгновение блеснули его серые глаза, но Жене показалось, что он не просто взглянул на нее, его глаза что-то сказали ей.
Но, видно, это солнце слишком горячо припекало, пронизывая до дрожи сияющий воздух, создавая странные полуденные бредни. Происходило совсем другое…
Арсеньев направлялся к Вере. Вера увидела его и тут же замолчала. Гости вежливо ждали, когда она продолжит свои объяснения, с недоумением поглядывали на нее, но Вера глядела на Арсеньева, беспомощно приоткрыв рот. Она вдруг забыла, о чем шла речь и что еще она должна сказать.
– Помешаю вам немножко, – сказал Арсеньев, поздоровавшись, – пришел не вовремя – вы заняты…
Вера так и всполохнулась.
– Ничего мы не заняты! Да я уж и рассказала все, чего еще говорить-то?
– У меня просьба, – словно не замечая ее волнения, сказал Арсеньев. – Вы завтра едете в Москву, так вот, если будет время, купите, пожалуйста, для клуба несколько репродукций.
– Ре… продукций?.. Какие? Где?
– Здесь все написано. – Он достал из кармана конверт. – А деньги вам принесут.
Вера недоумевающе смотрела на него, стараясь понять, чего он от нее хочет, и мучительно стыдясь, что не понимает его просьбы. Румянец на ее округлых щеках стал вишневым.
– Это картинки такие, картинки, – поспешила выручить ее Руфа.
Вера мгновенно сообразила, о чем идет речь, и обиженно взглянула на Руфу.
– А что же, по-твоему, я сама не знаю, что картинки? (Слово «репродукция» она никогда раньше не слышала.) Конечно, куплю. А почему не купить? Что я – так уж ничего и не понимаю? Не меньше вас! – Вера метнула молнию в сторону Руфы. – Я школы не кончала, да зато в работе не подкачала.
– Спасибо, – сдержанно сказал Арсеньев и, кивнув головой, повернулся, чтобы уйти.
Но Вера, словно не помня себя, стала на его пути.
– Почему же вы уходите, Григорий Владимирович? Что ж так скоро? Люди вон за сколько километров едут на моих уток посмотреть, а вы рядом живете и – никогда, никогда-то вы не поинтересуетесь!
Вера стояла перед ним – крупная, статная, с полыхающими глазами. Она сорвала с головы платок и принялась обмахивать свое горячее лицо. Она глядела на Арсеньева и словно чего-то требовательно ждала от него. Ей было все равно, что кругом люди, что они ее слушают, что они смотрят, как стоит она перед Арсеньевым и не дает ему уйти.
Но Арсеньев еще раз вежливо приподнял кепку.
– Очень некогда. Дела, – сказал он и, не оборачиваясь, направился к калитке.
Вера неподвижными глазами глядела ему вслед. Вот он открыл калитку и уходит все дальше и дальше. Вот уж и нет его. А она все еще стоит и смотрит ему вслед.
Всех сковала неловкость, гости не знали, куда глядеть, что говорить. Выручил Пожаров. Он подлетел к колхозникам своими мелкими шажками, неся в руках утку. Утка была какая-то чахлая, с жесткими грязными перьями.
– Не в порядке уточка! – весело, будто обнаружил что-то приятное, провозгласил он. – В изолятор! Подкормить отдельно.
Вера молча перевела на него взгляд.
– А что же с ней такое? – заинтересовался один из приезжих, молодой въедливый парень, которому все до тонкости надо было понять, запомнить, записать.
– Слабая просто, затолкали, забили. Вот отсадим на несколько дней – поправится.
– А мы слыхали, что утки друг у дружки перья выщипывают. Прямо до крови дерут. Правда это?
– Бывает, бывает. Просто жрут друг друга. Это от неправильного кормления, когда нарушен рацион. У нас тоже как-то началась такая история, да мы вовремя прервали. Моментально прервали. Я как увидел – прямо к директору, за жабры его!..
И вдруг, вспомнив, что Женя стоит здесь и слушает, Пожаров слегка покраснел. Но он не позволил себе растеряться и превратил все это в шутку.
– Да вот Вера вам получше об этом расскажет, – засмеялся он. – Расскажите, пожалуйста, Вера Антоновна!
Но Вера гневно сверкнула глазами и, уже не сдерживаясь, закричала в полный голос:
– Да что вы все ко мне пристали! И ходят, и ходят, и спрашивают. Нет у меня времени с вами разговаривать. Кормить скоро, а у меня еще и корма не приготовлены. Бывайте здоровы!
Она круто повернулась и пошла к птичнику.
А Пожаров продолжал улыбаться.
– Что ж поделаешь, характер такой, – сказал он гостям и развел руками, – не ангелы мы, вот что. Понимаете, начнут людей хвалить да захваливать, а они уж думают, что и правда их особа – величина всесоюзного значения… А поставь на это место другую – так сделает не хуже, уверяю вас. Просто повелось у нас – захваливать. До свиданья, девушки, вынужден вас покинуть. Вечером встретимся!
Женя и Руфа переглянулись и тихо пошли к калитке. Они шли и молчали, и каждая думала о том, что произошло.
– Нехорошо сказал Пожаров, – начала Руфа, как только калитка закрылась за ними, – «поставь на это место другую – так сделает не хуже». Нет, видно, не каждая сделает. Если бы каждая у нас была как Вера, так на озерах и воды от птицы не видно было бы.
– Но ведь и Вера поступила нехорошо, – возразила Женя. – Зачем же она людей так обидела?
– Несдержанная она, – сказала Руфа, – и… несчастливая.
– Несчастливая? – Женя возмутилась. – Да ты что, Руфина? У нее слава на всю округу. Ты посмотри, как она с моим отцом разговаривает: дай то, дай это. И все. Только приказами! А отец, думаешь, хоть раз рассердился? Никогда. Все, что ни потребует, дает. Он с нею не знаю как носится. А теперь она в Москву едет…
– И все-таки она несчастливая, – вздохнула Руфа. – Может, ей и славы никакой не надо. Может, ей только и надо, чтобы ее любили. Неужели ты не видишь?
– Вижу, – враждебно отозвалась Женя, – я вижу, как она ему на шею вешается. Прохода не дает. Просто противно.
– Тебе противно, а мне жалко, – вздохнула Руфа и вдруг остановила Женю: – Подожди-ка… Вроде плачет кто-то. Да это же Вера…
Руфа бросилась к птичнику. Женя нехотя побрела следом.
Руфа приоткрыла дверь кладовой. Вера с заплаканным лицом сидела на мешке с комбикормом. Рядом на лавочке, поджав ноги, притулилась ее подруга и помощница, рыжая Поля. Худенькая, с покрасневшим носом, Поля куталась в теплый платок – продрогла ночью у озера и теперь никак не могла согреться.
– Что случилось? Ну, что случилось? – обеспокоенно спросила Руфа. – Ну, в чем дело-то?
– Да хватит, вытрись ты, голова садовая, – сурово говорила Поля, искоса поглядывая на Женю, которая молча остановилась у притолоки. – Смотри, на кого похожа-то стала.
Поля отвела Верину руку от лица и поднесла ей маленькое зеркало.
Руфа присела к ней на тугой, горбатый мешок.
– Может, я помогу тебе чем?
Вера криво и жалобно улыбнулась.
– Как-то все будто в стенку уперлось. И никто ничего тут поделать не может… – Она покачала растрепанной головой. Темные, без блеска волосы густо и прямо лезли из-под платка, падая на плечи. – Ведь все я понимаю. Все понимаю. Знаю, что иногда дурой кажусь, – горе возьмет, так и начинаю озорничать. Да ведь озорством не поможешь. Это я тоже понимаю. Только одного не пойму: почему этот человек от меня, как от чумы от какой, бежит?
– Ладно, ладно тебе, – опять остановила ее Поля. – Чего мелешь-то, голова ты садовая! Гордости в тебе никакой нет. Ну, чего перед девчонками на кресте-то распинаешься?
– А мы не девчонки, – отозвалась Женя. – Мы уже паспорта получили.
– Да разве дело в паспортах? В голове-то пусто еще. И в сердце глухо.
– Нет, Поля, в сердце не глухо… – сказала Руфина. – А ты, Вера, никаким озорством тут не поможешь. Просто подумать надо обо всем хорошенько. Ну вот, например, тебе хочется, чтобы Григорий Владимирович с тобой сел, поговорил. Ведь ты этого хочешь, правда? Требуешь даже. А ведь я помню, что он, бывало, останавливал тебя на улице, спрашивал, как дела, всегда спрашивал – правда ведь?
– Раньше спрашивал, а теперь перестал. Отбили его у меня.
– Ой, голова садовая! – нетерпеливо охнула Поля. – Да подумай ты, был ли он прибитый-то к тебе?
– «Отбили»… – нахмурилась Женя. – Кто?.. Когда?
– Дело не в этом, не в этом, – поспешно вмешалась Руфа, – но ты вспомни, Вера, о чем вы с ним разговаривали?
– Ну как – о чем? Обо всем. И об утках спрашивал, и не трудно ли мне. И вообще.
– Вот так, сегодня про уток и завтра про уток. И все. Ему и скучно с тобой. А ты еще и обижаешься. А сколько мы с Женей разговаривали с тобой, книги тебе приносили, на спектакли тащили. Но что же ты за человек, если тебе ничего не интересно?
Тут Вера уже по-настоящему рассердилась. Она выпрямилась, засунула волосы под платок, и глаза ее сразу высохли.
– А когда, скажите на милость, дорогие мои барышни, когда это мне на спектакли-то ходить? Вы вон как поднялись на ноги, так всю жизнь из-за парты не выходили. А мне с пятого класса пришлось школу бросить; Не от лени, а потому, что работать надо было, потому, что мать вдовой с кучей ребят осталась: отец-то как ушел в сорок втором, так и не вернулся. Вы еще в куклы играли, а я в этом возрасте уже работала и младших ребят нянчила. А как подросла, так и в совхоз нанялась. И опять работа с утра до ночи. Дом-то у меня где? Вон он, за три километра. И зимой и осенью – шесть километров каждый день. Утром встанешь чем свет, а придешь – уже темно. Прошагаешь по морозу или по грязи три километра – так и свалишься, даже есть не хочется. Вот и читай тут, вот и развивайся, вот и разговаривай разговоры интересные.
– Утки кричат, – сказала Поля, зевнула и встала со скамейки. – Помочь, что ли, кормить-то?
– Ничего не надо! Ничего! – Вера вскочила. – Сижу тут, болтаю, а они кричат! Иди спать, Поля, я сама… – И, помолчав, добавила: – Он мне у директора комнату в новом доме хлопотал. Директор-то не дал, а он хлопотал! Жалел меня. А теперь…
– Он просил для тебя комнату только потому, что ты лучшая работница в совхозе, – вмешалась Женя. – Только поэтому. Это я тоже могу сделать – поговорить с отцом, чтобы дал тебе комнату.
– Да что мне комната твоя! – отмахнулась Вера. – Мне его хлопоты дороги, не комната. Возьмите вы себе с отцом ту комнату!
Вера стремительно, крупным шагом вышла из сарая. Утки, увидев ее, подняли галдеж, потекли к ней со всех сторон. Сплошь белые, с бледно-желтыми клювами и черными бисеринками глаз, они, словно поток, спускались с бугра, вылезали из озера, толкались боками – неуклюжие, нерасторопные – и все спешили к ней, к своей хозяйке. Обычно Веру тешило это, но сегодня она, даже не взглянув на своих уток, прошла под навес готовить корм.
Руфа и Женя молча ушли из загона.








