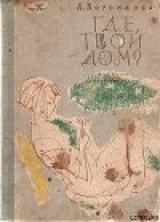
Текст книги "Где твой дом?"
Автор книги: Любовь Воронкова
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Женихи Веры Грамовой
С того самого дня, как портрет Веры Грамовой появился в районной и в областной газетах, в совхоз на ее имя потекли письма. Вера, изумленная и взволнованная, каждое утро, накормив уток, садилась на берегу и разбирала почту. Писали из колхозов, просили совета, спрашивали, как она добилась такого высокого привеса, обращались к ней с самыми разными вопросами.
«…Кормим их хорошо, досыта, одним хлебом почти, а они принялись друг дружку жрать, дерут друг у дружки перья до крови…»
Или:
«…Не спят, совсем не спят, просят есть. Неужели их и ночью еще кормить?..»
Каждый раз, прочитав такое письмо, она удовлетворенно улыбалась – они не знают, в чем дело, а она знает и может помочь! И как только выпадал свободный час, пристраивалась у маленького столика в кладовой и отвечала прилежно и обстоятельно.
На второй или на третий день по приезде Вера получила письмо, от которого глаза ее широко раскрылись. Несколько минут она глядела на исписанные кривым почерком странички, а потом принялась читать сначала.
«Дорогая Вера Антоновна, пишет вам незнакомый человек. Но есть мечта быть с вами знакомым. Я – тракторист неплохо зарабатываю. Имею собственный дом и сад. Я прочитал о вас в газете, и у меня есть ваш портрет из газеты. Вы мне очень понравились. Есть мечта, что я вам тоже понравлюсь и мы соединим нашу жизнь…»
Дочитав до этого места, Вера снова с изумлением принялась рассматривать эти захватанные, вырванные из тетрадки листки.
«Что ж это, в самом деле? Насмешка, что ли? Разыгрывают?»
В конверте оказалась и карточка, завернутая в бумажку. Веселое курносое лицо, маленькие, близко посаженные глаза, толстые губы с затаившейся в них хитроватой улыбкой… Кто же такой этот человек? Почему он так просто решает свою судьбу? И почему он думает, что и Вера так же, за глаза, может решиться?
И ведь нет же, не разыгрывает. Вот его адрес, просит написать свое согласие, и тогда он приедет к ней, и они обо всем договорятся. И подпись – Сергей Петрович Дубенко.
Она сначала задумалась, потом рассмеялась. Вот ведь нашелся и на ее долю человек. Увидел ее портрет – только портрет – и влюбился. А он ведь ее не знает, не знает о ней ничего – ни голоса ее, ни как она ходит, как смеется… Даже какого цвета у нее глаза, не знает. Знает только, как она работает, – об этом в газете написано. Так неужели этого довольно, чтобы полюбить?.. Дурость одна, тьфу!
Но хоть и плевалась Вера, однако женское самолюбие ее было сильно польщено. Нет, он не только знает, как она работает, но и портрет ее вырезал. Уж если бы не понравилось ему ее лицо, то и не написал бы. И что же теперь делать? Отвечать на это или не отвечать? А если отвечать, то что?
«Пусть подождет!»
Она сунула письмо Дубенко в ящик стола. Пусть полежит, ответ сам собой сложится.
Вот ведь и она кому-то нравится, не такая уж она, что на нее и глядеть не стоит.
«Может, и стоит, да не глядит же!»
Отложив письма, Вера – уже в который раз! – достала с полки свернутые в трубочку репродукции, развернула их. Купила все, что просил, все точно по списку. Но отнести – не отнесла, пусть сам придет. И эта мысль, что не сегодня, так завтра Арсеньев придет к ней за этими репродукциями, грела ее сердце.
«Ну и что из этого? – Она пыталась уговорить себя. – Ну, придет и уйдет. И что же?»
А сердце твердило свое:
«Пусть хоть придет, хоть повидаться, хоть два слова сказать! Разве я жду чего-нибудь? Разве прошу? Только увидеть, только два слова сказать – неужто я так много требую?!»
Ночью прошел дождь. Небо и сейчас хмурилось, ветер за окошком раскачивал тонкую ветлу. Дежурство нынче было трудное, ноги вязли в сыром прибрежном песке, брезентовый плащ холодил спину. И загон сегодня показался очень длинным – идешь, идешь… И ночь очень долгой – ни звезд, ни месяца… На самом берегу песок, а поднимешься к навесам – глина. Сапоги от глины стали по пуду каждый.
Вера перебирала репродукции. Вот это Васнецов – «Аленушка». Долго глядела она на нее, понимала это грустное девичье одиночество, эту печаль, когда сидишь одна у самой воды и тоскуешь. Значит, не только Вера вот так сидит иногда у воды…
А это Суриков – «Боярыня Морозова». Кто такая эта боярыня? Куда ее везут, за что заковали? Но хоть и заковали, а, видно, неправильно: вишь, народ-то ее жалеет. Есть которые и смеются, но больше жалеют, плачут даже. Надо у девчонок спросить, они знают, пусть расскажут.
А вот Левитан – «Первая зелень». Ух ты, вот веселая картинка, вот радость! Ну, и что тут такого, кажется? Немного зеленой краски, ну и коричневой еще, а что получилось? Самая-то настоящая солнечная весна, так и сияет она в этой зелени, в этих деревьях и молодой травке. Сколько раз видела Вера такую зелень – и деревья эти, и травку, а вот никогда не замечала, что они такие красивые!
За дощатой стеной шумела ветла, негромко, но неумолчно крякали утки. Этот монотонный шум нагонял дремоту. И Вера, заглядевшись в магическую Левитанову весну, уронила на руку отяжелевшую голову.
В это время скрипнула дверь, открылась. Арсеньев вошел и остановился на пороге.
Вера сидела, тяжело привалившись к столу, с выбившимися из-под платка мелкими, спаленными перманентом кудряшками. Ее крупная загрубевшая рука с неотмытыми ногтями держала репродукцию, опустив ее на брезентовый фартук. На сапогах комья налипшей глины…
«Над Левитаном уснула, над «Первой зеленью»!..»
Арсеньев покачал головой, вздохнул и вышел, тихонько прикрыв дверь.
Вера вздрогнула, очнулась.
Что это – дверь скрипнула? Кто-то был? Замерла, прислушалась… Нет, это ветла шумит и поскрипывает, и утки лепечут в загоне.
Она бережно свернула репродукцию и убрала на полку.
«Когда-нибудь да придет же он задними. А про Левитана надо тоже у девчонок спросить – кто он такой был и что еще нарисовал? И где еще посмотреть бы его картинки?.. Не понесу, пусть лежат. Неправда, рано или поздно, а вы заявитесь, Григорий Владимирович, не нынче, так завтра, а минутка такая придет».
Она не знала, что эту минутку уже пропустила.
К вечеру у нее на птичнике появились девчонки – Женя и Руфа. Вера обрадовалась.
– А я вас сколько раз вспоминала сегодня! Вы мне очень нужны… Вот про картинки эти хотела расспросить.
– А мы как раз и пришли за ними, – сказала Женя, и Вере почудилось, что в ее глазах светятся недобрые огоньки.
– А почему это я должна их вам отдавать? – сразу приняв враждебный тон, сказала Вера. – Кто заказывал, тому и отдам. А то и вовсе не отдам. Вот повешу на стенку и буду глядеть.
– Да что ты, Вера. – Руфа засмеялась и подошла к ней. – Тот, кто заказывал, он-то и просил зайти к тебе и взять, Мы в клуб идем – захватим.
– Пускай сам придет.
– Да не придет он, Вера, некогда ему. Ну, и зачем он зря в такую даль пойдет, если мы уже здесь и можем их захватить? Ну, сама подумай.
Вера вздохнула. Нет, видно, с судьбой не поборешься. Она достала заветный сверток и, не глядя, отдала Руфе.
– Чего делать с ними будете?
– Григорий Владимирович будет лекции читать. Ну, не совсем лекции, а так, беседы. Про этих художников: как они жили, какие картины писали. Это очень интересно.
– Еще бы!
– А чего ты вздыхаешь? Приходи и ты. Оставь подежурить кого-нибудь. В самом деле!
– Ну что ты зря говоришь, Руфина? Вот сейчас машины придут, я сегодня начинаю уток сдавать. До ночи хватит дела. И завтра, прямо с зари. А ты говоришь – лекции, беседы. Ну, чего зря языком трепать.
Вера повернулась и, не простившись, пошла вдоль загона.
Женя задумчиво глядела ей вслед. Она уже казнила себя за злое чувство к Вере. Только что она чуть не обидела Веру, а может, и обидела, ведь та сразу почувствовала что-то недоброе. А кто такая она, Женя, что осмеливается подойти к Вере с недобрым лицом, с недобрым сердцем.
– Возьми, – сказала Руфа, подавая ей репродукции.
Женя отмахнулась:
– Неси сама.
– Да ты что? – Руфа искоса поглядела на нее.
– Если можешь, Руфа, иди молча. Мне надо одну думу додумать.
Но Руфа молчала недолго. Едва миновали березник, как она снова начала разговор:
– Я знаю, о чем ты думаешь. Поглядела сейчас на Веру и подумала: вот и я буду так на птичнике с утра до вечера – и в солнце и в дождь. Вот и я буду так в сапожищах в глине вязнуть. Да на что это мне нужно, когда я и без этого очень хорошо прожить могу? И действительно, можешь.
Женя резко повернулась к ней, глаза у нее загорелись.
– А вот и нет, а вот и нет! И вовсе не о себе я думаю. Я думаю: неужели все передовики так живут, как наша Вера? Разве это правильно? Если она передовая работница, то никакой личной жизни ей не надо? Нет, неверно это! Неправильно это! Это переделать нужно!
– А как?
– Вот и я думаю – как?
…К птичнику, колыхаясь на колеях, закатываясь на размытых поворотах, уже шли грузовики. Дождь прошел, тучи сгрудились за рощей, закат полыхал, и среди дороги лежали большие красные лужи.
– Эх, дороги! – бранились шоферы. – Как повезем уток? Закачаем их совсем, вес потеряют!
– Так уж тут аккуратней везти надо. Веру подводить не приходится – старается человек.
Бригада «ути-ути»
Покой в доме Каштановых нарушился.
– Нет, я ничего не понимаю! – восклицала Елизавета Дмитриевна, хватаясь за виски. – Как это можно? Как это могло прийти ей в голову? А все ты, Наталья. Ты знала, что она затевает, и не говорила.
– Да почему же я знала? Со мной не советовались, – возражала тетя Наташа. – Да и что страшного-то случилось? Ну и пусть поработает, если хочется.
– Вот оно! Вот! Я же говорю, это твое влияние. Зачем ей работать, когда ей учиться нужно?
Чашки и тарелки то и дело разбивались, котлеты пригорали. Савелий Петрович сверкал желтыми глазами, бранился, возмущался, негодовал.
Только одна Женя молчала. Молчала и делала по-своему.
– Я знаю, как поступить, – объявила однажды Елизавета Дмитриевна. – Надо поговорить с Пожаровым.
– Это идея, – согласился Савелий Петрович. – Я пришлю его к тебе. Со мной она уже просто не разговаривает, будто не слышит меня!
Пожаров пришел в тот же день.
– Голубчик! – встретила его Елизавета Дмитриевна. – Что же вас совсем не видно?
Пожаров криво улыбнулся.
– А вы думаете, приятно, Елизавета Дмитриевна, когда от вас через заднее крыльцо убегают?
Елизавета Дмитриевна усадила его на террасе в плетеное кресло, сама подала чаю, ничего не уронив и не опрокинув.
– Давайте бороться вместе, – сказала она, – давайте бороться за ваше личное счастье и за наше общее спокойствие. И что это она забрала себе в голову? Она, видите ли, хочет тоже «маяком» быть! «Маяки» – это все прекрасно. Но зачем нам с вами «маяки»? Пускай Вера будет «маяком», пускай Руфа! Да мало ли их? А нам с вами – на что?
– Я с вами согласен, Елизавета Дмитриевна. Никаких «маяков» мне лично не нужно. Да и не будет она никогда «маяком», Елизавета Дмитриевна, не сможет она.
– Что же, значит, она даже и «маяком» не будет? – Елизавета Дмитриевна чуть не уронила свою чашку. – А кем же она тогда будет? Утятницей? И все?
Пожаров пренебрежительно усмехнулся:
– А вы думали как? «Ути-ути» – и все. «Ути-ути» – это у нас так мальчишки утятниц дразнят.
– «Ути-ути»! И ради этого…
Елизавета Дмитриевна всхлипнула. Она думала, что хоть слава, хоть портреты в газетах, поездки в Кремль… А ведь, оказывается, ничего. Просто «ути-ути»! Нет, ее Женя сошла с ума.
– Так боритесь за свое счастье, Аркадий! – повторила Елизавета Дмитриевна. – Ваше будущее в опасности.
Пожаров не заставил себя долго просить.
– Завтра они поедут за утятами в инкубатор, – сказал он. – Женя поедет тоже. И я поеду. Надеюсь, договоримся. Этот каприз не может слишком долго продолжаться.
…А Женя в эти дни жила сложно и трудно. Причитания матери раздражали ее. С отцом они встречались как враги. И чем больше он нападал на нее, тем больше она отчуждалась.
Впрочем, Женя теперь редко бывала дома. Вечером – семинар у Никанора Васильевича, днем – возня на птичнике. Она искала себе работы, бралась за все – за уборку участка, за побелку птичника… Лишь бы не быть дома.
Бригаду собрали с трудом. Не так-то просто было уговорить подруг.
– Чудные вы какие, – с досадой ответила на все их уговоры Клава Сухарева, – на что мне ваши утки? И отец говорит: «А чего в грязи копаться, если можно в городе на чистую работу пойти?» К тете поеду, кройке и шитью буду учиться, модельные платья буду шить, шик-блеск! А то копайся тут с утками.
Клава сидела у окна, возле кисейной занавески, и вышивала блузку. Высокая, худощавая, она сидела, согнувшись коромыслом, и казалось, что от этого веки у нее набухли и наползли на рыжие ресницы, а нос, и без того похожий на маленькую грушу, совсем съехал книзу.
– «Шик-блеск»! – усмехнулась Женя. – Если бы ты сама эти платья носила.
– Так зато заработок, – вмешалась бабушка Клавы, которая сидела тут же и перебирала горох, откидывая сор, – а что в совхозе заработаешь?
– О-ёй! – охнула Руфа. – Там-то еще на воде вилами, а у нас заработок вот он, конкретный. Неужели вы думаете, что я пошла бы за утками ходить, если бы выгоды не было?
– А тебе-то, Каштанова, тоже заработок нужен? – Клава искоса взглянула на Женю. – Нас уговариваешь, а сама осенью – порх в Москву!
– И могла бы! – защитила подругу Руфа. – А вот отказалась. И не ради заработка осталась – ради дела.
Долго, трудно тянулся этот разговор, пока наконец Клавина бабушка сказала:
– Посоветуемся с отцом-матерью. А я бы так сказала: к уткам тебя, Клавдия, не привяжут. До осени поработаешь, а там видно будет. Коли заработки хорошие…
– Вот именно, – подхватила Руфа. – Если будем на совесть работать, так и заработаем хорошо.
– А эти платья «шик-блеск» тогда уже сами будем носить, – добавила Женя. – Сами! А не шить их для кого-то.
Маленькая губастенькая восьмиклассница Фаинка Печерникова прибежала к Руфе сама. Она слышала, что Руфа собирает бригаду, пусть и ее возьмет! Фаинка и в школе все время в живом уголке возится – только разве это работа? А ей по-настоящему хочется работать. Уток она очень любит и будет стараться. А что она маленькая и худенькая – на это смотреть нечего, она сильная, как… ну, как Юрий Власов, почти!
Вокруг Ани Горкиной собрался целый семейный совет.
– Если Руфа, то и я… – сказала Аня.
– Неужели полегче работы в совхозе для тебя не найдется? – возразила мать.
– Пропадете вы с этими утками, – тут же подхватила тетка, – не справиться вам.
– Чтобы молодежь, да не справилась! – вмешался отец. – Да молодежь вон какие огромные дела делает. Важно с самого начала на правильный путь стать. Вот, скажем, города строить надо. Атомы открывать надо. Это я все понимаю и все уважаю. Но ведь, чтобы города строить да атомы открывать, людям прежде всего пообедать нужно. Ну, что? Неверно это? Верно. Так и выходит, что одни люди будут и атомы добывать и всякие нужные машины делать, а вы будете тех людей кормить. Так что же, скажете, это так себе работа – людей накормить? А по-моему, выходит, что самая она важная и почетная на свете работа – это наша работа, крестьянская, основа всех работ на земле, потому что ни один даже самый ученый человек не евши жить не может. А то – «полегче что-нибудь»! Зачем ей полегче? Старая она, что ли, – легкости искать?
Отец так крепко поддержал Аню, что больше никто и не спорил. Только младший братишка Колька поддразнил потихоньку:
– Ути-ути! – и засмеялся,
Трудней всего пришлось с Катей Валаховой. Пухлая, румяная, с маленьким носом, зажатым толстыми щеками, с высоко выписанными бровями, которые придавали лицу слегка удивленное выражение, Катя никак не могла решиться сказать «да» и отказаться тоже не могла. Она была круглая сирота, и бездетная вдова Ксения Соколова, одна из лучших доярок совхоза, взяв Катю в дочки, всю жизнь боялась, как бы не обидеть ее. С детства закармливала ее, пичкала и тем и другим – как бы Катенька не проголодалась. И поработать боялась заставить – как бы не устала сиротка Катенька. И задумываться ей ни о чем не позволяла – как бы не загрустила сиротка Катенька.
– Ведь мы все вместе работать будем, – уговаривала ее Руфа, – соглашайся, Катюха!
– Не суметь мне… Не справиться! – испуганно глядя на подруг темно-голубыми круглыми глазами, слабо сопротивлялась Катя.
– Да мы же помогать тебе будем!
– Ну ладно. Пойду. Только у мамы спрошусь.
– Но ведь ты же взрослая, школу окончила!
– Все равно. Если мама не захочет…
– А если захочет, то пойдешь?
– Пойду. Только у меня ватника нету. Что я – хорошее пальто трепать буду? И платья у меня все хорошие. Мама заработала, а я трепать буду? Нет, не пойду.
И так без конца. То пойду, то не пойду. И уж когда всей только что организованной бригадой навалились, да еще и мама Ксеня помогла, – Катя окончательно согласилась.
Утиное дело в совхозе пошло в гору. Для Веры Грамовой отстроили новый птичник, а старый, маленький, отдали Руфе Колокольцевой.
Вот тут Женя узнала, что такое работать вилами, вычищая старую подстилку, и что такое мозоли на руках, и как болит поясница от усталости. Иногда казалось, что никаких сил больше нет, что сейчас она выпустит вилы из рук и повалится на пол. Но гордость и самолюбие держали ее. «Руфа не падает, и я не упаду. Аня не падает, и Клавка не падает, и я не упаду».
И выдерживала. А потом открыла новость – оказывается, не ей одной трудно.
– Ой, девчонки! – проныла как-то Клава Сухарева. – Сил нет, поясница ноет.
– Ишь ты! – усмехнулась Руфа. – А у меня, думаешь, не ноет?
– А у меня, думаешь, не ноет? – отозвалась Фаинка. – Даже в глазах темно.
Женя облегченно вздохнула. А она-то думала, что только ей тяжело. Значит, не так уж она слабее других?
А тут еще Фаинка высказалась:
– Смотрите на Каштанову. Директорская дочка, а вкалывает что надо. И в глазах у нее не темнится. А вы уж заплакали, принцессы на горошинах.
«Спасибо тебе, Фаинка! Ты и не подозреваешь, как поддержала сейчас директорскую дочку!»
Возни было немало. Пока вычистили загоны, пока все побелили известкой да постлали чистую подстилку… И вот наконец настал день – они едут за утятами.
Женя первая вызвалась ехать с Руфой в инкубаторную. Во-первых, чем меньше быть дома, тем лучше. Во-вторых, интересно, что это за инкубаторы такие и как это утята в этих инкубаторах выводятся. И в-третьих, а вдруг где-нибудь на дороге встретится человек, который не уходит ни на один день, ни на один час из сердца, из памяти…
– Кого-нибудь еще нужно, – сказала Руфа. – Катя ты не поедешь?
– Не знаю… – отозвалась Катя, – ты считаешь – надо?
Но в это время к машине подошел Пожаров.
– Я поеду! – весело, будто объявляя радостную для всех новость, сказал он. – Я же ведь зоотехник все-таки, должен помогать!..
Девушки волновались – как-то они справятся? Как-то довезут целых восемнадцать тысяч утят? Восемнадцать тысяч крохотных живых комочков!
– Привезем, ничего, – сказала Руфа и полезла в кузов.
Женя стала карабкаться вслед за ней.
– На колесо ставь ногу, – помог ей шофер, – теперь вот на эту планочку…
– Товарищи, в чем дело? – закричал Пожаров. – Женя, идите в кабину! Что ж это такое – они в кузове, а я в кабине, на что это похоже!
– Вы старше нас по чину, товарищ зоотехник, – уже из кузова ответила Женя. – Вам так и полагается.
Женя и Руфа переглянулись и рассмеялись. Шофер дал газ.
– Ох ты, ну и качает же здесь, – Женя старалась не слишком ударяться о борта, – а я и не знала.
– Ты еще многого не знаешь, – прогудела Руфа.
Женя опять засмеялась:
– Ты очень много знаешь! Подумаешь – дед с бородой! А правда, Руфа, скажи, – Женя уселась поудобнее, – как это ты умеешь быть такой спокойной? Всегда ты спокойная. И на экзаменах, бывало, все волнуются, а ты даже и бровью не дрогнешь. Урок не выучишь – и тоже не волнуешься. Вот в институт хотелось тебе – я же знаю, как тебе хотелось! А не поехала, и хоть бы что…
Руфа, чуть прищурившись, глядела на убегающую в кусты дорогу.
– И вот теперь – за такую ответственную работу взялась, Ну, если мы этих хлипких утят не довезем – что тогда? Если они у нас сразу подохнут?.. Да мало ли что! А ты сидишь и только розовеешь, как заря, и горя тебе мало.
– А где горе-то? Горя-то еще нету. Ведь они еще не подохли у нас.
– Да я не про то. Я про твое спокойствие, про твою невозмутимость. Почему ты никогда не волнуешься, никогда не рассердишься, не закричишь? Каменная ты, что ли?
– А кто тебе сказал, что я не волнуюсь? – ответила Руфа. – Я просто не люблю, когда люди кричат. Поэтому и сама не кричу.
– Но ведь это же никаких сил не хватит – так вот сдерживаться. Ты просто бесчувственная какая-то.
– Я не бесчувственная. И сил у меня хватает… Это вот ты бесчувственная, – продолжала Руфа с усмешкой. – Любимый твой человек в кабине сидит, а ты хоть бы что, будто и забыла.
– Где?!
Руфа негромко, но от души рассмеялась.
– Да жених же твой! Ты что же, забыла, что Пожаров – твой жених?
Женя отвернулась.
– Оставь, пожалуйста! И не надо, не говори мне об этом. Чтобы я никогда этого даже в шутку не слышала!
– Но ты что же, объяснила ему все?
– Н-нет.
– Так чего ж ты ждешь? Чего человека зря в заблуждение вводишь?
– Все еще жду, может, сам отвяжется. Скандалы мне дома вот до чего надоели. – Женя провела пальцем по горлу. – А ему хоть в глаза наплюй.
– Ну, этого не жди. Это человек не той породы, чтобы отказываться. Как наша мать говорит: не мытьем, так катаньем, а своего добьется.
– Никогда! – Женя с ненавистью покосилась на кабину. – Пускай даже я буду самая несчастная. Пускай на всю жизнь останусь одна. Но за Пожарова – никогда!
В это время Пожаров, словно почувствовав, что о нем говорят, вылез из кабины и, став на подножку, заглянул в кузов. Выпуклые черные глаза его были приторно ласковы.
– Живы, девочки? Готовьтесь, приехали!
«А все-таки ты позволил мне ехать в кузове, – подумала Женя с ядовитой усмешкой, глядя на него, – а сам в кабину сел? Эх ты, «жених»!»
Но Пожаров не разгадал этого взгляда, он все так же тупо и приторно глядел на нее и белозубо улыбался.
Машина взобралась на бугор и остановилась около длинного одноэтажного дома с белым крыльцом и белыми окнами.
Пожаров откинул задний борт кузова и помог девушкам сойти.
Молоденькая практикантка повела их в инкубаторную.
В домике с белым крылечком было очень тепло, даже жарко. Жарко и торжественно тихо. Женя почувствовала присутствие тайны, самой великой тайны природы – рождение живого существа. Огромные темно-красные шкафы – инкубаторы, с плотно закрытыми дверцами и чутко светящимися контрольными огоньками, хранили эту тайну и, казалось, сами прислушивались к тому, что происходит у них внутри. Подчиняясь общему настроению, люди ходили бесшумно и разговаривали вполголоса. И Женя вздрогнула, когда Пожаров громко спросил, спросил так, будто он был где-то на улице, на базаре:
– Тут кто – цыплята или утята?
– Тут цыплята, – сдержанно ответила практикантка, – сейчас покажу.
Она открыла инкубатор. Яркий свет заливал клетки с аккуратно уложенными яйцами.
– Ох ты! – вздохнула Руфа. – Сколько же их здесь?
– Пять тысяч.
– И все сразу выведутся?
– Все сразу. Вон в том, крайнем, сегодня будут выводиться.
Девушка закрыла инкубатор и повела их к другому, стоявшему у самой стены.
– Вот, – сказала она, открывая дверцы, – слышите?
Здесь тоже сверху донизу стояли ящички, полные яиц. Они мягко светились под лампами – белые, желтоватые, темно-желтые… – и дружно пищали.
– Яйца пищат! – обомлела Женя. – Слышите? Это же яйца пищат!
– Это цыплята в яйцах пищат, – улыбнулась практикантка, – вон уже и наклевыши есть.
Жизнь! Было простое яйцо – яйцо, которое тетя Наташа варит к завтраку. А человек сделал машину и разбудил в этом яйце жизнь.
– Как удивительно все это!.. – прошептала Женя.
– Видите, Женя, – сказал Пожаров, – это, конечно, удивительно, вы правы. Но задумайтесь на минутку – кто сделал эту удивительную машину? Инженер, ученый человек. Без настоящего образования человек ничего не сумеет сделать. Вот что.
– А кто-нибудь спорит? – осведомилась Женя. – Вы спорите, Жека…
– Не называйте меня так, пожалуйста. И когда это я спорила?
– Вы спорите с этим всем своим поведением в жизни. Вы считаете, что образование никому не нужно, что все должны только выращивать цыплят или доить коров.
– Вы же знаете, что я этого не считаю. Я буду учиться, – вы это тоже знаете. И работать на птичнике тоже буду.
– Я не понимаю вас, Женя.
– А я вас не понимаю. Я не понимаю, как это вы меня понять не можете?
– Но ведь и отец тоже вас не понимает.
– А я его тоже не понимаю.
– Спряжение глагола «понимать», – пробурчала Руфа.
Женя с досадой отошла от Пожарова.
Из инкубаторной перешли в брудерную. Тут было так жарко, что казалось, волосы трещат от жары. Воздух звенел от неумолчного писка многих тысяч цыплят. Крошечные, только что вылупившиеся цыплятки суетились, жались друг к другу. Лезли к корму, просовывая головы сквозь ячеистую сетку, и пищали, пищали, пищали…
– В голове не шумит от этих соловьев? – спросил Пожаров.
– Ничего. Привыкаешь. Я их и не слышу даже, – сказала практикантка.
– Только родятся – и тут же клюют. – Руфа стояла и внимательно разглядывала цыплят. – Ну, когда из-под наседки, так мать учит клевать. А здесь?
– Инстинкт жизни, – сказала практикантка.
А Женя снова задумалась. Ну, что тут такое? Щепотка пуху, бисеринки вместо глаз – и вот этот комочек живет, бегает, чего-то ищет, требует, кричит… Человек очень многое может сделать. Может сделать ракету и полететь на Луну, а вот такое существо – маленькое, ничтожное, но живое – искусственно создавать не может. Даже комара создать, чтобы он летал, пищал и был живой, – не может.
А если все-таки откроют тайну, найдут это начало, это возникновение жизни, и если создадут искусственно человека, то что за существо это будет? Может, весь как человек. И ты будешь думать, что он – человек. А он – не такой, не настоящий. Как это страшно…
– С курами работать тоже ничего, не плохо, правда, Женя? – сказала Руфа. – Только утки лучше.
Но Женя посмотрела на нее невидящими глазами и вдруг вышла из брудерной. Она почувствовала, что задыхается от жары и от какой-то тяжелой мысли.
«Не настоящий… Не такой, как ты думаешь. Ты каждому слову веришь, веришь, всю жизнь веришь. А потом видишь, что верил, потому что человек-то как настоящий! А он только… как настоящий. Вот страшно-то! Неужели и это возможно?»
– Женя, что с вами? – Пожаров вышел следом, подошел к ней, заботливо заглянул ей в лицо. – Вам дурно?
– А вы, Аркадий Павлович, вы настоящий? – Женя пристально глядела на него своими золотисто-карими глазами. – Вы живой?
– Ем, пью, хожу по земле, люблю – значит, живой! – засмеялся Пожаров. – А вы как считаете?
– Не знаю. Не знаю… Не разобралась еще.
– Вот что! – Пожаров был уязвлен. – Конечно! Барышня собирается в вуз, а вместо этого идет на птичник ухаживать за утками. Где логика? Не мудрено, если что-то в голове и смещается. Был простой, ясный путь – школа, вуз, работа в Москве, аспирантура, может быть… Светлая, культурная городская жизнь – и вот! Все почему-то нужно сломать, испортить, запутать.
– Да вам-то что? – оборвала его Женя. – Я свою судьбу ломаю, не вашу.
– А может быть, и мою.
– Как это?
– Вдумайтесь в то, что я вам скажу. Каждая семья – это отряд, который борется в жизни за свое благополучие плечом к плечу…
– Только за свое благополучие?
– Не перебивайте. И надо, чтобы отряд этот был сильным. Понимаете? И вот прикиньте: вы – педагог, директор школы. Ваш отец – директор совхоза. Я – главный зоотехник, заместитель директора. А потом и сам…
– И сам директор?
– А как же? Видите, какая перспектива создается? Я много думал об этом. Так все складно получается! Вы будете за меня держаться…
– А вы за моего отца, – усмехнулась Женя. – Очень складно. Только знаете, мне все это не подходит.
– Почему?
– Да потому, что я не люблю вас. И никогда не буду любить.
– А разве это самое главное?
– Для меня – да. И оставьте меня в покое – раз и навсегда вам говорю.
– Утят сколько будете брать? – К ним подошла дородная женщина с румяным лицом, в голубом платке на седеющих волосах. – Тысяч тридцать?
– Восемнадцать довольно! – ответил Пожаров, небрежно улыбнувшись. – Шесть человек в бригаде, по три тысячи на человека. Мы ведь только начинаем.
– Поздненько спохватились. Пойдемте!
– Но я надеюсь, что вы, Женя, еще продумаете все как следует и не сделаете этого рокового для нас с вами шага. Я говорю о вузе.
Сказав это, Пожаров быстро зашагал вслед за женщиной в голубом платке.
«Для нас с вами»? – повторила Женя. – Удивительный человек! Вот уж правда – плюй в глаза, а ему все божья роса».
А Пожаров шел впереди – своей мелкой легкой походкой, складный, щеголеватый.
Ветерок шевелил его маслянистые черные кудри и трепал копчик его пестрого галстука. Женя смотрела ему вслед и вдруг ей стало казаться, что внутри этого человека работает какой-то механизм, хорошо прилаженный, хорошо смазанный.
Этот механизм заставляет его двигаться, говорить, ходить своей семенящей походкой. Механизм вместо сердца…
– Тьфу, бредни! – Она тряхнула головой. – Руфа, а почему только восемнадцать тысяч? Может, побольше возьмем?








