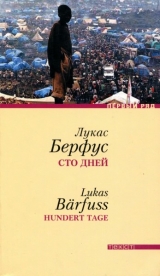
Текст книги "Сто дней"
Автор книги: Лукас Берфус
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Мы тронулись, Поль по-прежнему не говорил ни слова, и я попытался нарушить неловкое молчание: сказал, что Эрнеста наверняка будет подкармливать овощами и меня, но Поль вдруг ударил по рулю ладонью, резко крутанул его, нажал на тормоз и остановил машину на обочине. Закричал на меня, назвал упрямцем, у которого хоть кол на голове теши. Кооперант должен строго придерживаться реальностей, а одна из главных реальностей страны, где мы работаем, – это иерархическая лестница. Эрнеста убирается не только у зарубежных специалистов, но и у местных чиновников, от которых зависит судьба наших проектов. И в сношениях с ними нам придется очень и очень туго, если они узнают, что мы позволяем обслуживающему персоналу выращивать овощи в наших садах. Если уж мы готовы идти и идем на поводу у прислуги, то министрам сам Бог велел из нас веревки вить! После этих слов туман в голове у меня начал рассеиваться, и я сообразил, почему бургомистр настаивал на строительстве дороги. Он считал меня и Поля слабаками, филантропами, у коих уговорами можно выманить что угодно. Огородик в моем саду вынудил дирекцию согласиться на постройку дороги, что обойдется ей в несколько сот тысяч швейцарских франков – деньги, которые с таким же успехом можно было бы скормить свиньям. Ведь в Гисагаре имелась только одна машина, только для нее будет строиться дорога, а принадлежала эта машина, естественно, бургомистру.
Однако дело приобретало еще более серьезный оборот, и, предчувствуя это, Маленький Поль поумерил свой гневный пыл. В зеркале заднего вида появилась фигура человека. Это был умуцунгу в пиджаке травянисто-зеленого цвета, лет пятидесяти, лысый, в очках с большими стеклами, с безгубым ртом, не толстый и не тонкий, пожалуй, слегка одутловатый, подобно многим белым, живущим в тропиках. Под мышкой у него был пухлый кожаный портфель, к главной конторе закупочного кооператива он шел шаркая ногами, а потому его можно было принять за учителя гимназии. Но то, что он никакой не учитель, мне стало ясно, как только Маленький Поль выскочил из машины и поспешил навстречу этому человеку, приветствуя его с широко раскинутыми руками, словно они не виделись веки вечные. Теперь я понял, кто этот человек, о котором я много слышал, – причем говорили о нем всегда туманно, полушепотом, с одобрением или легкой усмешкой, – но которого никогда не видел в лицо.
Одни называли его Распутиным, другие – всего лишь кардиналом Мазарини. А он был не кем иным, как личным советником президента и самым могущественным европейцем в этой стране. И к тому же одним из наших – швейцарцем. Как только началось наше сотрудничество, дирекция предложила президенту обзавестись советником. Что он и сделал. Жанно консультировал президента по всем вопросам развития экономики и финансовой системы. Писал его речи. Разработал стратегию переговоров с Всемирным банком реконструкции и развития. Все бумаги, адресованные правительству, ложились сначала на стол советнику. Дирекция оплачивала его работу, но не имела на нее никакого влияния. Он не писал отчетов, не получал указаний. А если бы получал, не стал бы их выполнять. В отделе координации он появлялся крайне редко, но всем было ясно, как низко он оценивает нашу работу. Он знал о нас все, мы же о его работе – только понаслышке. Иной раз мы называли его человеком-невидимкой: ему явно нравилось, чтобы его окружала аура таинственности. Жил он на авеню Армии, в старой резиденции посла, покинувшего Кигали за несколько лет до тех событий, и единственной экстравагантностью, которую он позволял себе, было красное лаковое покрытие его старенькой «мазды».
Поль представил меня Жанно. Молодняк, сказал он, растет хорошо, правда, обрезке еще не подвергался. Безгубые уста советника даже не дрогнули. Он посмотрел на меня сквозь огромные стекла очков, как смотрят ящерицы. Взгляд его скользил по мне не дольше секунды, но и этого времени ему явно хватило, чтобы оценить меня и занести в свою личную табель о рангах. Не будем заставлять нового управляющего ждать нас, сказал он, после чего Маленький Поль побежал к машине, а мы с Жанно преодолели последние метры пешком. Значит, администратор, промолвил он немного погодя, и я не мог определить, спрашивал он или констатировал. Навстречу нам шагали двое мужчин – то ли бизнесмены, то ли чиновники – во всяком случае, в костюмах и при галстуках. Один что-то энергично объяснял другому, который, похоже, его не слушал, а пристально смотрел в нашу сторону. Когда мы поравнялись, он толкнул говорившего в бок, и только тогда тот понял, мимо кого они проходили. С господином доктором они поздоровались хором. Жанно лишь кивнул в ответ.
Поль поставил машину перед зданием кооператива, вышел из нее и стал ждать нас. Нам он был хорошо виден. И тут Жанно вдруг остановился, я же успел сделать два-три шага, прежде чем заметил, что его рядом со мной больше нет. Повернувшись, я шагнул в сторону советника, который в тот же момент двинулся дальше, и оказался позади него. Я слышал, вы интересуетесь овощеводством? Прекрасно, у меня тоже есть сад. Говорят, земля в Кьову местами заражена, и кто знает, какие плоды принесет то или иное растение. Поэтому будьте бдительны, друг мой, будьте бдительны.
Мы шли на церемонию введения в должность нового управляющего кооперативом. За последние годы он должен был стать на этом посту шестым. Пятеро его предшественников, похоже, делали все, чтобы перещеголять друг друга своей неспособностью руководить товариществом, однако чем бездарнее был каждый из них, тем лояльнее он держался по отношению к главе государства. Кооператив был основан в пятидесятых годах бельгийским чиновником высокого ранга. Торговлей тогда занимались в основном европейцы и пакистанцы, крестьян они обманывали, платили плохо, в то время как цель кооператива состояла в том, чтобы расплачиваться с крестьянами по разумным ценам и продавать товары с незначительной прибылью. Вскоре после прибытия в страну дирекция взяла кооператив под свое крыло, и долгое время он оставался важнейшим из всех предприятий страны. Мы скупали большую часть урожая кофе, наши товары продавались по одинаковой цене – что в столице, что в самой глухой деревушке. У нас имелась собственная школа, а наша газета была в стране самой популярной. В штате кооператива числилось пятьсот сотрудников. После совершенного Хабом переворота возникли проблемы, правительство стало оказывать на руководство кооператива давление, подминало его под себя. Был арестован финансовый директор – видимо, по политическим мотивам. На его место поставили человека, который был угоден чиновникам, но не разбирался ни в складском хозяйстве, ни в бухгалтерии. Наши эксперты выступали теперь только в роли советчиков, и все же мы хранили кооперативу верность. Выделяли ему деньги, когда нечем было платить зарплату. Потребовался новый деловой центр, и мы перечислили семь миллионов франков на строительство административного корпуса, новой библиотеки, новой столовой и мастерских.
Однако общее положение не улучшилось. Новый комплекс получился громоздким, ситуация с финансами, и без того шаткая, резко ухудшилась: надо было выплачивать высокие проценты. Директора менялись чуть ли не каждый год. О рынке сбыта никто не заботился. Конкуренты не дремали и предлагали товары лучшего качества по более низким ценам. Что ж, за все годы мы вложили в кооператив тридцать миллионов, и, видимо, не зря: даже смена директоров давала Марианне и Жанно возможность выступать с напыщенными речами о плодотворном сотрудничестве между нашими странами.
Едва церемония с фуршетом закончилась, как я отправился домой, взял из сарая мачете и мотыгу и принялся за работу на плантации своей прислуги, не испытывая ни ярости, ни ненависти. Просто делал то, что необходимо сделать. Вырыл маниок, срезал кусты с помидорами, перекопал землю и почувствовал себя настоящим кооперантом – то есть таким, который понимает, что у всех событий и явлений есть, как правило, своя подоплека, и потому не сентиментальничает. Эти овощные грядки были, возможно, неплохим подспорьем для многодетной семьи, но в то же время они чуть было не сорвали реализацию проекта со строительством сиротского приюта. Придя в следующую субботу с корзиной в руках, Эрнеста выбрала из кучи те плоды и клубни, которые еще не успели подгнить, и я сказал ей, что на месте овощных грядок вновь должны появиться цветочные.
В один из тех дней, когда новая ситуация стала для нас привычной, а война шла где-то далеко, я завоевал наконец расположение Агаты, и для меня наступила пора заниматься любовью – вдоволь и всласть. Прекрасная пора совокупления – с объятиями и ласками под душем, озорными играми на веранде, короткими соитиями по воскресеньям утром, долгими на вечерних зорьках, нежными лобзаниями под звездным небом, поцелуями взасос на кушетке. Нам предстояло превратить в траходром весь особняк – пять комнат и около тридцати предметов мебели. Их надлежало испытать на пригодность служить ложем. И надо сказать, они нравились нам с Агатой все без исключения, неудобные – даже больше удобных: комод с тонкими твердыми краями, стулья с колкой обивкой из сизальской пеньки… Мне были по душе короткие фразы после первых телодвижений, взаимные уверения в нежелании протереть друг другу кожу до дыр, отчаянные призывы образумиться на пике экстаза. Слова эти убеждали меня в том, что сознание Агаты оставалось ясным и что вожделение ее, несмотря ни на что, сочеталось с рассудительностью и благоразумием. А восклицания вроде «так можно?», «продолжай!», «расправь сначала складку на ковре, режет спину» или «сейчас, наверно, сведет мышцу, да ладно» – эти замечания технического свойства, как и сетования на несовершенство наших тел и их ранимость, напоминали о том, что мы проникли друг в друга, слились в объятиях и доходили до самозабвения в нашей телесности, которая притворялась дарящей нам страстность, а в действительности была препятствием и ставила экстазу пределы – ведь наши тела были для него лишь средством, но никак не целью.
Сколь часто мы ни любили бы друг друга, сколь обнаженными ни отдавались бы во власть нашего плотского влечения, во мне тлела толика стыда. Для Агаты в половом акте не было, казалось, ничего запретного, а если и было что-то предосудительное, то лишь потому, что мы не соединились брачными узами. Она любила, как ела, удовлетворяя потребность, за которую не несла никакой ответственности. Которая просто существовала и кричала, как ребенок, требующий за собой ухода. Самым ужасным для меня было то, что Агата, несомненно, осознавала эту потребность. Она знала, чего хотела, и не находила в моем вожделении ничего потаенного. Я был открытой книгой, она могла ее читать, но могла и отложить, как хотела, так и поступала. Мои темные желания, проявления страсти были у нее перед глазами – обозримы целиком и со всех сторон. Эта открытость беспокоила меня, ибо оставалось неясным, чего же криком требовало мое существо. А не лучше ли заставить его просто скулить? – задавался я вопросом, не находя на него ответа. Я боялся, что оно станет кричать еще громче, получая пищи все больше, и было бы, возможно, умнее наказать его презрением и хорошенько поморить голодом.
Но когда я видел Агату, видел серебряные блики на ее коже, ее губы и десны цвета свежей телятины, тогда я скользил языком по этой коже, по этим губам и деснам; а когда потом я целовал ее, мне хотелось дотрагиваться до нее; а когда потом я касался ее грудей, зада и затылка, мне хотелось вонзить в Агату мой фалл – чего бы она ни предлагала для этого; и когда наконец я пристраивался к Агате сзади или лежал под ней – там, куда занесла меня моя страсть, тогда я больше не знал, к чему бы мог стремиться еще, чувствуя в то же время, что цели так и не достиг. Агата не противилась моему натиску, однако это не означало, что она со всем соглашалась. Если ей не нравилась та или иная позиция, она не говорила просто «нет», а предлагала что-нибудь взамен, и тогда все казалось равноценным: палец в заднице – не порочнее поцелуя в губы. Для Агаты не существовало ничего непристойного по ту сторону морального запрета отдаваться мужчине, будучи не замужем, а поскольку мы уже преступили мораль, став грешниками, то не могли творить ничего, что делало бы грех еще более тяжким.
Это было выше моего понимания. В голове у меня роилось много мыслей, которым я давал волю лишь в определенных случаях, и, в сущности, меня интересовал при этом стыд, а также страх признать себя извращенцем. Приходя в возбуждение от своего же возмущения, я не мог себе представить, как все это функционировало бы вообще без стыда. Порой мне казалось, что мой фалл наполнен не кровью, а стыдом. Я был, несомненно, свиньей и развратником, ибо с какой стати я должен был бы трахаться, если б это не было порочным занятием? С чего бы мне пылать страстью к заднице Агаты, если бы ее анус не был вратами порока?
Как-то в субботу, Эрнеста с утра хлопотала по дому, мы сели в мою «тойоту», выбрали дорогу, огибающую Cercle sportif, миновали его и, проехав с полмили, остановились за живой изгородью, что было, конечно, верхом легкомыслия: мы оба рисковали в тот момент головой. За каждым банановым деревом вполне мог стоять местный житель, и на следующий день о нашей связи знал бы весь Кигали. И все-таки мы занялись нашим обычным делом. Меня возбуждали опасность и теснота на заднем сиденье; наши руки и ноги надо было куда-то девать, они нам мешали. Агата кричала, я прикрывал рукою ей рот, а когда все кончилось, она обтерлась, поправила кофточку, одернула юбку – и ни словом не обмолвилась о том безумии, в какое ее ввергла страсть.
На обратном пути я наблюдал за ней через зеркало заднего вида: пытался уловить какой-нибудь знак, – может быть, дрогнут губы или ресницы, хотел, чтобы она стала такой же порочной, как и я, но для нее решение заняться любовью в машине было всего лишь следствием сложившейся ситуации. Так люди ищут другой ресторан, увидев, что в том, куда они зашли поначалу, все столики заняты. Нам не терпелось трахаться. Особняк Амсар был занят. И потому мы трахались в машине. Вот и вся недолга.
Я был разочарован и стал спрашивать себя, а не кроется ли наслаждение в самом процессе – в слиянии наших секретов, в прикосновении моего фалла к отверстиям в ее теле. Прикосновения эти были, безусловно, приятными, однако в общем и целом я делал это конечно же не потому, что ее прелести обладали особой притягательной силой. Все эти детали не гасили наш пыл, но мне нравились минуты, когда я мог остаться один и поразмышлять об интимнейшей близости – не об акте как таковом, а скорее об Агате. Не как о человеке, о женщине, а как о дочери этой страны. Я гордился собой и своим фаллом. Мы покинули захолустные мирки, где нам суждено было родиться, и шагнули в большой мир, чтобы преодолеть все барьеры в виде отметок о стране происхождения и культурных различий. Нас не остановили предрассудки, мы прямиком последовали нашему истинному назначению – погоне за чародейкой, скрывавшейся между женскими бедрами и лоном. Это было то, что предуготовила нам природа. Я должен был проникнуть в эту тайну, однако рассмотреть стыд Агаты спокойно, без помех мне пока не удавалось.
Я часто лежал на софе, пытаясь представить его себе, и всякий раз безуспешно: вульва была бермудским треугольником, в котором бесследно исчезали мои мысли. Какое-то представление у меня конечно же появлялось, но я ему не доверял. Вздрагивал при мысли, что вижу не цесарку Агаты, а какую-то иную манилку – одну из тех, что мы, мальчишки, видели на страницах журналов, найденных в грудах макулатуры. Тогда я принимался складывать образ Агаты, начиная с головы. Как бы ощупью спускался от кончиков волос вниз. Лицо и шея вырисовывались четко. Не без труда, но все же удавалось вообразить соски с крапинками и сладкий упругий живот, но потом я терял ориентацию – мой мысленный взор застилала туманная дымка. Я еще мог распознать пупок. Он отличался от всех когда-либо виденных мною пупков – узловатый бутон, чуть свисавший с живота: повивальная бабка перерезала пуповину кусочком дерева, который Агата носила на груди как амулет и никогда с ним не расставалась. Потом вдалеке проступали очертания пологого холмика с мягким волосяным покровом, смутно виднелись завитки, похожие на опаленное жнивье, – и все. Продвинуться дальше не получалось, и каждый раз я говорил себе, что в следующий раз ничто в анатомии Агаты от моего пристального взгляда не укроется.
Но когда мы находились рядом, я был слишком занят ласками и любованием совершенства, которое могла породить только гениальная фантазия художника, ибо иначе невозможно было представить себе, чтобы бесформенный студень из человеческих клеток вдруг принял бы форму чего-то столь изящного и со столь плавными линиями. Она лежала, простершись в моем изумленном взоре, являя ему безупречность лодыжек, подколенные впадинки темно-красного цвета, переход от светлой ладони к суховато-коричневой тыльной стороне руки, пальцы ног, этих веселых гномиков с пунцовыми личиками, ногти рук, мерцающие синевой спелых слив. Я растворялся в этих моментах созерцания и в то же время воспринимал всю картину с такой остротой, что не мог запомнить ни одной детали. Я весь был во власти только одного чувства, одного крайне неприятного чувства, слитого с ощущением бренности всего земного и боязнью существовать лишь тогда, когда я был вместе с Агатой на софе или вечером на веранде. И все, что не смогу впитать в себя в те часы и минуты, думал я с трепетом, растает во времени и пространстве, окажется прожитым лишь для того, чтобы стать воспоминанием.
Поль воспринимал войну как личную драму. Ему казалось, что объектом нападения мятежников являются он сам и его работа – и не только работа в течение шести лет, со дня его приезда в Кигали, но и труды трех последних десятилетий. И без того сухощавый, он похудел, замкнулся в себе, противился выездам в поле – реализация проектов сталкивалась там с все большими трудностями. Поль часами не покидал своего кабинета, и если иногда я заглядывал к нему, то редко заставал его за работой. Теперь он сидел за письменным столом очень прямо, и я вздрагивал от испуга, если он неожиданно бросал на меня взгляд, полный боли и упрека, будто именно я был виноват в том, что с ним поступили несправедливо. На планерках он отмалчивался, нередко даже с обиженным видом, и не вносил никаких предложений относительно работы дирекции. Случалось, что вскоре после начала заседания Марианна просила меня выйти из зала, и тогда я слышал через дверь, как она терпеливо уговаривала его сделать то-то и не делать того-то.
Не оставалось сомнений, что Поль со дня на день покинет свой пост. И когда он с семьей полетел на Рождество домой, чтобы две недели отдыхать, катаясь на лыжах с гор, мне не верилось, что он возвратится в Кигали. Однако в новом году он снова был здесь – смуглый от загара, а вернее, с красным лоснящимся лицом. Он утопал в своих просторных рубашках, втягивая голову в воротник и напоминая при этом черепаху.
И все-таки с ним что-то произошло. Немая обида сменилась немногословным упрямством, а затем мало-помалу стала возвращаться и прежняя решительность. Однажды мы ехали с ним по Кигали, нас начал обгонять патруль французских десантников, и, когда джип поравнялся с нами, Поль воскликнул: «Vive la France! Vive la république!», голос его прозвучал так громко и страстно, что я испугался, а прохожие разом обернулись. Десантники же, за стеклами своих темных очков не обратив на нас никакого внимания, промчались дальше, и я так и не понял, какую республику имел в виду Поль – французскую или здешнюю. Ясно было только, на чьей он стороне – на стороне президента, генерал-майора, одобряя то положение вещей, защищать которое в страну прибыли французы.
Поль часто встречался с Жанно, хранившим президенту неколебимую верность. Советник потребовал от дирекции, чтобы она публично, в форме послания, выразила свою солидарность с главой государства. В конце концов, Хаб – единственный деятель в стране, который может обеспечить ее гражданам безопасность и стабильность. Марианна решила, что брать чью-либо сторону преждевременно. Требование поддержал один Поль, и он почувствовал себя преданным, когда оно было отклонено. Именно сейчас, в это беспокойное, сумбурное время, надо ясно показать, какую позицию мы занимаем, говорил он. Переполненные тюрьмы Поль посещал очень неохотно, по принуждению, хотя речь шла о помощи арестованным. Он вообще сомневался в их невиновности. Откуда мне знать, что натворили эти люди, говорил он, без причины они бы тут не сидели. Как-никак, а идет война, не так ли? Война, которую стране навязали. Государство вправе защищать себя – более того, оно обязано это делать. В особых же ситуациях не обойтись без особых мер. В этой стране царил мир, вслух размышлял Поль, и если ныне вошло в моду критиковать президента, то он, Поль, не может не заметить, что президент не хотел войны. Хаб подарил стране благополучные годы. А теперь, что будет теперь? – вопрошал он с горечью. Будут разрешены партии? Превосходно. Вы когда-нибудь видели людей, называющих здесь себя членами оппозиционных партий? Не думаю, что кто-нибудь из нас – вы, я или любой другой человек – сможет успешно продолжать работу, если к власти придет один из этих странных субъектов.
Хотя новая конституция еще не была принята, а партии находились, в сущности, под запретом, в стране образовалось множество разных клубов. Среди тех, кто стремился сделать карьеру в политике, наверняка было немало порядочных людей, но не меньше было и честолюбцев с весьма сомнительной репутацией. Один из лидеров Либеральной партии, убивший свою жену и получивший за это срок, оставался на свободе, поскольку его помиловал президент. Он подозревался в растрате государственных средств и хотел, видно, использовать свой политический вес, чтобы не выплачивать долги. Другой лидер той же партии был автором смелого памфлета, в котором отстаивал идеи социальной справедливости. Он обвинял правительство в коррупции, в развале экономики, в некомпетентности. Памфлет горячо обсуждался и нами, зарубежными спецами. Как вдруг его автор пропал. Прошел слух, что его убили. И мы уже начали верить в это, как – опять же неожиданно – узнали, что отважный критик сбежал в Кению, где проматывает деньги партнера по бизнесу. Впрочем, хороши были и многие из тех, чья репутация считалась неподмоченной: полагая себя обойденными милостью президента и не продвигаясь по службе, они старались взять реванш ретивостью в политической жизни.
Всемирный банк вынудил правительство девальвировать валюту на сорок процентов, сказал Поль. Торговать коровьим навозом выгоднее, чем продавать кофе. Банда безумных наемников развязала войну, но, вместо того чтобы дружными рядами встать на сторону президента, эти негодяи плетут интриги и создают еще больший хаос. Демократия? Красивое слово, но демократия их не интересует. Их интересует только возможность набить свой карман.
В то же самое время он начал ловить мух. Не убивать, а ловить их рукой. Точнее, пытаться поймать, ибо сколько бы раз он ни пытался это сделать в моем присутствии, всякий раз терпел фиаско. Поль просто уступал мухам в скорости, однако попытки эти говорили, что к нему вернулись прежняя решительность и, главное, терпение. Неудачи в ловле мух не смущали его. Напротив, они, скорее, побуждали продолжить это занятие. Гнев его угас. Шел первый год войны, в какой-то момент он понял, что противостоять реальностям нелепо, и, пожалуй, еще до вступления в силу новой конституции, допускавшей деятельность политических партий, стал прежним Полем.
Не Марианна заставила его снова поверить в смысл своей работы – это сделал Жанно. Они обедали в «Пальме», и, не скупясь на слова, советник объяснил, почему именно в настоящий момент страна остро нуждается в таких людях, как Маленький Поль. Сам он, Жанно, остается, хотя критика в его адрес становится все откровеннее. Он провел переговоры с Всемирным банком, добился приемлемых условий приспособления отдельных отраслей народного хозяйства к реалиям сегодняшнего дня, но никто не знал, за счет чего он вынудил господ в Нью-Йорке пойти на уступки. Люди уже не особенно надеялись на нашего Распутина, ведь крутые меры по экономии отражались на жизни всех и каждого. В Центральном управлении обсуждался вопрос о его отзыве на родину, близость к президенту больше не казалась некоторым должностным лицам плодотворной. И все-таки Марианне и Полю удалось сохранить его имя в платежной ведомости еще на год. Я никогда больше не видел этого Жанно. Он остался человеком-невидимкой. Однажды он настоятельно порекомендовал нам послать Хабу и его правительству ноту солидарности. Но мы отказались это сделать. Никто так и не выяснил, какую роль он фактически играл. Каким было его влияние на президента? Нес ли он ответственность за политику, которая становилась все более радикальной? Многопартийная система была ему, во всяком случае, не по нутру, а партии как раз и возникали в те дни под давлением международного капитала. Он был настроен против высокорослых, это не подлежало сомнению. Его не устраивало, что они оказывали на общество определенное влияние. Ясно одно: несколько лучших лет своей жизни и все свои знания он употребил на то, чтобы у власти оставался диктатор. А мы платили ему жалованье. Страна хотела демократии. И разве была еще какая-нибудь организация, которая лучше Дирекции Швейцарской Конфедерации по сотрудничеству с развивающимися странами подходила для того, чтобы научить эту страну жить по демократическим правилам? Маленький Поль не сомневался, что наша задача заключается в оказании услуг и что не нам решать, в чем нуждается та или иная страна. Нам лишь надлежало направлять дикие страсти, неистовые стремления, жгучую жажду спорить и доказывать свою правоту в спокойное русло. А что было лучше, чем показать людям, как надо работать на серьезной радиостанции, и помочь им таким образом завести сторожевого пса демократии с крепкими зубами?
Поэтому мы были несказанно рады, когда к нам приехал министр по делам информации. Фердинанд был опытным историком с учеными степенями, присвоенными в Сорбонне, одним из лучших знатоков истории своей страны. Он был интити – человек, получивший образование в Европе. Не из числа твердолобых, никогда не покидавших пределы Кигали и своих чиновничьих кабинетов. Но идея исходила не от него, а с самого верха. От Хаба. То ли в канун Нового года, то ли сразу после праздника он встретился с нашим послом: правительство желало поддержки на информационном поле, оно было возмущено инсинуациями в СМИ разных стран. И мы тоже. Деятельность правительства Хаба освещалась в искаженном виде. Годами в нем видели гаранта прав и спокойствия и вдруг опустили его до уровня обыкновенного диктатора. Не все шло гладко, это нужно признать, но режим заслуживал лучшей прессы.
В апреле, это был семнадцатый месяц войны, в середине сезона дождей, Фердинанд приехал в отдел координации. Лило так, будто в небе тоже были дамбы и их внезапно прорвало, – дождь стоял стеной. Депутация была небольшая, министра сопровождали руководитель радиовещания и три чиновника невысокого ранга. Скромные, вежливые, деликатные люди с тихими голосами и безукоризненным французским. В костюмах, но вовсе не гордясь этим. Пиджаки к тому же были поношенные, с вытянутыми на локтях рукавами, местами даже с заплатками. Назвать чиновников одетыми с иголочки было никак нельзя. Впрочем, как и нас, сотрудников дирекции. В Кигали не было бутиков. Коллеги покупали себе одежду с помощью фирм посылочной торговли, и часто те же брюки никуда не годились. Отправить пакет обратно в далекую Европу стоило немалых денег, так что носили и слишком приталенное, и мешковатое, и с перекошенными бортами.
В посольстве было уютно, здание могло сойти за близнеца амбара, в котором дядюшка Дагоберт хранил деньги, – куб, облицованный красной листовой сталью, с окнами, похожими на бойницы. В небольшую комнату для переговоров на втором этаже дневной свет почти не проникал, но мы не стали включать электричество. Сидели в полумраке, заметить какое-либо движение на черных лицах по другую сторону стола было почти невозможно, но тон голоса, обращенного к нам, был мягок, дружелюбен, смирен. Фердинанд был человеком исключительно вежливым, сдержанным в общении, скромным, слова выбирал обдуманно, никаких требований не выдвигал. В скупых выражениях обрисовал проблемы и одновременно пути их решения. Члены депутации подчеркивали, что они стремятся только к лучшему, и реплики их звучали также в высшей степени корректно. Воля к действию у них была, но средств недоставало. Мы редко отказывали им. Если бюджет позволял, деньги они получали. Все-таки мы имели дело с министром. В недавнем прошлом радиоканалы обеих стран уже сотрудничали друг с другом, молодые журналисты из Кигали проходили в Швейцарии стажировку, дирекция платила им стипендию. Существовала договоренность о возобновлении сотрудничества. Журналисты хотели работать, однако им не хватало не только опыта, но зачастую и знания азов их профессии. А что было важнее свободной прессы?
Поэтому мы пригласили одного из швейцарских журналистов приехать в Кигали. Им оказался невысокий человек, с густой шевелюрой, раскосыми глазами и привычкой застегивать пиджак, просовывая верхнюю пуговицу в нижнюю петлю. Мы оплатили перелет в оба конца, проживание в лучшем отеле страны в течение двух недель и заплатили за его труды сумму, которую здешний рабочий не заработал бы и за четыре года. Его отчет о командировке содержал рекомендации по улучшению передач местного радио. Фердинанд и его коллеги сразу же приняли их как руководство к действию. В передачах появилась живость, зазвучала музыка. Сотрудники радиостанции рассказывали нам, что они теперь не только зачитывают правительственные заявления, но и критически их комментируют. Мы были довольны и верили им на слово, ибо проверить истинность сказанного не могли: передачи велись все на том же наречии банту, не менее трудном для освоения, чем китайская грамота.
Но сколь успешно они выполняли наши рекомендации, мы заметили только тогда, когда Фердинанд неожиданно лишился своего поста. Не потому, что Хаб был им недоволен. Отнюдь! Просто подчиненные Фердинанда слегка перестарались, утверждая, что раскрыли заговор «тараканов» против ведущих деятелей страны – политиков, чиновников, бизнесменов высокого ранга, родом преимущественно из Бугесеры.








