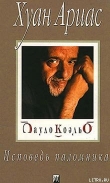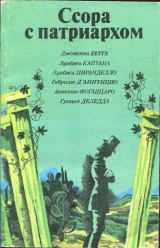
Текст книги "Ссора с патриархом"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Соавторы: Габриэле д'Аннунцио,Луиджи Капуана,Джованни Верга,Антонио Фогаццаро,Адриан Д'Аже,Грация Деледда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 39 страниц)
ДЕЯНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ
В монастыре Санта Мария дельи Анджели всегда царило прямо-таки райское спокойствие. Ни скандалов не было, ни споров, когда подходило время переизбирать игуменью, сестру Марию Фаустину, которая держала архиерейский посох уже двадцать лет точно так же, как семья Монджиферро, откуда она была родом, держала бразды правления в городе. Не возникало ссор между монахинями, у какого священника исповедоваться или при назначении на должности в сообществе, потому что и так было известно, кому они предназначены – тому, кто познатнее, у кого есть влиятельные родственники. И если верно говорят, что монастырь – это маленькая вселенная, то и здесь была своя иерархия: кто-то владел собственным участком сада, а кто-то не владел, у кого-то были кельи, запиравшиеся на ключ, были свои куры с пометкой на лапке и определенное время, когда можно было распоряжаться прислужницами и что-то испечь в монастырской пекарне. Однако ни у кого не рождались зависть или ревность – эти козни дьявола, что вносят раздор, когда живут без страха перед богом или не блюдется дисциплина. Известно же, что не все пальцы на руке одинаковы, и даже в Ветхом завете есть и патриархи, и старосты. В монастыре Санта Мария дельи Анджели игуменьи и ключницы всегда были из семей Флаветта или Монджиферро. Значит, так тому и положено быть, никому и в голову не приходило сетовать на это. Если же и возникали порой какие-нибудь разногласия – господи, прости, мы же люди, и всякое бывает, известное дело! – то сестра Фаустина со своим деликатным обхождением и дон Грегорио, ее брат, со своим мороженым и прохладительными напитками, которые он присылал всем монахиням по большим праздникам, быстро восстанавливали в монастыре полнейший порядок и уважение к власти.
Но в один прекрасный день это райское спокойствие исчезло как дым. Достаточно было пустяка, чтобы начался адский переполох.
Падре Чичеро и падре Аморе [34]34
Чичеро – Цицерон, Аморе – Любовь.
[Закрыть], члены конгрегации «Святейший спаситель» [35]35
Эта конгрегация была основана в 1732 году Альфонсо Мария де Лигуори в Италии. В ее обязанности входило распространение веры среди молодежи, чтение проповедей и пропаганда религиозного подвижничества главным образом в сельской местности.
[Закрыть], оба красавцы мужчины, приехали в великий пост читать проповеди и с этой целью основали общество под названием «Деяние божественной любви». Верующие, желавшие послушать их особые нравоучения, должны были собирать деньги по подписке, чтобы заплатить им. Повсюду только и разговоров было, что об этом «Деянии». Добрые монахини тоже хотели пригласить проповедников. Однако монастырь не мог позволить себе лишние расходы, и сестра Мария Фаустина сказала, что для говенья вполне достаточно дона Маттео Курчо, капеллана [36]36
Капеллан – помощник священника у католиков.
[Закрыть].
В ту пору в монастыре Санта Мария дельи Анджели была одна новенькая воспитанница – Беллония, дочь Пеку-Пеку, трактирщика, который разбогател, разбавляя вино, и так возомнил о себе, что решил отдать ее учиться вместе со знатными синьоринами, отчего ее и прозвали в насмешку Донной [37]37
Донна – уважительное обращение только к знатным женщинам.
[Закрыть].
Однако Беллония, будучи по натуре простой деревенской девчонкой, чувствовала себя в монастыре, точно дьявол в святой воде, и очень скоро показала и Пеку-Пеку, и всем монахиням, где раки зимуют. Первый раз она удрала из монастыря через переговорное окошко в приемной. Одна бедная женщина пришла туда не знаю уж за какими сладостями, и тут, представляете себе, что с нею стало, когда, открыв переговорное окошко, она увидела, что из него вылезает сам дьявол во плоти. В другой раз Беллония, рискуя сломать шею, спрыгнула с высокой каменной ограды в саду – только юбки в воздух взлетели. А потом, когда в монастыре начали что-то строить и повсюду сновали каменщики, она умудрилась прошмыгнуть мимо сестры привратницы и пустилась наутек. Пеку-Пеку, бедняга, каждый раз отыскивал свою дочь среди мальчишек или где-нибудь на улице, а то и за городом, за оградой из кактусов. Взяв за ухо, он водворял ее в монастырь, умоляя мать игуменью простить дочь и принять обратно, христа ради. А взбунтовавшуюся девочку, которая визжала, каталась по земле, рвала на себе одежду и волосы и ни за что не хотела оставаться в заточении в монастыре, Пеку-Пеку увещевал:
– Ну наберись терпения, Беллония!.. Ради твоего папочки! Ну утешь ты своего папочку!..
Беллония не хотела утешать его. Видя, что ей никакими силами не вырваться отсюда, из этой клетки, что ее снова и снова будут возвращать сюда, она придумала, как сделать так, чтобы сестры сами выгнали ее. Она принялась затевать ссоры то с одной монахиней, то с другой, сеяла раздоры, выдумывала сплетни и творила тысячи других пакостей, но ничто не помогало. Пеку-Пеку приходил в монастырь, просил, умолял, задабривал, кого только мог, использовал покровительство дона Грегорио Монджиферро и других важных особ – все они были его должниками, – посылал монастырю подарки, и Беллония по-прежнему оставалась в его стенах. Ведь отец вбил себе в голову, что она должна воспитываться в монастыре, пока он не выдаст ее замуж.
– Ну утешь меня, и я сделаю для тебя все, что угодно!
Беллония подумала, подумала и наконец заявила, что хочет видеть в монастыре основателей «Деяния божественной любви», и Пеку-Пеку оплатил приглашение этих двух священников. Проповеди по случаю великого поста читались в Санта Мария дельи Анджели по всем канонам – с органом, пальбой из мортир и колокольным звоном.
Прошло всего два дня, как падре Чичеро и падре Аморе стали по-своему толковать пастве слово божие, а бедные монахини, казалось, все с ума посходили. Одни были охвачены угрызениями совести, другие каждый день вспоминали про какое-нибудь новое свое прегрешение. Блаженный экстаз, религиозный пыл, девятидневное молебствие перед изображением той или иной мадонны, голодания, власяницы, бичевание до кровоподтеков. Некоторые публично обвиняли себя в том, что недостойны носить монашеское покрывало. Сестра Кандида, наказывая себя, перестала мыть даже руки, сестра Бенедетта носила под одеждой на голом теле плетку из козлиной кожи, а сестра Челестина положила камешки в туфли. Наконец, сестра Глориоза после проповеди об адских муках просто спятила – ходила и твердила одно и то же: «Иезус-Мария! Сан Микеле Арканджело! А ты, мерзкий дьявол, изыди!»
Поскольку «божья милость» проникала в сердца через уста двух приезжих проповедников, сестры чуть ли не рвали их на части у исповедальни или в приемной, осаждали даже дома, прибегая к помощи пономаря, и выкладывали им свои прегрешения и душевные терзания, одаривая целыми подносами сладостей [38]38
Делать подарки исповедникам и другим духовным лицам запрещалось. Это считалось одним из прегрешений монахинь в женских монастырях.
[Закрыть]. Матери игуменье посыпались запросы монахинь, просивших разрешения обратиться к тому или другому из приезжих священников для внеочередной исповеди. Напрасно сестра Мария Фаустина, которая уже по своему возрасту была противницей всего нового, отказывала в разрешении, хотя бы из уважения к дону Маттео Курчо, монастырскому капеллану. Монахини апеллировали к викарию, протоиерею, даже к епископу, придумывали какие-то особые прегрешения, жаловались, что дон Маттео Курчо глух и почти не слышит их: «Синьора, да. Синьора, нет. Я понял. Говорите дальше». Некоторые даже обвиняли его в том, что он мешает им каяться, потому что его грязная, давно не мытая борода не внушает никакого почтения к слуге божьему.
А эти два приезжих священника, вот они действительно умели исповедовать! И падре Аморе – олицетворение своего имени, красавец, с могучим голосом, настолько громким, что в патетических местах его проповеди содрогались стены церкви, и падре Чичеро, артист в своем деле, сам святой Джованни Кризостомо [39]39
Святой Джованни Кризостомо – Иоанн Златоуст – византийский церковный деятель, был патриархом Константинополя, проповедовал аскетизм и осуждал роскошь и безнравственность императорского двора и высшего духовенства.
[Закрыть], истинный мастер вести медоточивые речи. Куда приятнее было поведать о своих прегрешениях ему на ушко. А как прекрасно он умел утешать:
– Сестра моя, плоть слаба… Все мы жалкие грешники… Положитесь на «Деяние божественной любви»…
Когда он шептал своим проникновенным голосом благие слова и смотрел своими золотистыми глазами, которые словно обшаривали вас из-за решетки, казалось, он заглядывает вам прямо в душу, почти что ласкает ее, а когда поднимал свою красивую руку, тонкую и белую, чтобы отпустить грехи, вам хотелось поцеловать ее.
Нечто неладное было отмечено уже с самых первых дней. Все шептались по углам о дерзости сестры Габриеллы, которая каждый день надолго заполучала падре Аморе, часами занимая его в исповедальне, словно имела на это jus pacsendi [40]40
Право пастбища ( лат.). Право пасти скот на необработанных государственных землях давалось, согласно средневековому законодательству, тому, кто вносил в казну определенный годовой взнос.
[Закрыть], как будто была потомком короля Мартина [41]41
Имеется в виду Мартин Старый (1356–1410), прозванный Гуманным, последний арагонский король, правивший Сицилией.
[Закрыть]. Другие испытывали чувство унижения, когда видели, какие корзины всякого добра посылала в подарок падре Чичеро сестра Мария Кончетта – консервы, целые мешки сахара и кофе, разную прочую снедь. Каждый раз после мессы падре Чичеро все это складывалось в приемной, и можно было подумать, что тут готовилось угощение по случаю пострижения. Понимать это надо было так: кто не мог тратить деньги, как сестра Мария Кончетта, тот либо оказывался посрамленным, либо лишался особой милости господа, которую дарил на исповеди приезжий священник.
Вот почему сестра Челестина вынуждена была пожертвовать двумя курами – это все, что у нее было, а сестре Бенедетте, у которой и этого не было, пришлось просить милости постирать белье падре Чичеро. Недаром ведь говорят: каждый цветок – знак любви.
Оба священника протестовали, особенно падре Чичеро, соблюдавший приличия:
– Не хочу… Не могу позволить.
Однажды он даже сделал вид, будто разгневался на дона Раффаэле, пономаря. А тот был совсем ни при чем, подобных сцен с другими священниками прежде не видел, и ему пр етила эта комедия, в которой падре Аморе играл роль благодетеля, оказывал одолжение, забирая продукты и подношения: не отсылать же их обратно.
– И даже спасибо не скажут! – ворчал дон Раффаэле, возвращаясь от них с пустыми руками.
Иными словами, падре Чичеро и падре Аморе ловили добро, подобно апостолам, которые были рыбаками и умели закидывать сети. Каждый день из женского монастыря в монастырь капуцинов, где остановились падре Аморе и падре Чичеро, бедняга дон Раффаэле таскал подносы и корзины, полные подношений; однажды даже дон Маттео Курчо – нет, не из любопытства, а только для того, чтобы при случае упрекнуть на исповеди своих монахинь, – сунул нос под салфетку прикрывавшую корзину.
– Черт возьми, дон Раффаэле! Для вас это тоже, должно быть, большой праздник! Представляю, как вознаграждают вас святые отцы!
– Вознаграждают?.. Даже в лицо не плюнут, ваше священство! Только и слышишь: «Retribuere, Domine, bona facientibus» [42]42
Вознагради, боже, за добрые дела! ( Лат.)
[Закрыть], a что от этого проку…
Можно себе представить, что творилось с Беллонией, отец которой оплачивал этим священникам проповеди в монастыре и которая думала, что они будут принадлежать только ей! Деревенская невоспитанная девчонка, она принялась оскорблять одну монахиню за другой – сестру Габриеллу, по полдня сидевшую в исповедальне, сестру Марию Кончетту, завладевшую падре Аморе, сестру Челестину, млевшую при виде падре Чичеро. Словом, в монастыре свирепствовала ревность, боже упаси нас от этого. Тогда мать игуменья проявила власть, чтобы прекратить скандал. Никаких приезжих священников. Никаких внеочередных исповедей. Кому надо, могут исповедаться, как обычно, у дона Маттео Курчо, капеллана, все без исключения, начиная с Флаветты. Разговор окончен. А сестра Габриелла ничего не сказала, только вовсе перестала исповедоваться – ни у приезжих священников, ни у своего капеллана – целых две недели. Тогда игуменья, желая показать, что не случайно она из рода Монджиферро, приказала:
– Сестра Габриелла, повелеваю вам повиноваться, отправляйтесь на исповедь к дону Маттео Курчо.
Сестра Габриелла исполнила повеление, явилась к исповеднику и с высокомерием, свойственным всем Флаветта, заявила:
– Я пришла по приказу матери игуменьи. Я перед вами.
И больше ничего. Бедный дон Маттео Курчо, человек добрейшей души, на этот раз не смог сдержать себя.
– Все синьоры монахини высокомерны, – сказал он, – но вы, ваша милость, самая высокомерная из всех.
Беллония, не в пример другим, не уступала: или приезжий священник, или больше никто. Пеку-Пеку пришлось снова обрядиться в новый костюм и прийти уговаривать игуменью, но та стояла на своем:
– Теперь и воспитанницы начали требовать их? Только этого не хватало! А зачем я держу падре Курчо?
Пеку-Пеку, которому было жаль потраченных на священников денег, не мог успокоиться.
– Вот так раз! Как будто у воспитанниц не может быть таких же тайных прегрешений, как у монахинь! Ведь я же в конце концов плачу!.. – Обиженный и недовольный, уходя, он не удержался: – Похоже, надо в рай попасть, чтобы к тебе отнеслись по-человечески! Будь Беллония дочерью какого-либудь нищего барона, ей бы тогда дали этого приезжего священника!
Беллония, однако, чтобы победить, решила сменить тактику. Можно сказать, сам дьявол во плоти, она принялась теперь изображать святую – впадала в экстаз каждые четверть часа, изводила себя слезами, стоило прикоснуться к ней, по два-три раза в день требовала срочно вызвать дона Маттео Курчо в исповедальню, не то вот-вот погибнет от прегрешений, а потом молола ему всякую чушь, отчего несчастный в конце концов терял терпение.
– Дочь моя, всему надо знать меру… Это старается дух-искуситель. Что вы мне теперь скажете, послушаем!
– А то, что я совершила тяжкий грех. Но вашей милости я почему-то ничего не могу сказать… Или потому, что вы не умеете исповедовать, или потому, что вы мне противны…
Тут бедный капеллан окончательно вышел из себя и хлопнул дверцей окошка ей прямо в лицо. Мать игуменья пришла в бешенство и в тот же день при всех, в трапезной, назначила Беллонии примерное наказание.
– Донна Беллония, будете есть вместе с кошками [43]43
Распространенное в монастырях наказание – наказуемый должен был стать на колени посреди трапезной и есть из тарелки, поставленной на пол, к которой тотчас со всех сторон сбегались монастырские кошки, но он не смел их отгонять. Обычно кошки съедали пищу быстрее наказуемого, который из-за отвращения часто совсем ничего не ел.
[Закрыть], чтобы научиться скромности, – произнесла сестра Мария Фаустина в нос, что делала всегда, когда хотела напомнить о своем происхождении.
Девчонка, как будто это ее и не касалось, спокойно сидела на пятках посреди трапезной с бичевой [44]44
Бичева для самобичевания представляла собой связку веревок или стальных прутьев.
[Закрыть]на шее и терновым венком на голове и от скуки считала, сколько раз сестра Аньезе откусит от половинки яйца и сколько мух едят из одной тарелки с сестрой Кандидой. Потом она незаметно достала из кармана игольницу и принялась перекладывать иголку из одной ячейки в другую. И вдруг, когда сестра Сперанца читала на кафедре молитву, а остальные монахини замолкли, уткнувшись носом в тарелки, все услышали, как дочь Пеку-Пеку – чего еще ждать от дочери трактирщика – громко зевает.
Игуменья строго постучала ножом по стакану:
– Донна Беллония! Приказываю повиноваться. Вы сейчас трижды совершите крестный путь на коленях с бичевой и терновым венком!
Девушка широко открыла полусонные глаза и, кончив зевать, спросила:
– А зачем, синьора игуменья?
– Затем, чтобы вы научились хорошим манерам, несчастная!
– А… Хорошие манеры… Опять одно и то же!..
И тут, по-прежнему сидя на пятках посреди трапезной, она сорвала с себя терновый венок и унизанную узлами веревку и закричала:
– Я не хочу здесь оставаться, вы же знаете!.. Это мой отец хочет держать меня тут, пока не выдаст замуж!
– Она перепутала монастырь с трактиром, вот что! – громко заметила сестра Бенедетта. – Более того, она решила, что здесь пивная!
– Да, пивная!.. А ваша милость, что стирает платки падре Чичеро, лишь бы понюхать его табак… Это еще похуже!..
В трапезной разразилась буря. Сестра Мария Кончетта вскочила из-за стола, энергично вытирая себе рот салфеткой, словно ей попала какая-то гадость. Сестра Габриелла скривила свой крючковатый, как у всех Флаветта, нос и стала плеваться во все стороны. А с игуменьей, казалось, сейчас случится припадок – желтая, как шафран, и голос от гнева дрожал в носу и среди шатающихся зубов. Все вскочили и набросились на донну Беллонию. Они кричали, жестикулировали.
– Да, синьора, – упрямо продолжала дочь Пеку-Пеку с нахальной улыбочкой плутовки. – Как будто этого никто не знает!.. Сестра Мария Кончетта своими руками вкладывает печенье в рот падре Чичеро!.. А как обругала сестра Габриелла сестру Челестину за то, что она крадет у нее падре Аморе!..
– Это скандал! Это безобразие! – завопили все хором.
Сестра Глориоза, с глазами, вылезавшими из орбит, бормотала:
– Иисус Мария!.. Святой архангел Михаил!.. Libera nos, Domine!.. [45]45
Освободи пас, господи!.. ( Лат.)
[Закрыть]
– Да, синьора! Это они устраивают безобразие из-за исповедника. А я не могла исповедаться у приезжего священника, потому что я не дочь барона…
Игуменья, выпрямившись на своем возвышении, наконец сумела заставить услышать свой высокий голос:
– Я положу конец этому безобразию! Отныне и впредь единственным исповедником в монастыре будет дон Маттео Курчо, как и прежде!.. Приказываю повиноваться! Сестра привратница никого больше не пропустит в монастырь без моего на то особого разрешения… Приказываю повиноваться!.. Вы, донна Беллония, проведете восемь дней в карцере на хлебе и воде. А потом разберемся с вашим отцом!..
В ту ночь в монастыре Санта Мария дельи Анджели никто не спал.
– Что я могу поделать, если люблю его! Сердцу разве прикажешь?.. Так говорит возлюбленная царя Соломона в «Песни песней»…
Поскольку приемная и исповедальня монастыря Санта Мария дельи Анджели были теперь закрыты для падре Чичеро, он то и дело приводил слова возлюбленной из «Песни песней» в своих последних проповедях, которые читал монахиням по случаю великого поста. Падре Аморе, более пылкий, носился, как жеребенок, по Ветхому и Новому заветам, извлекая из них назидания такого рода: «Пленила ты сердце мое, о сестра моя, о невеста моя! Пленила ты сердце мое лишь одним взглядом очей твоих!..», «О боже, ты изгнал нас… Помоги же нам уйти от неминуемой опасности…».
В хоре, вторившем ему, слышны были подавленные вздохи и еще более выразительные всхлипывания. Сестра Бенедетта под своим черным покрывалом не в силах была сдержаться и зарыдала, как ребенок. А Беллония должна была слушать все это и глотать обиду.
Дулась она, дулась, и вдруг ей пришла в голову хорошая мысль.
Когда закончилось трехдневное богослужение, когда были погашены свечи и оплачены расходы, падре Аморе и падре Чичеро явились поблагодарить синьор монахинь и попрощаться с кающимися дочерьми, со всеми по очереди, чтобы не было обиды. Можете себе представить, в каком состоянии были бедняжки, а падре Чичеро то и дело доставал из кармана платочек, словно и у него сердце разрывалось на части при этом расставании. Вдруг в самый разгар немой сцены, происходившей между падре Аморе и сестрой Челестиной, – у обоих слезы на глазах – появилась Беллония и выложила все, что думает по этому поводу. Слезы, истерика, вопли. Их услышали даже на площади. Сбежались соседи, примчался Пеку-Пеку, явился дон Маттео Курчо, подошли даже бездельники из аптеки. И тут, увидев, что в приемной полно народа, Беллония заявила во всеуслышание, что хочет уехать с приезжими священниками, что всем сердцем привязана к ним…
Одним словом – скандал. Тут вскочила мать игуменья, разъяренная как фурия, и набросилась на всех, начиная с приезжих священников:
– Ах вот оно что! Вот, значит, как вы разумеете «Деяние божественной любви»! Я буду не я, если не сумею наказать вас! Напишу монсиньору! Вас лишат права служить мессу и исповедовать! Вы еще узнаете, кто такие Монджиферро!
Несчастные слуги божии едва унесли ноги. Мать игуменья на этот раз вынуждена была изгнать из монастыря эту чертовку. И Пеку-Пеку пришлось забрать свою Беллонию, которая так и не получила права называться донной, зато одержала полную победу.
1890
Перевод И. Константиновой
ГРЕХ ДОННЫ САНТЫ
Священник, читавший великим постом проповедь, на сей раз, чтобы поразить этих болванов, которых приходилось буквально на аркане тащить в церковь, отчего, впрочем, они лучше не становились, придумал устроить необычный спектакль, и уж если он не поможет, значит, вообще нет смысла вдалбливать им проповеди и нравоучения. Поистине, дурака учить – что мертвого лечить.
Так вот, он велел пономарю и еще двум или трем служкам спрятаться в старом склепе под полом церкви и, объяснив, что от них требуется, сказал:
– Остальное предоставьте мне!
Подходил конец говенья, и по этому случаю он читал проповедь об адских мучениях. Церковь была набита битком: кто пришел сюда по привычке, кто от нечего делать, одни – по приказу судьи (поскольку в те времена страх перед господом внушался с помощью полиции), другие – чтобы поволочиться за юбками. Мужчины держались слева, женщины – справа. Проповедник, поднявшись на амвон, принялся так живописать картины ада, словно лично побывал там, и время от времени страшным, громовым голосом возвещал:
– Горе вам! Горе!
Словно пушки палили. Женщины, сбившись в кучу за оградой, справа от центрального нефа, при каждом возгласе в страхе опускали головы, и даже сам дон Дженнаро Пепи – не кто-нибудь, а дон Дженнаро Пепи! – бил себя при всех в грудь и громко молился:
– Сжалься и помилуй меня, господи!
Только все это было сплошным притворством, потому что он каждый день полагался на господа, и к мессе ходил, и исповедовался, прежде чем спустить с ближнего шкуру, оставшись с ним с глазу на глаз, и все, кто присутствовал на проповеди, знали, что и сами они, выйдя из церкви, опять будут делать то, что делали всегда.
– Горе тебе, богатый кутила, разжиревший на крови бедняков!.. И тебе, книжник и фарисей, грабитель воров и сирот!..
Это священник говорил про нотариуса Дзакко. И про всех остальных он тоже говорил – про барона Скамполо, что вел тяжбу с капуцинами, про дона Луку Арпоне, что сожительствовал с женой управляющего, про управляющего, который, в свою очередь, вознаграждал себя, разворовывая хозяйское добро, про вольнодумцев, что в аптеке Монделлы плели нити заговора против Бурбонов, короче, про всех – про бедных и богатых, про девушек и замужних женщин, потому что каждый в городке знал грешки соседа и думал про себя: «Ну, слава богу, это про него». И каждый раз, когда проповедник распространялся о каком-нибудь прегрешении, все оборачивались в сторону виновного.
– Что же вы станете делать, когда объемлет вас вечный огонь, а?.. Горе вам!
– Что с тобой? – зашипела донна Орсола Джункада на ухо дочери, вертевшейся на стуле, словно на горячих угольях, и старавшейся разглядеть в глубине церкви Нини [46]46
Нини – уменьшительное от Антонио.
[Закрыть]Ланцо. – Что с тобой? Чего ты крутишься? Смотри, я тебя живо успокою парой пощечин!
Можно было задохнуться в этом курятнике, – жара, темень, вонь от грязной толпы, две тонкие свечки, жалко мерцавшие перед распятием на алтаре, нытье церковного служки, нахально совавшего вам под нос кружку для подаяния, заполнявший всю церковь громовой голос проповедника, от которого мурашки пробегали по коже, – делалось жутко, и казалось, что опять начинают терзать прежние и новые сомнения, особенно когда слышишь, как бичует себя там, внизу, в кромешной тьме, этот бедолага Кели [47]47
Кели – уменьшительное от Микеле.
[Закрыть]Моска, известный ворюга, вздумавший явить добрый пример и изменить свою жизнь прямо вот тут, на глазах судьи и капитана полиции, – вжик! вжик! – ремнем от брюк. А потом пропадет в селе курица – так сразу же побегут искать его, этого иуду! Мужчины еще так или иначе держались. Но с женщинами слово господне творило поистине чудеса – в их стороне без конца вздыхали, причитали, шмыгали носом. У кого совесть была чиста, при всех благодарили господа бога – coram populo [48]48
При народе ( лат.).
[Закрыть], тем хуже было некоторым другим, кто не смел носа поднять от молитвенника: донне Кристине – судейской жене, к примеру, или Каолине, что стояла в стороне, словно зачумленная, со всеми своими побрякушками на шее и мускусным духом, отравлявшим воздух вокруг.
– Помогут ли тебе, некающаяся Магдалина, умащенные миром и ладаном волосы и дерзкие украшения?..
Донна Орсола зажала себе нос, возмущенная этим скандалом – появлением в церкви Каолины, потому что мужчины из-за таких вот дурных женщин пренебрегают даже таинством брака и порядочные девушки из-за этого в девках плесневеют, не говоря уже о других бедах, какие проистекают отсюда, – стараясь помочь себе, они цепляются даже за таких неудачников, не имеющих ни кола ни двора, как Нини Ланцо. А отцы семейства, что ведут беспутную жизнь в свои пятьдесят…
– Горе тем, кто нарушает супружескую верность! Горе развратникам!
– Гм! Гм!
Но вот проповедник обрушился на прихожан с упреками в седьмом смертном грехе [49]49
Седьмой смертный грех – леность.
[Закрыть]и начал называть все своими именами – теперь уже бедная донна Орсола сидела как на иголках, потому что ее дочь, широко раскрыв глаза, не упускала из проповеди ни единого слова. Донна Орсола покашляла, пошмыгала носом и наконец сама принялась читать ей нравоучение: мол, девушки в церкви должны держать себя скромно и чинно и слушать только то, что их касается, и вовсе незачем строить такую глупую физиономию, как будто слуга божий говорит по-турецки.
А проповедник читал свою проповедь, словно святой Августин [50]50
Августин Аврелий – христианский теолог и философ, признанный в православии «блаженным», а в католичестве «святым» и «учителем» церкви.
[Закрыть], – так было тихо в церкви, что можно было бы услышать, как муха пролетит. Даже Каолина натянула платок на самые глаза и, казалось, предается раскаянию.
Тема проповеди настолько взволновала прихожан, что даже пожилые женщины краснели, словно старые девы, а самые впечатлительные искоса поглядывали на донну Санту Брокка, жену доктора, которая пришла в церковь с животом на восьмом месяце, – смотреть на нее жалко, и видно было, что она не знает, куда деться от этих взглядов, бедняжка.
Впрочем, донна Санта [51]51
Санта – святая ( итал.).
[Закрыть]и впрямь была святой женщиной: жила в страхе божием, все молилась да исповедовалась, и мысли ее были заняты только домом да мужем, которому она нарожала кучу детей. А муж – вольнодумец, один из тех, кто устраивал заговор в аптеке Монделлы, – всякий раз, когда она валилась на постель с родовыми схватками, так проклинал бога и святые таинства, особенно таинство брака, что бедняжка после родов плакала все девять месяцев, сразу же оказавшись беременной снова.
Только на этот раз донна Санта выкинула с мужем шутку почище всех прочих. Конечно, тут не обошлось без козней дьявола и помощи проповедника, который придумал эту сцену из загробной жизни, хотя и с благими намерениями. Когда он заорал во все горло: «Горе вам, развратники! Горе тебе, неверная жена!» – посреди церкви вдруг вспыхнуло пламя, будто загорелась канифоль, а из-под пола раздались голоса пономаря и служек, вопивших: «Ай! Ой!» Что тут началось! Кто закричал, что это сами дьяволы вышли из преисподней, кто-то разрыдался, кто-то рухнул на колени. Вдова Раметта, только что похоронившая мужа, упала со страха в обморок, и с нею заодно еще две или три женщины. А бедную донну Санту, и без того тронувшуюся умом из-за постоянных беременностей, постов и бесконечных молитв, напуганную упреками мужа и нападками проповедника, изнемогавшую от духоты, от стыда, от запаха серы, вдруг охватили угрызения совести, а может, что другое с ней случилось, я уж не знаю, только она начала корчиться, таращить глаза, побледнела как смерть, замахала руками и застонала:
– Господи!.. Грешна я!.. Сжалься и помилуй!
Вот так взяла да испортила вдруг все дело своими преждевременными родами.
Представляете, какой тут поднялся кавардак: кто орет, кто вопит, кто спешит выбраться наружу, толкая вперед своих дочерей, которым страсть как хочется поглазеть, – словом, сплошной переполох. Мужчины в этой кутерьме хлынули за ограду к женщинам, не обращая внимания на судью, махавшего тростью и оравшего так, словно он был на площади. Направо-налево сыпались тумаки, кто-то кого-то ущипнул… Для Бетты-одержимой это был удобный случай вновь оказаться рядом с доном Раффаэле Молла после стольких ссор и того позора, какой они пережили, а Каолина смогла показать, кому хотела, свои вышитые штанишки, не хуже козы перепрыгивая через стулья и скамьи. Словом, началась такая толчея, что только и смотри, как бы у тебя не стянули кошелек или цепочку от часов, недаром судья как следует огрел Кели Моску палкой по спине, – надо же было поставить его на место.
Наконец несколько самых разумных прихожан с помощью судьи и иных представителей власти, крича и ругаясь, хватая людей за грудки и носясь, словно собаки вокруг стада, сумели навести некоторый порядок и организовать процессию, которая должна была, как обычно, отправиться в приходскую церковь, чтобы возблагодарить господа. Впереди как попало, толкаясь и скользя по крутой улочке, тащился всякий сброд, за ним двигались благородные господа, по двое, в терновых венках, с бичевой на шее, так что со всех сторон сбегался народ поглазеть на сливки общества – на баронов и других важных персон, что шли, глядя в землю, а в окнах теснились красавицы – немалое искушение для тех, кто шествовал в процессии с терновыми венками на голове. На балкончике здания суда донна Кристина – судейская жена болтала с приятельницами и благосклонно раскланивалась, словно была в этом казенном доме хозяйкой.
– Конечно! Донна Санта Брокка! Надо сказать, что у нее совесть весьма нечиста! И кто бы мог подумать: такая лицемерка, как она! А ведь выдавала себя за святую! Ее мужу тоже не мешало бы открыть глаза на то, что творится у него в доме, вместо того чтобы злословить о всех и вся!
Доктор Брокка, а он и в самом деле был якобинцем, одним из тех злопыхателей, что собирались в аптеке Монделлы, и ходил по вызовам, вместо того чтобы слушать проповедь и принимать участие в процессии, когда узнал, какое наказание божие свалилось на его голову – принесли в дом полумертвую беременную жену, принялся ругаться и поносить священника, великий пост и правительство за то, что они допускают подобные безобразия: устраивают такие фокусы с беременной женщиной. В конце концов судья вызвал его к себе ad audieudum verbum [52]52
Для личной беседы ( лат.).
[Закрыть]и устроил ему хорошую головомойку: мол, тут распоряжаются власти, и не вам, дорогой мой, учить их, что они должны делать, понятно? И священник, который читал эту проповедь, принадлежал к членам конгрегации «Святейший спаситель», был одним из тех, к кому прислушивались в Неаполе, кто ходил повсюду с нравоучениями и заносил по велению начальства в главную книгу хороших и плохих прихожан, как это делает в раю святой Петр, так и тот заявил:
– А вы у нас и без того не на святой странице записаны, дорогой дон Эразмо! Или, может, вы устали навещать своих больных и теперь хотите немножко отдохнуть в какой-нибудь тюрьме его величества? Занимайтесь лучше своими делами. Понятно?
А дела бедного дона Эразмо обстояли так, что жена намеревалась оставить его вдовцом с пятью детьми на шее да вдобавок выбалтывала в бреду такие вещи, которые, к сожалению, заставляли его насторожиться:
– Горе тебе, неверная жена! Горе вам, развратники!.. Грешна я!.. Господи, прости меня!..
Словом, то, что слышала на проповеди. Но дон Эразмо проповеди не слышал и не знал поэтому, что и думать. Он таращил глаза, краснел, бледнел и с тревогой бормотал:
– Что? Что ты такое говоришь? Что?
Но ведь жена его, бедняжка, вроде бы никогда не давала повода подозревать ее, такая-то уродина! Выходит, кому-то захотелось сыграть с ним эту злую шутку, причем этот «кто-то» не обязан был это делать, не вынужден был, как он, доктор Брокко, к сожалению, ради покоя в доме, ради удовлетворения жены, у которой голова была забита всякой церковной белибердой и которая ревностно соблюдала все пять заповедей… И этот «кто-то» ведь знал, что у него на шее целый выводок детей! Священники же не раскошеливаются на них! А когда женщина вобьет себе что-нибудь в голову… Сколько он видел подобных!..