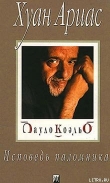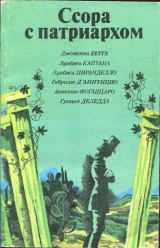
Текст книги "Ссора с патриархом"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Соавторы: Габриэле д'Аннунцио,Луиджи Капуана,Джованни Верга,Антонио Фогаццаро,Адриан Д'Аже,Грация Деледда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 39 страниц)
– Я не пойду, – сказал он, оборачиваясь к ней почти с угрозой. И внимательно посмотрел на нее, как будто хотел разглядеть кого-то под маской. – Если в самом деле необходимо, понимаешь, действительно необходимо, чтобы я пришел, тогда вернешься за мной.
Она ушла, не сказав больше ни слова. А он стоял перед своей дверью, держа ключ в замке так, будто его никак не повернуть. Он не мог, не мог войти. И отправиться туда, куда собирался, тоже не мог. Какое-то время ему казалось, что суждено целую вечность стоять перед закрытой дверью, хотя у него и есть ключ от нее.
Тем временем Антиоко вернулся к себе. Мать заперла дверь. Он вымыл бокалы и поставил их на место. И первый, вымытый чистой водой, был тот, из которого пил он. Мальчик тщательно вытер его, старательно водя чистой тряпочкой, навернутой на большой палец. Потом, прищурившись, посмотрел на свет – бокал сверкал, как бриллиант. И Антиоко спрятал его в кладовку с благоговением, как будто это была чаша для мессы.
Пауло тоже вернулся к себе и на ощупь поднимался по темной лестнице. Ему смутно припомнилось, что в детстве он вот так же поднимался по какой-то лестнице, вслепую и на четвереньках, но не мог вспомнить, где это было.
Как и тогда, у него возникло ощущение опасности, которой можно избежать только в том случае, если быть очень внимательным. Он поднялся наверх. Подошел к своей двери. Он был спасен. Но у самой двери он вновь почувствовал неуверенность и не открыл ее. И вдруг повернулся и тихо постучал согнутым указательным пальцем в дверь к матери. Потом, не ожидая ответа, вошел к ней.
– Это я, – резко сказал он, – не зажигайте свет. Мне надо сказать вам кое-что.
Он услышал, как она ворочается в кровати, – зашуршал соломенный матрац. Но он не видел ее, не хотел видеть. Он хотел только, чтобы во мраке, словно уже отлетев в мир иной, побеседовали их души.
– Это ты? А мне привиделось во сне, – сказала она заспанным и в то же время испуганным голосом. – Люди танцевали… Кто-то играл на лютне.
– Мама, – снова заговорил он, не обращая внимания на ее слова, – послушайте, эта женщина, да, Аньезе, больна. Она заболела сегодня утром. Она упала. Похоже, что-то случилось у нее с головой. У нее идет носом кровь.
– Что ты говоришь, Пауло! Это опасно?
Ее голос звучал в темноте испуганно, но в тоне ее сквозило недоверие. Он продолжал, невольно переняв тревожные интонации служанки:
– Это случилось утром, после того, как она получила письмо. Потом весь день она была очень бледна и ничего не хотела есть. А вечером ей опять стало плохо и начались судороги.
Он почувствовал, что слишком нагнетает ужасы, и замолчал. Мать не отвечала. На какое-то мгновение в этой темноте, в этой тишине словно повеяло тайной смерти, будто враги искали и не могли найти во мраке один другого. Потом снова зашуршал матрац. Должно быть, она села в постели, потому что ее внятный голос зазвучал сверху:
– Пауло, кто рассказал тебе все это? Может быть, это неправда?
И он опять почувствовал, что с ним как бы говорит его совесть. Однако он тотчас нашел ответ:
– Но это может быть и правдой. Не в этом дело, мама. Дело в том, что я боюсь, как бы она не совершила какую-нибудь глупость. Она одна, с нею только служанки. Мне необходимо пойти туда.
– Пауло!
– Мне необходимо, – повторил он, почти выкрикнув эти слова. Однако он хотел убедить скорее самого себя, чем ее.
– Пауло, ты обещал.
– Обещал. Именно поэтому я пришел предупредить вас. Повторяю вам, мне необходимо пойти к ней, совесть велит мне сделать это.
– Скажи мне, Пауло, только одно. Ты уверен, что видел именно служанку? Искушение иной раз коварно шутит над нами. Злой дух принимает разные обличья.
Он не совсем понимал ее.
– Вы думаете, я лгу? Я видел служанку.
– Послушай, вчера ночью я тоже видела прежнего священника. И некоторое время назад мне тоже почудились его шаги. Вчера ночью, – продолжала она шепотом, – он сел возле меня у камина. Я действительно видела его. У него было давно небритое лицо, и несколько зубов, что еще оставались во рту, были черные от бесконечного курения. У него были дырявые носки. И он сказал мне: «Я жив-здоров. Я здесь. И скоро выгоню тебя с сыном из этого дома». И он сказал, что я должна была выучить тебя ремеслу твоего отца, если хотела, чтобы ты не впал в грех. Он внес смятение в мою душу, Пауло, такое смятение, что я не знаю теперь, хорошо или плохо то, что я сделала. Но я убеждена, что это сам дьявол вчера ночью сидел рядом со мной, дух зла. Служанка, которую ты видел, тоже могла быть лишь обманчивой оболочкой демона-искусителя.
Он улыбался, скрытый темнотой. Но тут ему снова представилась странная фигура служанки, бежавшей через луг, и он невольно ощутил смутный страх.
– А пойдешь туда, – снова заговорила мать, – так ты уверен, что не впадешь в грех? Даже если ты и в самом деле видел служанку и та женщина действительно больна, уверен ли ты, что не согрешишь?
Но она вдруг умолкла. Ей показалось, она видит в темноте его бледное лицо, и ей стало жаль его. Почему она запрещает ему идти к этой женщине? А если та и вправду умирает от горя? Если и он тоже умрет от горя? И она ощутила в себе точно такую же тревожную неуверенность, какую пережил он, когда думал о судьбе Антиоко.
– Боже мой, – вздохнула она, но вспомнила, что уже отдалась на волю господа. – Только он может разрешить все наши проблемы.
На сердце у нее стало легче, как будто ей уже удалось самой найти выход. И не потому ли ей удалось это, что она положилась на бога? Она опять легла, но не успокоилась, и голос ее снова звучал на одном уровне с лицом сына.
– Если совесть тебе велела идти, почему же ты не пошел туда, а пришел домой?
– Потому что я обещал. А вы угрожали уйти, если я вернусь к ней. Я поклялся… – ответил он с печалью в голосе.
И чуть было не воскликнул: «Мать, заставьте меня сдержать клятву!»
Но не смог. К тому же она говорила обратное:
– Так иди. Сделай то, что велит тебе совесть.
– Не беспокойтесь, – сказал он, подходя к кровати. Он молча постоял рядом. Молчала и она.
Ему показалось, будто он стоит перед алтарем, а место божества заняла его мать – таинственный идол, и он вспомнил, как в детстве, еще в семинарии, его заставляли после исповеди целовать ей руку. То же неприязненное чувство и то же возбуждение, что тогда, охватили его и теперь. Он почувствовал, что будь он один, без нее, он вернулся бы уже к Аньезе, усталый от этого долгого дня бегства и борьбы. Мать удерживала его, и он не знал, благодарить ее за это или нет.
– Не беспокойтесь! – А сам чего-то ждал и в то же время боялся, что она заговорит опять или зажжет лампу, чтобы взглянуть ему в глаза, и, прочитав его мысли, захочет удержать.
Она не двигалась и продолжала молчать. Потом опять зашуршал матрац – она легла.
И он ушел.
Он подумал, что при всех колебаниях он не был трусом. Он шел туда не безвольно, движимый не страстью, а мыслью, что надо предотвратить опасность, ибо ответственность за то, что может случиться, лежит на нем.
Он опять представил себе темную, отливающую серебром траву на лугу и призрак служанки, которая, поминутно оборачиваясь, смотрела на него сверкающими глазами и повторяла: «Моя маленькая хозяйка перестанет бояться, если вы придете».
И весь этот день, когда он пытался убежать от самого себя, показался ему смешным и ничтожным. Его долг в том, чтобы пойти и помочь ей. И, пересекая луг, обдающий свежестью, освещенный серебристым светом луны, он почувствовал себя легко, почти счастливым. Ему казалось, что он превратился в большую ночную бабочку, летящую на свет. И эту свою радость от предстоящей встречи с Аньезе, которую он вновь увидит через несколько мгновений, он принимал за радость служения долгу: он должен спасти ее.
Вся эта мягкость травы на лугу, вся нежность лунного сияния как бы омывали его душу, осветляли ее, орошали росой сквозь черные траурные одежды.
Аньезе, маленькая хозяйка! Да, она была маленькая, слабая, как дитя. Она жила одиноко, без отца, без матери, в каменном лабиринте своего мрачного дома.
И он замучил ее, он обхватил ее ладонями, словно птичку из гнездышка, и сжал так сильно, что из ее живого тела брызнула кровь.
Он ускорил шаги. Нет, он не был трусом. И все же он споткнулся о первую ступеньку у ее двери, и ему показалось, будто даже камни на ее пороге гонят его прочь. Он поднялся по лестнице. Поднялся тихо-тихо и осторожно стукнул дверным молотком.
И почувствовал себя почти униженным из-за того, что ему не открыли сразу. Но ни за что на свете он не постучал бы второй раз.
Наконец полукруглое окно над входом осветилось, и смуглая служанка, открыв дверь, сразу же провела его в комнату, столь хорошо знакомую ему.
Все здесь было точно таким же, как и в те ночи, когда Аньезе распорядилась украдкой впускать его через сад. Дверь туда была приоткрыта, и в помещение проникал аромат пахучих кустарников, залитых лунным светом.
Головы оленей и ланей на стенах в спокойном свете лампы, казалось, будто выглядывали и подсматривали своими блестящими черными стеклянными глазами, что происходит в комнате. Одно было необычно – дверь, ведущая во внутренние покои, оказалась распахнутой. Служанка ушла туда, и было слышно, как поскрипывали деревянные полы при каждом ее шаге. Внезапно где-то сильно хлопнула дверь, словно ее рванул порыв ветра, пол задрожал, и казалось, зашатался весь дом. И ему стало страшно оттого, что в ту же минуту он увидел сквозь завесу спутанных прядей черных волос бледное лицо Аньезе, возникшее из мрака темных комнат подобно лику утопленницы.
Но вскоре вся ее маленькая темная фигура оказалась освещенной, и он облегченно вздохнул.
Она закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, опустив голову. Казалось, она сейчас соскользнет вниз, упадет.
Он устремился к ней на цыпочках, протянул руки, но не посмел коснуться ее.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он тихо, так же как во время прежних встреч. – Аньезе, – добавил он после минуты тягостного молчания, потому что она не отвечала, только дрожала вся, держась руками за дверь, чтобы не упасть, – надо быть сильной.
Но так же, как и во время чтения Евангелия над девочкой, в которую вселился дьявол, он почувствовал, сколь фальшиво звучат его слова. И опустил глаза, встретившись с ее взглядом, все еще растерянным и одновременно пылающим негодованием, смешанным с радостью.
– Зачем вы пришли?
– Мне сказали, что вы больны.
Она гордо выпрямилась, отвела руками завесу волос с лица.
– Я чувствую себя хорошо и никого не посылала за вами.
– Я знаю. Но я все равно пришел. Не было причины не прийти. И я рад, что ваша служанка несколько преувеличила ваше недомогание и вы чувствуете себя хорошо…
– Нет, – настаивала она, перебивая его, – я не посылала за вами, и вы не должны были приходить. Но раз уж вы здесь… Раз вы здесь, я хочу спросить вас: почему вы так поступили? Почему? Почему?
Судорожные всхлипывания прервали ее речь. Она вновь поникла, руки ее искали опоры. И он испугался, сожалея, что пришел сюда. Он взял ее за руку и повел к дивану, на котором они прежде проводили вечера. Он усадил ее в угол, где осталась глубокая вмятина от многих других женщин из ее семьи, сидевших на этом месте. Сам опустился рядом, но оставил ее руку.
Он боялся прикасаться к ней. Она казалась ему статуей, которую он разбил и кое-как собрал из осколков, и она, на вид еще целая, при малейшем ударе могла снова рассыпаться на куски. Поэтому он и боялся прикоснуться к ней. Он думал: «Так лучше, так я спасен», но в глубине души понимал, что в любую минуту может снова потерять голову, именно поэтому он и боялся притронуться к ней.
Лучше рассмотрев ее при ярком свете лампы, он увидел, как сильно изменилась она, стала совсем другой. Поблекшие сероватые губы походили на увядшие лепестки розы. Овал лица удлинился, под побелевшими ушами сильнее выступали скулы. За один только день она постарела на двадцать лет, но что-то детское все еще оставалось в очертании дрожащих губ, хотя она сжимала их, силясь сдержать слезы; детская беспомощность ощущалась и в маленьких руках, одна из которых, бессильно опущенная на диван, тянулась к его руке. И он досадовал, что не имеет права взять эту крохотную и скорбную руку и вновь скрепить разорванную цепь, соединявшую их жизни.
Он вспомнил слова бесноватого, обращенные к Христу: «Что общего между мной и тобой?»
И снова заговорил, сжимая свои руки, словно для того, чтобы не позволить им взять ее руку. Но он по-прежнему чувствовал всю неискренность своих слов, и, как в то утро в церкви и потом, читая Евангелие и причащая старого охотника, он знал, что лжет.
– Аньезе, послушайте меня. Вчера вечером мы были на краю пропасти. Бог оставил нас, и нас повлекло к бездне. Но теперь бог снова взял нас за руки и ведет. Надо оставаться на высоте, Аньезе. Аньезе, – с силой повторил он ее имя, – ты думаешь, мне не больно? Мне кажется, что я заживо погребен и мое мучение будет длиться вечность. Но необходимо, чтобы было так. Так надо ради твоего блага, ради твоего спасения. Послушай меня, Аньезе, будь сильной. Ради самой любви, которая соединила нас, ради того блага, которое бог дарует нам, подвергая этому испытанию. Ты забудешь меня. Поправишься. Ты так молода. У тебя еще вся жизнь впереди. И потом, когда ты будешь вспоминать обо мне, тебе покажется, что это был скверный сон, будто ты блуждала в долине и встретила какого-то дурного человека, который хотел причинить тебе зло. Но бог спас тебя, потому что ты заслуживаешь спасения. Сейчас тебе все кажется черным, но вскоре, вот увидишь, вскоре все опять предстанет перед тобой в ореоле света, и ты почувствуешь, как много добра я несу тебе в этот момент, причиняя, правда, совсем ненадолго какую-то боль, как делают иной раз с больными, когда приходится быть жестоким…
Он умолк, ему показалось, что холод сковал все его существо. Аньезе слегка порозовела, приподнялась и устремила на него свои почти стеклянные, словно у ланей на стене, глаза, и он вспомнил, какими были глаза у женщин в церкви, когда он читал проповедь.
Аньезе, казалось, терпеливо и кротко ждала, что он скажет дальше. Но ее покорность, однако, готова была исчезнуть при малейшей неосторожности с его стороны. И действительно, поскольку он молчал, она произнесла шепотом, качая головой:
– Нет, настоящая правда не в этом.
Он с тревогой приблизился к ней:
– А в чем же?
– Почему ты не говорил со мной вот так, как сейчас, вчера вечером? И в другие вечера? Почему тогда правда была для тебя иной? Очевидно, кто-то узнал, что ты бываешь у меня, может быть даже твоя мать, и ты испугался всех на свете. Вовсе не страх перед богом вынуждает тебя бросить меня.
Ему захотелось закричать, даже ударить ее. Он схватил ее руку и слегка вывернул тонкое запястье. Вот точно так же он хотел бы, если б смог, ухватить рукой ее слова и с болью изничтожить их. Он отстранился от нее и рывком поднялся с дивана.
– Допустим! И тебе кажется этого мало? Да, моя мать все поняла и говорила со мной как моя собственная совесть. А у тебя разве нет совести? По-твоему, это хорошо, что мы должны причинять боль тому, кто живет только ради нас? Ты хотела, чтобы мы бежали, жили вместе. И это было бы правильно, если б мы не могли отказаться от нашей любви. Но раз есть человек, которого наше бегство, наш грех убьет, необходимо пожертвовать собой ради него.
Но она, казалось, слышала только отдельные слова и все продолжала качать головой.
– Совесть? Конечно, у меня тоже есть совесть. Я ведь уже не девочка. И совесть мне подсказывает, что я поступила плохо, позволив уговорить себя и принимать тебя тут. Ну а теперь что делать? Теперь уже слишком поздно. Почему бог не вразумил тебя раньше? Разве это я пришла к тебе? Ты, ты пришел ко мне в дом, увлек меня, как вовлекают в игру ребенка. А что я должна теперь делать? Вот ты и скажи мне: что я должна делать? Я не в силах забыть тебя и не могу изменить себе, как это делаешь ты. Я все равно хочу уехать, даже если ты не поедешь со мной. Я хочу уехать… или же…
– Или?
Аньезе не ответила. Она сжалась в своем углу и вздрогнула. Что-то мрачное, должно быть, черное крыло безумия коснулось ее, потому что глаза ее затуманились и рука инстинктивным движением как бы отогнала какую-то тень. И он снова низко наклонился, почти прильнул к ней, ухватившись за ветхую обивку дивана, и у него возникло ощущение, будто он скребет ногтями по какой-то стене, возникшей перед ним и душащей его.
Он не в силах был больше говорить. Да, она была права. Правда заключалась не в том, что он пытался внушить ей. Правда заключалась в этой стене, душившей его, и он не мог разрушить ее. Он вскочил в испуге от реального ощущения удушья.
Но теперь она схватила его за руку и сжала своими ставшими вдруг цепкими пальцами.
– Бог, – прошептала она, прикрывая другой рукой глаза, – бог, если он существует, не должен был допустить, чтобы мы встретились, если он задумал разлучить нас. И раз ты вернулся сюда, то это потому, что ты все еще любишь меня. Ты думаешь, я не знаю этого? Знаю, знаю. Вот в этом и заключается вся правда.
И она прямо взглянула ему в глаза. Губы ее дрожали, пальцы, которыми она закрывала лицо, были влажны от слез, капающих с трепещущих ресниц. И ему показалось, будто он смотрит в мерцающую пучину, ослепляющую и манящую его, а не в лицо Аньезе, которое было уже не просто женским лицом, а ликом самой любви. И он снова склонился к ней и поцеловал в губы.
И ему почудилось, будто, захваченный водоворотом, он и в самом деле медленно погружается в светлую водную глубь – в какую-то переливающуюся красками головокружительную бездну.
Потом, оторвавшись от ее губ, он словно всплыл на поверхность и, как потерпевший кораблекрушение, оказался на берегу, уставший, исполненный страха и радости, но больше страха, чем радости.
И волшебство, исчезнувшее, как ему казалось, навсегда и оттого еще более прекрасное, воскресло вновь.
Он опять услышал ее шепот:
– Знаешь, знаешь, я была уверена, что ты вернешься…
Как и тогда, когда в доме Антиоко говорила служанка, он не хотел слышать ничего другого. Он прикрыл ей рот ладонью, она положила голову ему на плечо, и он ласково погладил ее волосы, отливающие в свете лампы золотистым блеском. Такая маленькая, так доверчиво прильнувшая к нему, она обладала, выходит, могучей силой, способной увлечь его в пучину моря, вознести к бескрайним высям небес, превратить его в безвольное существо. И пока он скрывался от нее в долине и на плоскогорье, она, заключенная в своей тюрьме, ждала его и знала, что он вернется.
– Знаешь, знаешь…
Она хотела еще что-то сказать. Ее дыхание словно петлей обвивало его шею. Он снова прикрыл ей рот ладонью, и она сильно прижала ее своей рукой. Они молчали и не шевелились, словно ожидая чего-то. Потом он пришел в себя и попытался снова стать хозяином своей судьбы. Да, он вернулся, но уже не таким, каким она ждала его. И он продолжал смотреть на ее отливающие золотистым блеском волосы как на что-то очень далекое, как на трепетное мерцание моря, из которого ему удалось выбраться.
– Теперь ты довольна, – прошептал он, – я вернулся, и я твой на всю жизнь. Но ты должна быть спокойна. Ты очень напугала меня. Тебе нельзя волноваться, и ты ничего не должна менять в своей жизни. Я больше не доставлю тебе никаких огорчений, но пообещай, что будешь спокойной и разумной, как сейчас.
Он почувствовал, как задрожали, затрепетали ее руки в его ладонях. Он понял, что она опять пытается сопротивляться. И он крепко сжал ее руки. Точно так же хотел бы он удержать безропотной пленницей и ее душу.
– Не надо, Аньезе! Послушай, ты никогда не узнаешь, какие муки я пережил сегодня. Но это было необходимо. Я столько сбросил с себя наносной грязи, я содрал с себя кожу до крови. И вот я здесь, твой, да, так богу угодно, чтобы я был твоим, чтобы принадлежал тебе всем существом. Понимаешь, – продолжал он после некоторого молчания, неторопливо, как бы извлекая слова из самой глубины своей души и преподнося их ей, – у меня такое ощущение, будто мы любим друг друга уже многие годы, будто мы все уже пережили вместе – и наслаждения, и страдания, вплоть до ненависти, вплоть до смерти. И все бури житейского моря, вся его неспокойная жизнь, все это – в нас. Мы бьемся-бьемся и все же остаемся в пределах, предназначенных нам. Аньезе, душа моя, что хочешь ты от меня, что еще я могу дать тебе, кроме своей души?
Он внезапно умолк. Он почувствовал, что она не понимает его. И не может понять. Он увидел, как она все дальше отходит от него, как жизнь от смерти. Но именно поэтому он сознавал, что еще любит ее, даже еще больше любит, как любит жизнь умирающий.
Она медленно подняла голову и поискала его глаза своим снова ставшим враждебным взором.
– Ты тоже выслушай меня, – проговорила она. – Не обманывай меня больше. Уедем мы или нет, как договорились вчера ночью? Больше нам нельзя жить здесь, в этом селе. Я знаю. Знаю, – с сердцем повторила она после минуты тягостного молчания. – Если мы хотим жить вместе, то немедля уедем, этой же ночью. У меня есть деньги, ты знаешь. Есть, и они мои. А твоя мать, и мои братья, и все со временем простят нас, когда увидят, что мы хотели жить по правде. А так – нет, так, это ясно, больше жить нельзя.
– Аньезе!
– Отвечай мне сразу же. Ну же, и не говори больше ни о чем другом.
– Я не могу бежать с тобой.
– Ах! Тогда зачем же ты вернулся? Оставь меня, уходи. Оставь меня!
Он не оставлял ее. Он чувствовал, как она вся дрожит. Он боялся ее. И, увидев, как она наклоняется к их сплетенным рукам, он решил, что она хочет укусить его.
– Уходи, уходи, – настаивала она, – я ведь не звала тебя. Раз нужно быть сильными, зачем же ты вернулся? Зачем опять целовал меня? Ах, если ты думаешь, что можешь смеяться надо мной, ошибаешься. Если думаешь, что можешь приходить сюда ночью, а днем писать мне оскорбительные письма, ошибаешься. Как пришел сегодня ночью, точно так же придешь и завтра, а потом каждую ночь. И кончишь тем, что сведешь меня с ума. Но я не хочу, нет, не хочу! Ты говоришь, надо быть честными и сильными, – продолжала она, и ее постаревшее, трагическое лицо покрыла смертельная бледность, – но ты говоришь это только сейчас. Ты ужасаешь меня. Уезжай отсюда сегодня же ночью. Чтобы завтра, проснувшись, я не испытывала больше страха, что надо ждать тебя и терпеть вот такие унижения.
– Господи! Господи! – застонал он, склоняясь к ней. Однако теперь она оттолкнула его.
– Ты думаешь, что имеешь дело с девочкой? А я старая. И это ты состарил меня за несколько часов. Ни в чем не менять свою жизнь! Значит, я должна продолжать эту любовную связь тайком, не так ли? Должна найти себе мужа, и ты обвенчаешь нас в церкви, должна встречаться с тобой и всю жизнь обманывать всех? Уходи, уходи, ты не знаешь меня, если думаешь, будто это возможно. Вчера ночью ты говорил мне: «Да, мы уедем. Я буду работать, мы поженимся». Ты говорил это? Говорил? А сегодня ночью приходишь ко мне и ведешь разговоры о боге и самопожертвовании. Так пусть все будет кончено. Расстанемся. Но ты, повторяю, должен уехать из нашего села этой же ночью. Я не хочу больше видеть тебя. Если завтра утром ты еще будешь служить мессу в нашей церкви, я приду и с алтаря объявлю всем: вот это ваш святой, что днем творит чудеса, а ночью ходит к одиноким девушкам и соблазняет их.
Он снова попытался закрыть ей ладонью рот. Но она продолжала громко повторять: «Уходи, уходи!» Тогда он обнял ее голову, прижал к груди, испуганно оглянулся на закрытые двери. Он вспомнил слова матери, ее голос, таинственно звучавший в темноте: «Прежний священник сел со мной рядом и сказал: „Скоро выгоню тебя с сыном из приходского дома“».
– Аньезе, Аньезе, ты бредишь, – простонал он, в то время как она пыталась вырваться из его объятий. – Успокойся, послушай меня. Ничего еще не потеряно. Разве ты не чувствуешь, как я люблю тебя? В тысячу раз сильнее, чем прежде. И я не уйду, нет. Я хочу быть рядом с тобой, чтобы спасти тебя, чтобы отдать тебе свою душу, как в смертный час отдам ее богу. Что ты знаешь о том, сколько я страдал вчера ночью? Я бежал от тебя, но ты была со мной. Бежал, как человек, объятый пламенем, который полагает, что, убегая, он спасается, а огонь еще сильнее охватывает его. Где я только не был сегодня! Что только не делал, чтобы не вернуться сюда. И вот я все равно здесь. Я здесь. Аньезе, как я могу не быть здесь? Ты слышишь меня? Я не предаю тебя, не забываю, я не хочу забыть тебя. Но нужно оставаться чистыми, Аньезе, нужно сохранить чистоту для нескончаемой нашей любви, слить эту чистоту со всем лучшим, что только есть в жизни, со страданием, с отречением, с самой смертью, то есть с богом. Ты понимаешь это, Аньезе? Ну конечно же понимаешь! Скажи сама.
Она отталкивала его. Казалось, хотела головой пробить ему грудь. Наконец ей удалось вырваться, и она выпрямилась, суровая, гордая, прекрасные волосы, подобно шелковым лентам, украшали ее строгое лицо.
Она молчала, закрыв глаза, – казалось, внезапно заснула крепким сном, полным мстительных сновидений. И он гораздо больше испугался этого молчания и этой недвижности, нежели ее необдуманных слов и резких движений. Он сжал ее руки в своих, но у них обоих руки уже умерли для радости, для любовных объятий.
– Аньезе, видишь, ты согласна со мной. Ты умница. Теперь иди отдыхать, и завтра для нас начнется новая жизнь. Мы по-прежнему будем видеться, конечно, когда ты захочешь. Я буду твоим другом, твоим братом. Мы станем помогать друг другу. Моя жизнь принадлежит тебе. Располагай мною как хочешь. До самой смерти не расстанусь с тобой, и в том, ином мире тоже, навеки.
Его молящий тон снова вывел ее из себя. Она попыталась высвободить руки, шевельнула губами, собираясь что-то сказать, но когда он отпустил ее руки, сложила их на коленях и опустила голову. И в ее глазах он увидел столько горя, теперь уже неизбывного, безутешного горя.
Он не отрываясь смотрел на нее, как смотрят на умирающую. И страх его нарастал. Он соскользнул к ее ногам, прижался лбом к ее коленям, поцеловал руки. Его больше не беспокоило, что могут увидеть их, услышать разговор. Он был у ног женщины, рядом с ее горем, подобно Иисусу, лежащему на коленях у матери.
Ему казалось, он еще никогда не чувствовал себя таким чистым, таким отрешенным от земной жизни. И все же он испытывал страх.
Аньезе оставалась недвижной, руки ее были холодны и, похоже, не ощущали этих смертельных поцелуев. Он поднялся и опять стал лгать:
– Спасибо тебе, Аньезе. Вот так хорошо, теперь я доволен. Испытание выдержано. Теперь не падай духом и не волнуйся. Я ухожу. Завтра утром, – тихо добавил он и робко наклонился к ней, – придешь к мессе, и мы вместе принесем богу нашу жертву.
Она открыла глаза, посмотрела на него и закрыла опять. Казалось, она была смертельно ранена, и глаза ее, умоляющие и угрожающие, взглянули на мир последний раз, прежде чем закрыться навсегда.
– Этой же ночью ты уедешь отсюда, чтобы я больше никогда не видела тебя, – сказала она, отчетливо произнося каждое слово. И он понял, что сейчас бессмысленно сопротивляться этой слепой силе.
– Я не могу так уехать, – прошептал он, – завтра утром я отслужу мессу, и ты придешь послушать ее. Потом, если будет нужно, я уеду.
– Я приду утром и все расскажу про тебя людям.
– Если ты сделаешь это, значит, богу так угодно. Но ты не сделаешь этого, Аньезе. Можешь ненавидеть меня, но я больше не буду нарушать твой покой. Прощай.
Однако он не уходил. Поднявшись, он смотрел на нее сверху. И ее волосы, мягкие, блестевшие даже в полутьме, эти прекрасные волосы, которые он любил, к которым так часто тянулись его руки, вызывали у него чувство жалости. Они представлялись ему черной повязкой, которой обвязывают раненую голову.
Он в последний раз обратился к ней:
– Аньезе! Неужели мы вот так и расстанемся? Дай руку, встань, проводи меня до двери.
Она поднялась и как будто бы повиновалась, но не протянула ему руки, а прошла прямо к той двери, из которой появилась.
На пороге она остановилась, чего-то ожидая.
«Что я могу еще сделать?» – спросил он самого себя. Он стоял по-прежнему недвижно, опустив глаза, чтобы не встречаться с нею взглядом. Когда же он снова захотел взглянуть на нее, она уже исчезла во мраке своего безмолвного дома.
Сверху, со стен, стеклянные глаза оленей и ланей с тоской и даже с презрением смотрели на него. И тут, оставшись один в большой, печальной комнате, он почувствовал свое ничтожество, свое унижение. Ему показалось, что он вор, хуже вора – гость в доме друзей, который крадет, воспользовавшись тем, что никого нет.
И он опять опустил глаза, чтобы не встречаться взглядом с этими головами на стенах. Он ни на мгновение не усомнился бы в своем решении, даже если бы предсмертный женский крик заполнил ужасом безмолвие дома, все равно не пожалел бы, что отверг ее.
Он подождал еще некоторое время. Никто не появлялся. И ему почудилось, будто он находится в мертвом мире своих мечтаний, своих ошибок и ждет, пока кто-нибудь поможет ему покинуть этот мир. Никто не появлялся. Тогда он направился к двери, ведущей в сад, прошел по аллее вдоль стены в тени смоковницы и вышел наружу в небольшую, столь хорошо знакомую ему дверь.
И вот он снова поднимается по темной лестнице. Но опасности больше нет, по крайней мере, исчезла боязнь опасности.
И все же он приостановился у двери матери, подумав, что хорошо было бы сразу же рассказать ей о встрече с Аньезе и ее угрозе. Но он услышал, как она громко храпит, и прошел к себе. Мать спала, потому что уже не сомневалась в нем и считала, что сын спасен.
Спасен! Он оглядел свою комнату так, будто и в самом деле вернулся из какой-то опасной поездки. Все было прибрано, все дышало покоем, и он начал раздеваться, двигаясь на цыпочках, решив никогда больше не нарушать этот порядок, эту тишину.
Вот на вешалке его одежды, чернее своей тени на стене, вот шляпа на деревянном колышке и мягкая сутана, рукава которой устало обвисли.
И это мрачное, бесплотное привидение, словно обескровленное каким-то вампиром, пробуждало в нем почти страх и казалось ему тенью его ошибки, от которой он едва отделался, но не смог избавиться окончательно, и она поджидала его, чтобы завтра же следовать за ним по дороге жизни.
Всего лишь мгновение. И он с ужасом понял, что кошмар возобновляется. Он еще не был спасен. Нужно пережить еще одну ночь, словно пройти последний участок пути в штормовом море.
Он устал, тяжелые веки смыкались, но какой-то смутный страх мешал ему броситься в кровать или же просто сесть и отдохнуть немного.