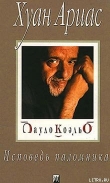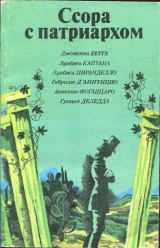
Текст книги "Ссора с патриархом"
Автор книги: Луиджи Пиранделло
Соавторы: Габриэле д'Аннунцио,Луиджи Капуана,Джованни Верга,Антонио Фогаццаро,Адриан Д'Аже,Грация Деледда
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
СТАТУЭТКА МАДОННЫ
Представьте себе коробку с игрушками: деревья, увенчанные кроной из кудели, ствол которых приклеен к деревянному кружку, чтоб не падали, а под ними – квадратные домики, церковь с колокольней и все прочее; затем представьте, что такую коробку дали младенцу Иисусу и тот, играя, построил для приходского священника, которого звали падре Фьорика, его бенефиций, причем рядом с церковью, нареченной именем святого Петра, стоял дом священника; его три окна были украшены накрахмаленными полотняными занавесками, которые, если смотреть с улицы, наводили на мысль о чистоте и тишине покоев, залитых солнцем; у дома – сад, где тебе и навес из виноградных лоз, и японская хурма, и гранаты, и лимоны, и апельсиновые деревья, а вокруг церковного двора – убогие домишки прихожан, разделенные улицами и проулками; с крыши на крышу перелетают стаи голубей, к стенам домов боязливо жмутся кролики; тут же куры, ненасытные и драчливые, и конечно же свиньи, всегда немного грустные и вроде бы раздосадованные своей чрезмерной тучностью.
Мог ли предполагать приходский священник, падре Фьорика, что в его мирок, устроенный вот таким образом, проникнет дьявол?
А дьявол проникал в него сколько хотел и когда хотел, тайно, но без всякого труда: то под личиной примерного прихожанина, то в образе набожной женщины, а то и в виде какого-нибудь безобидного предмета. Падре Фьорика, можно сказать, каждый божий день проводил в обществе дьявола и не подозревал об этом. Правда, заподозрить неладное приходскому священнику было трудно, потому что дьявол не стремился погубить его совсем, а развлекался тем, что заставлял поддаваться мелким соблазнам, так что прегрешения пастыря, когда они выходили на свет божий, большого зла ему не причиняли – ну посмеются его верные прихожане, собратья по клиру да начальство, только и всего.
Вот, например, как-то раз этот злокозненный бес внушил некоей благочестивой прихожанке, ездившей в Рим на празднества по случаю святого года, коварную мысль: привезти в подарок падре Фьорике изящную табакерку из слоновой кости, на эмалевой крышке которой был изображен святейший папа. И что бы вы думали? Дьявол забрался в табакерку, несмотря на это изображение, и больше месяца искушал святого отца во время проповеди на вечерне:
– Ну одну щепотку! Ну же! Достань табакерку, пусть все видят, как она хороша. А как приятно будет благочестивой женщине, которая тебе ее подарила, – вон она смотрит на тебя… Одну-единственную щепотку!
Бубнил и бубнил свое упрямый бес, и падре Фьорика, который прежде не нюхал табак и робко попробовал это зелье только в день подношения ему злосчастного подарка, в конце концов вытаскивал из кармана табакерку и огромный носовой платок из цветастого ситца. И что же? Проповедь прерывалась – падре Фьорика принимался чихать и чихал раз по сорок кряду, а потом шумно и яростно сморкался, так что прихожане покатывались со смеху.
Но самую злую проделку нечистый совершил, когда вселился в душу бедняжки Марастеллы, красивой тридцатилетней женщины, слабоумней от рождения, безобидной дурочки, которая веселила соседей наивной доверчивостью и постоянным восторженным изумлением. Так вот, дьявол вселился в душу Марастеллы и заставил ее влюбиться coram populo [78]78
На глазах у всех ( лат.).
[Закрыть]в приходского священника, падре Фьорику, хотя тому было уже под шестьдесят и волосы его были белы как снег.
Несчастная Марастелла всякий раз, как видела его у алтаря во время службы или на амвоне, когда он произносил проповедь, не уставала восклицать, роняя крупные слезы умиления и колотя себя в грудь:
– Ах, святая Мадонна, как он прекрасен! Что за сладкие уста! А какой взгляд!
Из этого мог бы выйти скандал, если бы всем не были известны безупречная добродетель приходского священника и наивность бедной дурочки, – так что дело ограничивалось опять-таки смехом.
Но однажды Марастелла, завидев падре, выходившего из церковных ворот, бросилась перед ним на колени посреди деревенской площади и, схватив его руку, покрыла ее страстными поцелуями, а потом стала водить ею по волосам, по лицу и даже по шее, горестно стеная:
– О святой отец, погасите этот пожар, ради бога! Ради бога, погасите во мне этот пожар!
Бедный падре Фьорика в растерянности и недоумении склонился к женщине, даже не пытаясь отнять свою руку, и лишь вопрошал:
– Какой пожар, Марастелла? Какой пожар, дочь моя?
Пожалуй, он так бы и не понял, в чем дело, если бы из ближних домов не выбежали соседи, которые подняли дурочку с колен и разъяснили ему все так недвусмысленно, что падре Фьорика побледнел, задрожал и бросился наутек, крестясь обеими руками.
Ну уж на этот раз дьявол слишком себя обнаружил. В безумной выходке Марастеллы все узнали его руку. Тогда он задумал новую каверзу, которая причинила приходскому священнику самое большое горе в его жизни.
Дьявол отвратил от церкви Гуидуччо. Вот послушайте, как это было.
Гуидуччо, девятилетний мальчуган, был единственным ребенком мужского пола в семье синьора Грели, представителя весьма именитого для тех мест рода.
Семья эта уже много лет была как бельмо на глазу у приходского священника, ибо все ее члены обходили церковь стороной, не потому, что они были врагами веры, а потому, что церковь, по мнению синьора Грели (он был гарибальдийцем, сражался в отряде генуэзских карабинеров в кампанию 1860 года и был ранен в руку под Милаццо), по-прежнему оставалась врагом родины, – вот почему синьор Грели, как истый патриот, считал, что не может ступить на порог церкви.
Падре Фьорика давно уже отошел от политики и никак не мог взять в толк, почему это любовь к родине не позволяет матери и старшим сестрам Гуидуччо ходить в церковь хотя бы по воскресеньям. Не то чтоб исповедоваться и причащаться, куда там! Хотя бы к воскресной мессе, святый боже! И приходский священник по наущению дьявола, который ходил за ним как тень, пробовал снискать расположение синьора Грели.
– Вот он идет! Не вздумай сделать вид, что ты его на замечаешь. Поклонись ему, поклонись первым, отвесь поклон смиренно, но с достоинством!
И падре Фьорика тотчас внимал совету дьявола – кланялся и улыбался, но хмурый синьор Грели на поклон и улыбку отвечал лишь коротким, едва заметным кивком. А дьявол, конечно, ликовал.
И вот как-то летом, в канун большого праздника, синьор Грели вернулся домой усталый после утренних трудов и прилег отдохнуть часок после обеда, а дьявол – что бы вы думали? – незаметно пробрался с ватагой мальчишек на колокольню церкви святого Петра и ну звонить во все колокола, да так громко и назойливо, что синьор Грели, который нравом был горяч и легко возгорался гневом, в какой-то момент не выдержал, соскочил с кровати и, как был в рубашке и кальсонах, схватил ружье, выбежал на террасу и – да-да, так оно и было – совершил святотатство, пальнув по колоколам церкви святого Петра.
Пуля попала в один из трех колоколов, крайний справа, самый громкий, – что значит меткий глаз бывшего генуэзского карабинера! Бедный колокол! Подобно собачонке, которая встречает хозяина громким, звонким, радостным лаем, но, получив предательский пинок, жалобно визжит, колокол с громкого торжественного тона сорвался на пронзительное дребезжание. Прихожане, собравшиеся на праздник, все как один возмутились подобным кощунством и толпой ринулись требовать к ответу святотатца. Лишь по милости божьей удалось перепуганному священнику, выскочившему из церкви в полном облачении, удержать свою благочестивую паству от грубого насилия над синьором Грели. Падре Фьорика вовремя удержал их, успокоил тем, что выступил поручителем за синьора Грели, который подарит церкви новый колокол, а по случаю его освящения будет устроен еще более пышный праздник.
Тогда-то Гуидуччо Грели и вошел впервые в церковь святого Петра.
Правда, падре Фьорика хотел, чтобы крестной матерью колокола была синьора Грели или хотя бы их старшая дочь, которой шел восемнадцатый год. Но потом в душа он благодарил синьора Грели за то, что тот не удовлетворил его просьбу и прислал сына, ибо торжественная церемония вызвала в душе мальчика настоящее чудо прозрения.
Было ли виной тому праздничное возбуждение или похвалы правоверных прихожан в его адрес, или же, что более вероятно, ему понравилось, как звучит новый колокол, в который он звонил собственноручно, поднявшись высоко на колокольню, в сияющую лазурь небес? Так или иначе, но с того дня голос этого колокола каждое утро звал мальчика в церковь к первой мессе. Заслышав звон, мальчик украдкой вставал с постели, бежал к старой служанке и просил, чтобы та взяла его с собой в церковь.
– А если папа заругается? – спрашивала служанка.
Но Гуидуччо ничего и слышать не хотел, его словно подстегивал каждый удар колокола, зовущего откуда-то из предрассветной мглы. Когда они, вздрагивая, шли узким переулком, где было еще совсем темно, мальчик жался к старухе, а выйдя на площадь перед церковью, задирал голову и смотрел на колокольню, откуда неслись звуки, приводившие его в какой-то непонятный трепет; затем он ощущал такое же непонятное облегчение, едва ступал на порог церкви и видел свечи, мерцавшие на алтаре, вдыхал торжественно-волнующий запах ладана.
Когда приходский священник, падре Фьорика, обернувшись с алтаря к молящимся, в первый раз увидел мальчика, преклонившего колени у самой балюстрады, когда увидел глядевшие из-под каштановых кудрей еще сонные, но широко открытые и горевшие чуть ли не священным безумием детские глаза, он почувствовал озноб от нахлынувшей на него нежности, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть желание тотчас отойти от алтаря и приласкать этого херувима, молитвенно сложившего руки.
Закончив службу, падре Фьорика сделал старухе знак, чтобы та привела мальчика в ризницу; там он его обнял за плечи, поцеловал в лоб и в голову и показал ему поочередно все предметы церковной утвари и облачения: расшитые золотом ризы, стихари, епитрахили, митры, пропахшие ладаном и воском; потом мягко убедил его рассказать матери, что был этим утром в церкви, куда позвал его благовест, и попросить, чтобы она разрешила ему снова прийти сюда. Затем пригласил его – опять-таки если мама позволит – в свой дом посмотреть цветы, виньетки на книгах, образки святых да послушать его рассказы из священной истории.
Гуидуччо стал ходить в дом священника каждый день – так ему понравились рассказы из священной истории. А приходский священник, падре Фьорика, видя перед собой широко открытые, внимательные глаза на бледном вдохновенном лице мальчугана, возносил хвалу господу, ниспославшему ему такое чудо – расцвет веры в чистой и невинной детской душе; и когда Гуидуччо в самый патетический момент рассказа не смог сдержать переполнявший его душу восторг и, бросившись священнику на шею, прижался к его груди, тот преисполнился такой радости, что сердце его чуть не разорвалось, – он прослезился и, прижав к себе мальчика, воскликнул:
– О сын мой! Какую судьбу уготовил тебе создатель?
Но увы! Дьявол был тут как тут, он притаился за креслом, в котором сидел падре Фьорика с мальчиком на коленях, и приходский священник, как всегда, не замечал его.
Ну уж мог бы заметить, бог ты мой, что по лицу Гуидуччо время от времени пробегает какая-то тень и он хмурит брови! А причиной этого беспокойства служила добродушная снисходительность, с которой падре Фьорика смягчал, сглаживал некоторые эпизоды священной истории; эта снисходительность и это добродушие смущали чувствительную душу мальчика, потому что дома отец и сестры уже заронили в эту душу сомнение, недоверие.
И вот послушайте, как дьявол сумел воспользоваться тем, о чем догадался по этим и другим слабым приметам, на которые приходский священник, падре Фьорика, не обратил внимания.
Май считается месяцем богоматери, и в церкви святого Петра после проповеди и евангельских чтений, после раздачи благословений и пения хором под орган хвалебных гимнов разыгрывалась по лотерее среди верующих восковая фигурка мадонны на подставке под стеклянным колпаком. Коленопреклоненные женщины и девушки пели гимны, не отрывая глаз от этой мадонны, которая стояла на алтаре, окруженная горящими свечами и множеством цветов, – каждая мечтала, чтобы жребий пал на нее. Однако были и такие, которые, видя, как страстно молится Гуидуччо, полагали, что пусть уж лучше мадонна достанется ему. И больше всех этого желал, разумеется, приходский священник, падре Фьерика.
Лотерейный билет стоил сольдо. В течение всей недели ризничий [79]79
Ризничий – служащий в ризнице.
[Закрыть]продавал билеты, ставя на каждом имя владельца. В воскресенье все билеты, свернутые в трубочку, высыпались в стеклянную урну; падре Фьорика запускал туда руку, ворошил ее содержимое, а прихожане, стоя на коленях, замирали в ожидании, затем он извлекал один билетик, показывал его всем присутствующим, разворачивал и, водрузив на кончик носа очки, читал имя выигравшего. После этого к дому счастливца направлялась процессия: статуэтку несли с песнопениями, под звуки барабана.
Падре Фьорика представлял себе, в каком восторге будет Гуидуччо, если счастливым окажется его билетик, и теперь, перемешивая бумажные трубочки в урне и глядя на стоявшего на коленях мальчугана, мечтал, что совершится чудо: его пальцы угадают билет, на котором написано имя его любимца. И при этом приходский священник чуть ли не сердился на мальчика за то, что тот, имея возможность на пол-лиры, которые получал от матери каждое воскресенье, купить десять билетиков, не желал воспользоваться этим своим преимуществом перед другими мальчишками и довольствовался одним, и даже сам приобретал для них билеты на все оставшиеся девять сольдо.
К тому же, как знать, может, эта мадонна, войди она в дом синьора Грели, помирит с церковью и остальных членов семьи!
Вот так дьявол и смущал приходского священника. И на этом не остановился. В последнее воскресенье мая, когда наступил торжественный момент жеребьевки и падре Фьорика стал у алтаря, где стояла восковая статуэтка мадонны рядом со стеклянной урной, дьявол потихоньку пристроился у него за спиной и шепнул, – вы только подумайте! – что, дескать, можно прочесть имя Гуидуччо, какой бы билетик ни попался. Так он и поступил. Среди всеобщего ликования Гуидуччо, однако, сначала покраснел как рак, потом побледнел, насупился, как-то дико посмотрел на священника, задрожал и закрыл лицо руками; ускользнув от богомолок, подступавших к нему с объятиями и поцелуями, выбежал из церкви, примчался домой, бросился к матери и отчаянно зарыдал. Когда с улицы немного погодя донеслись звуки гимна, который хором пели под рокот барабана участники процессии, мальчик затопал ногами, стал рваться из рук матери и сестер и кричать:
– Это неправда, неправда! Не нужно мне ее! Пусть уносят обратно! Это неправда! Не нужно!
А произошло вот что: девять сольдо из десяти, полученных от матери, Гуидуччо, как всегда, раздал мальчишкам; когда же он направлялся в ризницу с последним сольдо, чтобы купить лотерейный билет себе, к нему подошел оборванный и босой мальчишка, который три недели проболел и в предыдущих лотереях не участвовал; завидев Гуидуччо, направлявшегося в ризницу с монетой в руке, мальчишка спросил, не ему ли эта монета предназначена, И тот отдал ему последний сольдо.
Синьор Грели уже не раз насмешливо предостерегал сына:
– Гляди, Дуччо! Этот поп хочет тебя околпачить. Я уже вижу тебя с тонзурой [80]80
Тонзура – выбритая макушка головы у католических священников.
[Закрыть]и в рясе. Гляди не попадись!
А теперь падре Фьорика присудил ему мадонну, хотя его имени не было ни на одном билете. Для чего?
Синьора Грели, чтобы успокоить сына, тотчас распорядилась отнести статуэтку мадонны обратно в церковь, и с тех пор приходский священник, падре Фьорика, ни разу не видел Гуидуччо Грели.
1913
Перевод В. Федорова
СТАРЫЙ БОГ
Синьор Аврелио, сгорбленный старичок в полотняном костюме, слишком просторном при его худощавой фигуре, с раскрытым зонтиком и поношенной соломенной шляпой в руках, ежедневно отправлялся отдохнуть в особое, им самим облюбованное место – такое, что никому и в голову не придет.
Думая об этом месте, он заранее, с истинным наслаждением, потирал свои маленькие нервные ручки.
Кто отправляется в горы, кто едет к морю, кого соблазняет деревня, а он вот ходит по римским церквам. И в самом деле. Разве в церкви не прохладней, чем в лесу? Разве здесь не найдешь покоя? В лесу – деревья, а здесь – колонны, там отдыхают под сенью листвы, здесь – под сенью господа бога.
– Что ж поделаешь? Нужно терпеть.
И у него в свое время было прекрасное поместье неподалеку от Перуджи. Среди густых кипарисовых рощ, в мягкой голубизне сумрака, под купами плакучих ив, протянувших к воде свои гибкие синеватые ветви, стояла великолепная вилла Ветти, в которой были собраны ценнейшие произведения искусства – украшение дома и предмет всеобщей зависти.
А теперь для отдыха у него оставались только церкви.
– Что ж поделаешь? Нужно терпеть.
Вот уже много лет, как он перебрался в Рим, но до сих пор не успел посетить даже самые известные из церквей. В этом году он посетит их, вместо того чтобы ехать на дачу.
На своем жизненном пути синьор Аврелио растерял надежды, иллюзии, богатство и немало других столь же прекрасных вещей. У него оставалась лишь вера в бога, озарявшая, подобно фонарю, тревожный мрак его жизни. Согбенный годами, всеми силами оберегал он горевший в этом фонарике огонь от холодного дыхания последних разочарований.
Сбившись с пути посреди житейской сутолоки, он блуждал в одиночестве, и никому не было до него дела.
– Неважно, господь меня видит! – утешал он себя.
И настолько был убежден в этом синьор Аврелио, столь горячо уверовал он, что господь видит свет его фонарика, что даже мысль о близком конце не пугала, а утешала его.
Накаленные палящими лучами солнца улицы были почти пусты. И все же непременно подвертывался какой-нибудь озорной мальчишка или извозчик на стоянке, которые, видя, как он идет с непокрытой головой, сверкая лысиной, как подрагивают на ходу его козлиная бородка и серая накидка от комаров, спадавшая на затылок, отпускали на его счет какую-нибудь шутку: «Глянь-ка, у старика две бороды – одна спереди, другая сзади».
Но синьор Аврелио не любил носить летом шляпу. Он сам улыбался шутке и невольно ускорял шажки, чтобы лишить этих бездельников соблазна продолжать насмешки.
– Что ж поделаешь? Нужно терпеть.
Входя в церковь, избранную в этот день для отдыха, он прежде всего желал насладиться тем, что он уже на месте, и для этого усаживался на скамью.
Затем он с облегчением вздыхал, вытирал пот с лица, тщательно складывал вчетверо носовой платочек и клал его себе на голову, чтоб уберечься от церковной сырости.
Лишь какая-нибудь из редких в этот час богомолок, поглядев на него украдкой, усмехалась про себя, увидев на нем этот странный головной убор.
Но в подобные минуты синьор Аврелио испытывал подлинное блаженство, вдыхая пропитанный ладаном сырой воздух, застоявшийся в торжественно-молчаливой пустоте под священными сводами.
Ему и в голову не могло прийти, что здесь, в храме господнем, найдется кто-нибудь, кому доставит удовольствие над ним смеяться.
Немного отдохнув, он принимался осматривать церковь с неторопливостью человека, которому предстоит провести здесь целый день. Любовно изучал он архитектуру, не упуская ни одной подробности. Останавливался перед каждым пилястром, перед каждой мозаикой и фреской, перед каждым надгробием. Наметанный глаз тотчас же подмечал особенности эпохи и школы, к которой следовало отнести то или иное произведение искусства, и безошибочно определял, сохранилось ли оно в своей первозданности или было обезображено позднейшей реставрацией. Затем он снова усаживался на место и, удостоверившись, что в церкви – как нередко случается в этот час и в это время года – никого нет, доставал свою потертую записную книжку и, пользуясь случаем, делал в ней беглые заметки о своих впечатлениях или заносил вопросы, которые предстояло еще выяснить.
Удовлетворив для начала свою любознательность и покончив с намеченными на этот день занятиями искусством, он доставал из кармана какую-нибудь занимательную книжечку, по размерам напоминавшую молитвенник, и принимался читать. Время от времени он подымал голову, чтобы повторить про себя или мысленно воспроизвести перед своим взором то, что написано в книге. Нет, он не боялся оскорбить храм господен чтением светских книг. Согласно своим убеждениям, он полагал, что прекрасные творения поэтов, доставляющие людям радость, не могут оскорбить господа.
Утомившись от чтения, он либо предавался мечтам, либо, устремив глаза в пустоту и поглаживая руки, вспоминал о потерянных годах. Иной раз, когда он сидел погруженный в свои мечтания, ему мерещилось, будто от соседнего надгробия отделялась чья-то мраморная фигура, словно нарочно выставленная здесь, чтобы наблюдать за происходящим в церкви.
– О, – говорил он тогда, покачивая головой и улыбаясь, – тебе повезло, приятель. Ведь недурно быть покойником?
И он снова вставал, чтобы прочесть на надгробной плите имя похороненного здесь человека, а затем, вернувшись на свое место и разглядывая мраморную скульптуру, начинал с ней воображаемую беседу:
– Вот так-то, дорогой Иеронимус! Жаль, что больше не разрешают хоронить в церквах. А не то велел бы я воздвигнуть себе надгробие тут, по соседству, – ты бы здесь лежал, я там, друг на дружку стали бы поглядывать, да и поболтать нашлось бы о чем. По лицу судя, ты был человек порядочный и уж, конечно, немало своих горестей мне бы поведал. Н-да! Что ж поделаешь? Нужно терпеть, А все же, сдается мне, лучше церкви нет для покойника места. И ладаном пахнет, и молебны что ни день. На кладбище, по правде сказать, дождь вымочит…
Смерть, однако, пусть даже на кладбище похоронят, лишь тем несет… свободу, кто при жизни не о благе своем помышляет, а с твердостью и без ропота встретить ее готовится.
Воздаяния в загробном мире синьор Аврелио для себя не ждал; с собой хотел он унести лишь совесть, чистую оттого, что ни разу в жизни, до самой последней минуты, не сотворил он зла по собственной воле. Из прочитанных книг, а также благодаря веяниям, носившимся в воздухе, синьор Аврелио знал о накопленных наукой сомнениях, которые, подобно грозовым тучам, омрачили светлое толкование смерти, внушаемое нам верой, и сожалел, что сегодня даже для такого набожного человека, как он, господь уже не мог быть тем всемогущим, который за шесть дней создал мир, а на седьмой отправился отдыхать.
В то утро у входа в церковь ему повстречался удививший его своей наружностью пономарь – красивый старик с огромной бородой, весь заросший волосами, который заметно гордился и своей густой бородищей, и копной разделенных пробором вьющихся волос, ниспадавших ему на плечи. Красивой у него была только голова; казалось, приземистое, дряхлое, сгорбленное тело с трудом удерживало эту голову с целой копной волос. Размышляя о жизни и смерти, с горечью думая о ничтожности человеческой души в наш хваленый век просвещения, обратившись в мыслях к старому богу нетронутой веры наших отцов, синьор Аврелио вскоре уснул. Этот старый бог явился ему во сне, дряхлый и согбенный, с трудом удерживая на плечах косматую голову с огромной бородой, точь-в-точь как у того пономаря. Бог присел рядом и принялся изливать перед ним душу, как перед геронтом из греческой комедии:
– Плохие времена, сын мой! Видишь, до чего я дошел. Сторожу здесь пустые скамьи. Разве изредка заглянет какой-нибудь иностранец. Но, знаешь, не ради меня они ходят. Им бы только старинные фрески да памятники смотреть. Иной раз в алтарь заберутся, чтоб лучше разглядеть роспись. Плохие времена, сын мой! Да ты, должно быть, слышал? Или в новых книгах прочел? Выходит, я-то, предвечный бог, вроде ничего и не совершил, все само собой получилось, естественно, постепенно. Выходит, это не я вначале создал свет, а затем землю и все остальное, как тебя учили в детские годы. Куда там! Я тут будто и ни при чем. Понимаешь, туманности?.. Космическая материя… И все совершилось само собой. Я тебя сейчас насмешу: один, говорят, ученый какой-то обшарил все небеса, а затем набрался храбрости заявить, что не смог обнаружить и следа моего присутствия. Ну, сам скажи, можешь ты себе представить, как этот бедняга со своим телескопом гонялся за мной по небесам, когда в его жалкой душонке не было и частицы меня? Да, любезный сын мой, я бы над ним посмеялся от всего сердца, если б не видел, как доверчиво люди относятся к подобной ерунде. А ведь я еще помню, как всех держал в священном трепете, как говорил с людьми языком ветров, громов и молний. А теперь они придумали громоотвод, понимаешь? И перестали меня бояться. Нашли, чем объяснить и дождь, и ветер, и все прочее, и перестали молить меня о милости. Что ж, видно, придется мне покинуть город и ограничиться одной деревней. Там еще найдутся, не скажу – многие, но кое-какие чистые крестьянские души, для которых и лист с дерева не упадет без моей воли. Для них я по-прежнему творю и дождь, и вёдро! Пойдем к ним, сын мой! Ведь вижу, что и тебе здесь не так уж весело. Пойдем со мной в деревню, к людям богобоязненным, к людям добрым, трудолюбивым.
При этих словах синьор Аврелио почувствовал, как у него сжимается сердце. Деревня! Его мечта! Он видел ее перед собой так ясно, словно уже находился там и дышал чудотворным сельским воздухом, как вдруг почувствовал, что кто-то трясет его за плечо.
Открыв глаза, он вне себя от изумления увидел прямо перед собой живого бога-отца из крови и плоти, который и наяву повторял: «Пойдем же, пойдем…»
– Но ведь я уже столько времени… – пробормотал синьор Аврелио, вытаращив на него глаза, совершенно подавленный тем, что его сон стал явью.
Старик пономарь тряхнул связкой ключей:
– Пойдем, пора запирать церковь.
1901
Перевод Г. Брейтбурда