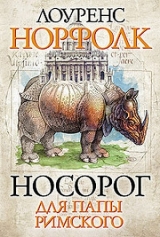
Текст книги "Носорог для Папы Римского"
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
«Как насчет меня?»
Я сказал это тогда, думает Сальвестро в темноте комнаты.
Голос его, ворвавшийся в круг их мрачной сосредоточенности, прозвучал странно: глухой, он в то же время был и пронзителен. Выражение лица Чиппи поощрило его к продолжению. Какие-то слова метались туда и обратно. Им это не нравилось. Он передал свою пику Бернардо, а потом опустился на колени там, где опускались другие. На него обрушилось многосоставное молчание, и он теперь состоял из воды, а не из плоти. Платье женщины соскользнуло вниз, он задрал его кверху. Женщина истекала кровью, и там, где кровь запеклась, лобковые волосы слиплись. Внутренние поверхности ее бедер побурели. У него было такое чувство, словно он слышит ее вопли – что, конечно, было невозможным, – и это ущемляло его и ранило, потому что сам он оставался нем, оставался частью всеобщего молчания. «Я поимею ее, – сказал Сальвестро, – если вы оставите ее в покое». У Чиппи при этом злобно сузились глаза. «Всегда слышал, что тифатани – парни щедрые», – добавил Сальвестро, выдерживая его взгляд. Потом шлепнул ладонью по бедру женщины. «Ну что, за дело?»
От нее пахло мочой и прокисшим потом. Этого он и ожидал, но, когда улегся на нее во весь свой рост, ощутил, как холодно и липко все ее тело. Он быстро вошел в женщину и сразу отвернулся от ее лица – так же, как курчавый паренек, – чувствуя, что иначе у него все опадет. Женщина была бесформенна. Он ничего не чувствовал, качаясь и дергаясь внутри ее. Крепко зажмурив глаза, он представлял себе, что они поменялись местами или что он сам наблюдает за совершаемым актом, видит, как раскинуты ее ноги, как напрягается спина, видит кольцо крови, а затем слышит ее вопль, отмечает белизну, мертвенность ее плоти… И темноту, которая то ли была водой в бочке, то ли просто возникала оттого, что он зажмурился. Или же темноту комнаты, здесь и сейчас… Или ту, что была там, давным-давно. И снова – женщину.
Гроот рассказал ему позже, что Пьетро с намеком изогнул мизинец и подмигнул, а Чиппи подал им знак отпустить женщину, надеясь, что та начнет биться под ним и извиваться, а может быть, и сбросит его с себя. Но она только моталась из стороны в сторону, как пьяная, и Сальвестро выплеснулся, так и не открыв глаз и не осознав, что все кончено. Его ворчание было настолько тихим, что одному из ответственных за ноги пришлось оттопырить ладонью ухо, поднеся его к самым губам Сальвестро, чтобы потом насмешливо сообщить остальным: «А этот-то по мамочке скучает!» « Мама, мама, мама, мама…» – поддел он Сальвестро. Несколько человек засмеялись, а потом солдаты убрались прочь.
Бернардо стянул его с бесчувственного тела, а то и вовсе поднял на ноги. Он помнил, как стоял, прислоненный к стене, а Бернардо орал на него: «Зачем ты это сделал?» Солнце к этому времени опустилось ниже, и тень от дома падала посреди улицы, рассекая тело женщины напополам. «Кровь у нее остановилась», – заметил Гроот, после чего потянул вниз ее платье, прикрывая ноги. Они, должно быть, волочили ее сюда, подумал Сальвестро, вот почему пятки так исцарапаны. «Да она толком и не дышит», – сказал Гроот.
С трудом переставляя ноги, он подобрался к женщине. Теперь, когда лицо ее не прикрывала рука Чиппи, видно было, что она молода и довольно-таки невзрачна. Из-под чепчика, все еще завязанного под подбородком, выбились несколько прядей каштановых волос. Глаза то закатывались, то опускались, то снова закатывались, с каждым разом медленнее. Сальвестро недоумевал, куда подевалась ее обувь и как вообще могла она потеряться.
«Надо бы ее согреть, – сказал Гроот. – Этот холод ее прикончит». Сняв с себя накидки, они закутали в них женщину, потом встали вокруг, глядя на нее и не зная, что бы еще такое предпринять. Она делала быстрые, неглубокие вдохи, которые все убыстрялись, делаясь все менее глубокими, пока не перешли в дрожь. Сальвестро опустился на колени и приподнял с земли голову женщины. Мышцы ее лица были расслаблены, а глаза ничего не видели. Они втроем ждали, что за всем этим последует, испытывая неловкость из-за того, что собрались над ней все вместе. Друг на друга они не смотрели. Гроот все одергивал платье, хотя оно давно уже доставало до щиколоток. Дрожь медленно обратилась в тремор, а затем и вообще в ничто. И тогда, еще раз, воцарилась полная тишина. Женщина умерла.
Была та тишина такой же, как эта? – спрашивает у себя окутанный ночью Сальвестро, сна у которого ни в одном глазу.
Нет.
Они подобрали свои пики и потащились обратно. По городу группами бродили солдаты, выбивая ногами двери и вытаскивая людей на улицу. «Зачем ты это сделал?» – снова и снова спрашивал Бернардо, бормоча эти слова себе под нос, глядя широко открытыми глазами на все то, что творилось вокруг, и не ожидая ответа. Он повторял это снова и снова, пока не взорвался разгневанный Гроот: «Он пытался ее спасти. А теперь заткнись!» Это ничего не изменило. Сальвестро молчал.
Перед церковью Святого Стефана готовились к сожжению человека. «Этот мавр, по прозванию Нана, разграбил храм Святого Петра и изнасиловал женщину, хотя жителям города обещана полная неприкосновенность…» Пока зачитывались обвинения, мавр глупо ухмылялся. Рядом расхаживали стайки солдат, по большей части пьяных. На другой стороне площади располагался городской магистрат, который, по словам Гроота, охраняли люди полковника. Был почти уже вечер.
Той ночью они спали прямо на площади и очень проголодались. Сальвестро проснулся рано и поднял двоих остальных. Они пошли по виа деи Чиматори в квартал, известный под названием Гвальдимаре. Все такие же покрытые пеной каналы. Такие же улочки. Вчерашняя тишина. Над окружающими зданиями высоко вздымались две крепости. У одной расположились люди Медичи, у другой – люди Кардоны. Когда троица проходила мимо, те и другие начали просыпаться. Они углубились в Гвальдимаре, каменные здания сменились кирпичными, вдоль фасадов которых поднимались открытые лестницы, – все было как накануне. На узеньких каналах стояли забавные маленькие мельницы. Тесные проходы между соседними домами были заполнены зловонными отбросами. Сальвестро снова глядел на окна верхних этажей, и опять там никто не показывался. «Почему они не вышли? – бормотал он. – Почему сидели тихо? – Двое его товарищей переглянулись. – Почему пальцем не шевельнули, чтобы ей помочь».
К тому времени уже потеплело. Гроот и Бернардо следовали за Сальвестро, который, казалось, что-то разыскивал, заглядывая по пути во все углы и даже вертя пикой.
«По-моему, если я чего-нибудь не съем, то помру», – в скором времени заявил Бернардо.
«Что ж, тогда надо поесть!» – живо отозвался Сальвестро и взбежал по ближайшей лестнице к двери в верхнем этаже. Он вежливо постучал. «Никого нет дома? – спросил он сам у себя. – Ну что ж…» С этими словами он принялся колотить по двери своей пикой. Вся улица огласилась грохотом, меж тем как двое других взирали на эту сцену с открытыми ртами. «Ну же, ну же! Открывайся!» – надсаживался Сальвестро. Дверь неожиданно распахнулась, и он влетел внутрь. Послышались какие-то вопли, несколько тяжелых ударов, а затем мужской голос, то ли умоляющий, то ли оправдывающийся.
Бернардо и Гроот медленно поднялись по той же лестнице и заглянули внутрь.
«А, вот и вы! – приветствовал их Сальвестро. – Сейчас позавтракаем».
Он восседал на стуле посреди комнаты с низким потолком, в дальнем углу которой две женщины, старая и пожилая, пытались спрятаться друг за друга, а мужчина, вот-вот готовый расплакаться, стоял на коленях и причитал: «Все, что угодно, все, что угодно. У нас ничего нет. Возьмите хоть это…» – и все в таком духе. Мебель по большей части пребывала в очаге, который, однако, не был растоплен.
«Это вашу дочь я вчера изнасиловал?» – спросил Сальвестро у хозяина.
Тот в недоумении стал мотать головой.
«Вы уверены? – настаивал Сальвестро. – Она была очень на вас похожа – такая же уродина, я имею в виду. Для меня все эти улицы на одно лицо».
Мужчина только мотал и мотал головой.
«То была другая улица», – негромко сказал Гроот.
«Все, что у нас есть, в вашем распоряжении», – сказала одна из женщин.
«А может, это была ваша мать?» – продолжал Сальвестро.
«Он хочет сказать… О Иисус, прибери меня к себе!» – вскричала старуха.
«Каково это? – спросил Сальвестро, вставая со стула, хватая мужчину за шиворот и подтаскивая его к окну. – Каково это, а? Смотреть, как она там умирает? Как я ее приканчиваю, а? Каково это?!»
Он стал отвешивать ему затрещины, но тот только выкрикивал, что у него нет дочери, из-за чего Сальвестро еще сильнее разъярился.
«Почему вы не дрались?! – кричал он. – Почему никто из вас не дрался?!»
Теперь он молотил хозяина кулаками, а обе женщины рыдали в голос и не смели пошевелиться. Гроот оттащил товарища, повалил на пол и удерживал там, пока тот не успокоился. «Все, тихо», – мягким голосом сказал Сальвестро.
«А мне-то есть хочется, – заметил Бернардо. – По-моему, сейчас помру».
Они съели все, что отыскалось в доме. Больше Сальвестро в тот день не проронил ни слова.
Он спал урывками: сколько-то минут – на ступеньках церкви Сан-Джованни, где его разбудил яркий солнечный свет, потом в углу высокого амбара, где вокруг него катали бочки с такими звуками, как будто звонили деревянные колокола, – некое серебристое громыхание. Кто-то, откидывая люк, сказал: «Там ничего нет. Смотри», – и на него из темноты уставились чьи-то лица, а потом, когда люк захлопнулся, оттуда донеслись визги. На некоторых площадях стояли жаровни, возле стен были сложены инструменты. Самое худшее происходило вдали от глаз, в красильнях, выходивших на реку. Жителей Прато сгоняли туда маленькими группами. Некоторых тошнило по дороге. Этот запах так и остался у Сальвестро в ноздрях – а еще вонь от горелых волос и сожженной кожи. Как-то раз Бернардо гонялся за какими-то ребятишками, и Гроот схватил Сальвестро за руку. «Присмотри за ним. Не дай ему… Ты понимаешь, о чем я». Сальвестро тупо покивал, ничего не понимая. Гроот куда-то ушел.
День проходил за днем. Сальвестро не мог бодрствовать. Однажды, пока он клевал носом, кто-то забрал у него пику, а Бернардо, очень обеспокоенный, все повторял ту дребедень, что втемяшили им сержанты: «Хороший пикинёр не расстается со своей пикой!» Мало того, он и муштровал сам себя там же, на улице: «Раз, опустить пику; два, шаг вперед; три, коли… Раз, два, три. Раз, два, три». Сальвестро отвернулся от приятеля и попытался уснуть снова. Гроот и Бернардо водили его за собой, находили ему еду – а может быть, он находил ее сам. Остальные солдаты поглядывали на него с любопытством. Он не обращал на них внимания. Некоторое время они провели с сицилийцами, но Сальвестро их как-то нервировал, когда разражался беспричинным смехом, часами барабанил по столешнице, принимался говорить на своем лесном языке – или же на том, что принимал за язык. Откуда ни возьмись появился Бернардо с крохотным тельцем в руках, восклицая: «Я ничего не сделал! Ничего!» – и Гроот начал на него кричать, после чего снова куда-то исчез, чтобы избавиться от тельца. «Я же говорил тебе! – шипел Гроот в ухо Сальвестро, но тот ничего не понимал. – Помнишь мальчишку в Марне? А Процторф помнишь? Говорил я тебе – присматривай за ним!» А потом наступил день, когда Гроот, вернувшись, растолкал его ото сна, чтобы сказать: «Давай, давай, пойдем со мной. Я нашел для нас выход. Пойдем, надо кое с кем поговорить…»
Он провел его через задний вход в церковь Сан-Стефано. Пройдя в маленькую дверь, они пересекли внутренний двор и длинную анфиладу пустынных комнат. На них вскинул взгляд сидевший за столом аккуратно одетый сержант. «Вы люди полковника? У меня для вас есть задание…»
Здесь, в Риме, этот звук кажется незнакомым. Воспоминания Сальвестро либо лишены звуков, либо поглощены тишиной. Голоса, громыхавшие в Прато, не исчезли где-то вдали, но сильно приглушены, и шум, занявший их место, намертво заточен, словно сумасшедший, молотящий по призракам, которые растворяются под бешеными ударами его кулаков. Сальвестро раскачивается над безмолвными улицами, неудачливый ангел, царапающий землю, где стоит на коленях Чиппи, все сильнее зажимая женщине рот. Его тело, более ему не принадлежащее, в гнилом безмолвии спаривается с ее телом. Жители Прато, прячущиеся за своими дверьми, задыхаются от криков ярости, наблюдатели проглатывают собственные языки, рука, вдавленная в лицо женщины, заставляет ее глотать собственные вопли…
Все слезы приходят слишком поздно. Это лишенное соли море уносило его прочь, когда он наблюдал за худым белым призраком, боровшимся со своими мучителями. А теперь держите ее покрепче… У нее причудливо закатились глаза – или это вообразилось ему позже? Лодка уносила его от берега, но не слишком быстро, нет, недостаточно быстро. Ее согнутое тело дергалось, как марионетка, – видел ли он это? Вода надежно укрыла ее пронзительные вопли в складках своей тишины. Приглушенная барабанная дробь, выбиваемая его сердцем, выталкивала женщину наружу по мере того, как на него все сильнее наваливалась тяжесть Ахтервассера. Слышала ли она то же самое? Как они ухватили ее с обеих сторон, как сунули головой вперед? Как утопили ее той ночью в бочке с дождевой водой?
Тишина поверх потускневшей тишины; удушливое безмолвие Прато поверх безмятежного безмолвия этой ночи. Он всхлипывает, и Бернардо оттаскивает его от умирающей женщины. Он, избитый, лежит среди мягко дышащих людей, и сна ни в одном глазу. Какое-то шуршание, кто-то время от времени кашлянет. Что-нибудь еще?
Он начинается тихо-тихо, медленно обретая определенность: хлюпко хныкающий или ухающе-фырчащий звук. Все монахи крепко спят. Бернардо продолжает храпеть. Не спит только Сальвестро, один во всей комнате, один на постоялом дворе, один в Борго, один в Ри-име. Никто не слышит, никому нет до этого дела. Мелкая влажная икота и полузадушенные рыдания нерешительно прорываются наружу и тут же тонут в дегтярном безмолвии ночи. Слишком поздно. Так оно всегда и бывает. Сальвестро плачет по своей матери.

Подъем, завтрак, горшок, месса.
«Otium, negotium» [42]42
Отдых, работа (лат.).
[Закрыть],– напевает Папа, быстро переходя из часовни в смежную с ней залу, растягивая «о» на манер антифона, о-о-о-о, останавливаясь, чтобы выглянуть в окно лоджии, выходящее во внутренний двор, глубоко затененный: там уже бурлит шумливая толчея сегодняшних просителей. Решив показаться перед ними воочию, Папа сворачивает в галерею.
– Ваше святейшество, епископ Специи ждет уже целых три дня, – мурлычет ему на ухо Гиберти. – После этого состоится аудиенция…
Зал Константина оглашен болтовней, тут же смолкающей, когда входит он. С высоких помостов на него глазеют художники и их подмастерья; в зале стоит густой дух маслянистых и металлических испарений. Болтовня возобновляется, как только Папа переходит в Элиодоро. Через окна справа от себя он видит Бельведерские сады, простирающиеся до холмов и поначалу затененные дворцом, а затем вспыхивающие во всем великолепии под утренним солнцем. Ватикан паразитирует на свете Борго. Гиберти то ли кашляет, то ли чихает, снова на что-то намекая. К своей груди он привычно прижимает гроссбух. Лев видит епископа, одиноко стоящего посреди Станца делла Сеньятура. Otium, negotium…
Это дельфин, думает он несколькими минутами спустя. Только посмотрите на его губы. Да и дышит-то как! Размеренно заглатывает и изрыгает из себя целые тонны воздуха. Дельфиноподобный епископ Специи неизменно смотрит на некую точку футах в трех перед своим носом, медленно поворачивая голову из стороны в сторону на четверть оборота, меж тем как Лев перед ним прохаживается. Монолог начался сразу же, как он вошел.
И продолжается теперь, усыпаемый плохо отрепетированными светскими отступлениями, каждое из которых предваряется одной из двух фраз: либо «если сумею взять на себя такую смелость», либо «как бы мне изъяснить это вашему святейшеству?». Эти обороты и так вызывают у Льва отвращение, а если повторяются трижды – тем более. Он слушает все менее внимательно, вспоминая о Специи: болотистое, неинтересное место возле моря. Мягко набухающий туман риторики окутывает мглою безоблачное утро Папы. В него вплывают некие громоздкие бесформенные существа: предметы жалоб епископа. Будь внимательнее, подстегивает он себя. Задай какой-нибудь вопрос. Озаботься печалями Специи. Можно спросить, серьезна ли угроза со стороны турецких корсаров, и сбить этим с толку толстогубого епископа. Или хороша ли там охота.
– …что же до ее происхождения, то здесь все выказывают полнейшую неосведомленность, а сама она говорит только одно: что была спасена и доставлена в Специю тем, кто явился и ушел ночью, кто однажды вернется, чтобы забрать ее с собой, – вы можете себе представить, как звучит это в изложении простолюдинов, – что теперь она его ждет и каждый, кто пожелает ждать вместе с ней, может к ней присоединиться…
У епископа наличествуют небольшие проблемы со слюной, которую он время от времени шумно всасывает, – возможно, чтобы придать своим словам больший вес.
Повторяясь и повторяясь, начинают вырисовываться определенные факты, тщательно отсеиваемые Папой. По-видимому, два года назад в Специи появилась некая восьмилетняя девочка. Кажется, с той поры вокруг нее собирается некая паства. Кажется, денежные пожертвования изымаются из казны епархии и передаются упомянутой пастве. Епископство Специи не из богатых. Кажется, епископ Специи находится здесь, в Риме. Факты не очень согласуются друг с другом. Папа тасует и перетасовывает их. Время от времени он одаряет епископа безмятежной улыбкой, приглашая того продолжать свой монолог. Полезно, когда тебя считают глупцом.
Гиберти, бесшумно стоящий у дальней стены зала, осторожно выдвигается вперед, глядя в сторону и сопровождая это странным, недавно усвоенным жестом, похожим на утирание носа. Из Станца дель Инчендио, смежной с этим залом, доносится гомон какого-то разговора, вздымаясь до высокого потолка и опадая.
– Видите ли, ее влияние распространяется, – говорит епископ. – Среди ее последователей есть женщины, о которых, как бы сказать вашему святейшеству, в Специи сложилось дурное мнение. И не только в среде простонародья. Епархия полагается на своих благотворителей, а кое-кто из них подпал под ее влияние, в том числе и моя собственная сестра, Виолетта. Она увлеклась этой Амалией, девочкой, я имею в виду. И, ваше святейшество меня поймет, мне трудно выступить против этой секты открыто – моя сестра, понимаете ли… Она владеет в Специи большими земельными угодьями и, кроме того, еще двумя поместьями… Она порой очень упряма, моя сестра.
Лев сочувственно кивает. У него тоже есть сестры.
– С тех пор, как сестра моя отдалилась от церкви, мы едва сводим концы с концами, осмелюсь сказать…
Едва сводим концы с концами?Этого слабого и недалекого человечка назначил Юлий. Возможно, благодаря его сестре. Всегда найдется какая-нибудь причина, с Юлием обычно так и бывало. Так было с генуэзцами на севере, с мраморными каменоломнями Каррары – и даже с Францией. Юлий отрыгнуть не мог, чтобы не вспомнить о Франции. Он же, прежде чем делать назначение, должен все рассчитать и взвесить. Возможно, не сегодня, не нынешним утром, но Специи необходимо уделить внимание. Там, судя по отчету епископа, церкви на грани закрытия, а гостия плесневеет в дарохранительнице. Там голодают священники, недоедают епископы. Прелат подбирается к существу дела, но Лев уже до него добрался и уже устал от того, что понимает этого епископа, понимает, зачем он здесь, о чем попросит через минуту, а также от того, что ему довелось услышать эту конкретную жалобу, в то время как тысячи других никогда не достигнут его слуха.
– И по всем этим причинам, а также и по другим, о которых я не упомянул из уважения к своей сестре, я прошу ваше святейшество проверить девицу Амалию на предмет ереси здесь, в Риме, ибо я полагаю, что она так же вредоносна для церкви в Специи, как вредоносен был Савонарола для церкви во Флоренции, в том самом городе, где вы родились.
Последнюю фразу епископ выговаривает одним духом и замолкает. Следует продолжительная пауза. Гиберти подбирается к дальней двери.
– Вот вы говорите: «проверить на предмет ереси здесь, в Риме». Что вы имеете в виду? Что ее надо проверить здесь, в Риме, или что свои еретические деяния она совершила здесь, в Риме, или и то и другое сразу? – спрашивает Папа.
Вопрос этот медленно направляется к епископу, выпуская по пути усики и опутывая его. Голова священнослужителя слегка накреняется. На лице сохраняется почтительность, и Лев понимает, что гнев его пока остается незамеченным. Но ему и не хотелось бы, чтобы это произошло сразу. Это ж надо, упомянуть о Савонароле в разговоре с ним!Бросаться этим именем здесь, перед ним, перед одним из Медичи! До чего же он неуклюж, этот епископ. И еще – в том самом городе, где вы родились. Что за наглость! Но это не должно повлиять на его суждения, необходимо оставаться спокойным.
– Полагаю, вы имели в виду, что ее надо испытать здесь, в Риме? – переспрашивает он.
Епископ благодарно кивает.
– Давайте пройдемся, – предлагает Папа, беря епископа под руку и подводя его к той двери, которую Гиберти уже открывает.
Зал за ней запружен народом в сутанах и рясах. В нем внезапно воцаряется тишина.
Стоя бок о бок, они какое-то время медлят. Внимательному собранию улыбка, блуждающая по лицу Льва, внушает безосновательное утешение. Одним из малых его талантов является умение извлекать некую пользу из того, что явно бесполезно. Епископ, стоящий с ним рядом, исполняет ныне некую функцию, хотя и не ведает об этом. Теперь они продвигаются к Станца дель Инчендио, и Папа кивает, поворачиваясь из стороны в сторону и тем самым ниспосылая благословение на головы тех, чьи тела расступаются, давая ему дорогу. Епископ Специи улыбается во весь рот. Вокруг них образуется небольшой круг.
– Думаю, будет лучше всего, – приятным голосом говорит Папа, – если я лишу вас епископского сана.
Улыбка епископа угасает.
Малозначительные князьки, их слуги, священники, прихлебатели! высокопоставленные члены его фамилии, чиновники курии, бюрократы и представители римских коммун – все они выказывают вежливое внимание. Вокруг его алой накидки-моццетты, излучающей надежду, понемногу образуется скопление людей. Они здесь для того, чтобы быть замеченными.
Чтобы оказаться свидетелями, думает Лев, а затем поправляется: нет, сплетниками. Он говорит:
– Ваша сестра, у которой находятся средства на реформирование монастыря Святой Магдалины в Специи, но не на штопанье карманов своего брата, взяла под свое попечительство малолетнюю сироту. Брат же в ответ на это пренебрегает своими обязанностями, позволяет церквям обращаться в развалины, растрачивает скудные доходы своей епархии и дурно управляет ее землями, после чего, обнаружив, что чашка наполовину пуста, а не наполовину полна, он является в Рим и просит Папу, чтобы девочку-сироту сожгли на Кампо-ди-Фьори. Теперь скажите, что я обо всем этом должен думать?
К нынешнему вечеру появится огромное множество наказанных епископов, отправленных на спине мула обратно в Специю; ввергнутых в нищету; поверженных на пол и бичуемых словесами, пока у них чудесным образом не окажутся окровавленными спины; закованных в цепи и доставленных для допроса в замок Святого Ангела. Всех их будут сопровождать тучи сирот-малюток и вереницы старших сестер. Во всех тавернах Рима будут подниматься кружки за здравие Папы. Шуткам не будет конца. Он оглядывается, словно пребывает в беспомощности, словно эти разоблачения не доставляют ему никакого удовольствия. Ему отвечают озабоченными взглядами. Епископ снова заглатывает воздух, но ничего не произносит, и это с его стороны мудро.
– Я просто не знаю, что и думать, – удрученно говорит Папа.
Минутой позже, когда он вышагивает обратно через Сеньятуру, Гиберти торопливо подходит к нему. Лев ненадолго останавливается в зале Элиодоро.
– Каковы доходы епископа Специи? – вопрошает он.
– Небольшие. Около четырех сотен дукатов. Но в его руках также и Понтано, а это приносит еще три сотни.
– Передай ему мое пожелание, чтобы эти три сотни пошли на богадельню его сестры.
– Постоянно или единовременно?
– Единовременно! Я не собираюсь обращать церковные доходы на содержание целого дома отставных потаскух. И намекни легату, чтобы проследил за исполнением. Его сестра и эта босоногая девчонка с небес могут помимо «незнакомца из моря» дожидаться и незнакомца из Рима. Почему бы и нет? – Гиберти делает пометку в своем гроссбухе. – Ну а теперь? С кем еще я должен увидеться?
– С обычными просителями. По крайней мере с четырьмя или пятью из них…
И Гиберти принимается зачитывать из гроссбуха:
– «Мартин из Бизенцио, Якопо из Трастевере, Джованна из Китаторио, Иоханнес Тибуртинус, Джанкарло из Понтормо, Джанкарло из Вольтерры…»
Перечисление имен успокаивает Льва, и он смотрит в створчатое окно на раскинувшиеся внизу сады. Занавес тени, подтянувшись к дворцу, обратился теперь не более чем в полоску. Издалека с западной стороны доносится едва различимый хруст. Ганнон опять крушит деревья. Невидимый отсюда сад представляется гораздо более диким. Он думает о вчерашних шутках, о театральной ярости Вича, о мраморном спокойствии Фарии. Они его не одурачили, ни один из них. Он отворачивается.
– «…Маттаус из Рооса, Филиберт Савойский, три женщины – не поименованы, Роберт Марк, джентльмен, Паоло из Витербо, брат Йорг из Узедома, Альдо из Пизы, Антонио из Парионе, Губерт из Парионе, Сальваторе из Парионе – они, по-моему, просят вместе, Филипп Савойский, приор Минервино…»
– Только не он, – резко вставляет Лев. – Я лишил его сана и отказал в праве на апелляцию. Он знает почему. Продолжай.
– «Отец Пьетро из Гравины, Космас из Мельфи, Бартоломео из Сан-Бартоломео, что в Гальдо, Родольфо из Фьефенкасла, Максимилиан из Чура, синюра Ядранка из Себенико, Якоб из Рагузы, Адольф из Фрайбурга…» А, приветствую вас, кардинал Биббьена!
Через зал Константина к ним быстрым шагом – хотя и задом наперед – направляется некто медведеподобный, в зеленой шляпе и красной накидке.
– День добрый, Джан Маттео Гиберти! – говорит он, запрокинув взгляд на зеленые и желтые пятна, испещряющие потолок.
Входя, он делает полупируэт, улыбаясь Льву, который заключает его в объятия.
– Ваше святейшество. – Теперь он отступает на шаг назад, чтобы отвесить замысловатый поклон. – Optimus et Magnus… [43]43
Благородный и великий (лат.).
[Закрыть]
Следуют еще два поклона, еще более изощренных. Лев улыбается.
– Довицио внизу, я видел его, когда…
– Довицио! Тогда почему же он не здесь?! – восклицает Лев.
Начинают собираться облака.
– У него нет приглашения, – отвечает Биббьена.
– Но у тебя ведь тоже нет!
– Увольте своих охранников! – кричит Биббьена. – А потом повысьте их в звании! Мы с Довицио поговорили, подтрунивая над вами за вашей спиной. Это куда занимательней, чем говорить с вами лично.
– Почему? Я что, стал таким скучным?
Сегодня Биббьена ему просто необходим.
– Смертельно! Но вы Папа и можете позволить себе быть скучным, сколько вам угодно. Когда я сюда вошел, то увидел Лено. Он до крайности возбужден. У него для вас новости, связанные с мессой у Колонны. – При упоминании о Лено все благодушие Льва улетучивается. – Ну-ну, взбодритесь, – увещевает его Биббьена. – Могло быть и хуже. Его хозяин, к примеру.
– Ну, ну! – протестует Лев. – Кардинал Армеллини – мой верный и обязательный слуга.
– Согласен, а еще лицемерный вымогатель…
– Ты не вправе так выражаться! – смеется Лев.
– Опять вынужден согласиться. Когда я в последний раз описал его подобным образом, толпа подлинных лицемерных вымогателей подвергла мой дворец осаде, требуя, чтобы я головой ответил за клевету. Допустим, толпы из четырех человек и собаки достаточно, чтобы осадить дворец Биббьены в его нынешнем виде, но все-таки… У меня при мысли об этом до сих пор руки трясутся. Посмотрите. – (Лев берет протянутую ему руку.) – Пойдемте.
– А просители? – вмешивается Гиберти.
Otium, negotium…
– Очень волнуются, доложу я вам, – говорит Биббьена. – Хотят видеть Папу.
– Сделай мне одолжение, Джан Маттео, – обращается Лев к секретарю. – Прими четверых-пятерых. Выслушай их и… Поступи так, как сочтешь нужным. От моего имени. – Секретарь бесстрастно кивает. – А когда увидишь моего брата, передай ему мое благословение.
Он поворачивается и, держа Биббьену под руку, идет обратно через зал Константина.
– Сейчас по коридорам вашего дворца гуляет невероятная сплетня, – говорит Биббьена, – но я к ней никакого отношения не имею. Услышал ее, как только вошел. Скажите, это правда, что нынешним утром вы заставили епископа Специи съесть жабу?..
Гиберти слушает, как взмывает и опадает серебристый смех Папы, пока эта парочка не ускользает прочь и звук не замещается другим – бормотанием или шепотом, ропщущим шорохом. Он никогда не прекращается, этот звук, порождаемый приглушенными голосами за закрытыми дверьми, волнениями и переживаниями в других помещениях и в других местах. Гиберти закрывает свой гроссбух.
До Лено, находящегося этажом ниже, этот звук тоже доносится, но Лено не обращает на него внимания. И это весьма разумно, ибо звук ни о чем ему не сообщает, его нельзя продать, он вообще ничего не стоит. Туаз грубо резанного мрамора идет за двадцать три джулио. Это факт. На него работают двести пять человек – это тоже факт. Сто тридцать два из них – в открыто принадлежащих ему мастерских за виа делле Боттеге-Оскуре. Сто четыре из них – евреи. Факт, факт. Он ожидает Папу в прихожей Царского зала. Факт? Что, если его святейшество не появится?.. Абстракция. Бесполезная.
Далее: в одном скудо – сотня джулио, а в генуэзской лире – двадцать сольдо, в английском фунте – пятнадцать. Флорин и венецианский цехин твердо идут один к одному. Четыре сольдо – за кавалотто, шесть кватрино – за сольдо, один – за два генуэзских денария, четыре – за байокко, десять – за джулио, или паолино, или карлино, хотя сегодня они встречаются нечасто. Никто в здравом рассудке не принимает далеры, и то же самое касается стиверов, батценов и копстаков. Все это очень занимательно. За сто четырнадцать миланских сольдо можно получить одну серебряную крону, которая равняется трем генуэзским лирам плюс целой куче римских сольдо – от двенадцати до двадцати. Четыре багатини составляют кватрино. Факт, факт, факт.
Загадка: если за один венецианский дукат дают чуть меньше двух с половиной туринских ливра, а туаз грубо резанного мрамора продается за пять ливров с четвертью, то сколько туазов потребуется продать, чтобы заполнить венецианскими дукатами самый большой его кошель (вместимость – один фольетто, обычный вес – одна либбра)? Ответ: не хватит всех каменоломен христианского мира! Ха-ха-ха! Республиканские дукаты – всего лишь счетная единица, цифра в гроссбухе, рукопожатие и сделка, совершенные на следующий год в Безансоне. Да быстрее же, думает он, ерзая на скамье.








