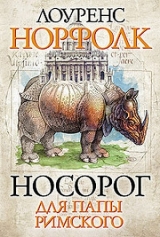
Текст книги "Носорог для Папы Римского"
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Он писал:
Но не надо во всем винить монахов. Они оказались без якоря, словно корабль в бурю, их завлекли ложные огни, а иных огней, во мраке своего невежества, они не ведают. И чтоб оставили они метания и нашли свои путь, им необходим поводырь.
А их поводырю, подумал он, нужна карта. Промокнув написанное рукавом рясы, Йорг обернулся к ларю, достал из-за него свернутый лист пергамента и, придерживая локтями, развернул. Перед ним был результат долгого труда при свечах, которым он занимался раньше по завершении дневных служб, но теперь дневных не служили, и переход к этому труду для него знаменовался созерцанием того, как удаляется его невольный информатор, Сальвестро. На самом верху приор изобразил извилистую линию, а над ней старательно нарисовал некое подобие волн. Среди волн, напоминая пару когтистых лап, стремящихся уцепиться за берег материка, находились два острова, один из которых – Узедом. Чуть пониже шли леса, прорисованные уже намного лучше, церкви с маленькими заостренными колоколенками, горы, реки, города. За зиму Йорг заметно поднаторел в этом деле. Сверху вниз бежала толстая линия, огибая леса, уходя на восток, где она пересекала горы и становилась зигзагообразной. В месте, где сливались реки, чернела клякса – там перо запнулось, выдавая его нерешительность – тот путь выбрать или этот? – и пергамент впитал чернила, а затем, когда выбор стал ясен, линия сделалась тонкой, как лезвие бритвы, неукротимо продвигаясь к югу. Эта линия обозначала дорогу.

В последующие недели все замерло в сумрачном ожидании. Зима начала скатывать свой подмокший покров с истерзанных морозом лужаек, земля становилась все мягче почвы, зимняя серость, отдираясь от небес, падала вниз дождем. С материка уже дули порывы теплого ветра, теряя над Ахтервассером почти все свое тепло, однако на Узедоме их все равно воспринимали как признаки наступающей, но еще далекой весны. Небо все никак не могло выбрать нужный оттенок голубизны, торопливо меняло цвета, время от времени возвращаясь к серому, и тогда на землю проливался дождь и опускались несчастные птицы – зяблики, малиновки, стрижи, крикливые вороны, ища укрытия между голыми ветвями деревьев и среди побитых непогодой вечнозеленых кустарников. Капли дождя шлепались о землю со звуком «шплу-у-ут», может быть, чуть тише и мягче. После этого выглядывало мерцающее солнце – дразнящее, рождающее беспокойство.
– Ну почему вы в этом участвуете? Разум его помутился, вы, брат, знаете об этом лучше любого из нас, – мягко, но решительно увещевал его Герхард.
– Его душа измучена, он страдает за всех нас, – говорил брат Ханно, указывая на дальний конец здания капитула, на церковь, которая снова начала ронять свои камни в море: зимой мороз сковывал глину, а теперь она размякла, поплыла, раствор опять крошился, между плитами пола побежали ручьи. Статуи ангелочков нарушали стройность рядов, наклонялись над парапетами, отрывались от постаментов, обретали свободу, падали… С погодой нельзя не считаться.
А Георг добавлял:
– Сам святой Христофор и тот дрогнул бы под таким бременем.
Они поймали его в здании капитула, где он уединился, чтобы собраться с мыслями, а может, и помолиться: раскрасневшиеся от ветра лица, грубая щетина.
– Он сумасшедший, наш приор, – сказал Герхард. – Ханс-Юрген, это правда.
Они искали его поддержки; он знал, что так будет. Ханс-Юрген, видя, как они бродят по двору, выходят из дортуара, появляются откуда-нибудь из-за угла – а за зиму, благодаря перешептываньям и бесконечным совещаниям, ряды сторонников Герхарда умножились, – вдруг вспоминал о каких-то срочных делах и скрывался в противоположном направлении. Он не желал вступать с ними в разговоры.
– Нет, – коротко ответил Ханс-Юрген.
Герхард, сокрушенно качая головой, бормотал:
– А эти разбойники… Он приютил их, заставил послушников им прислуживать…
– Мы ценим вашу преданность, Ханс-Юрген, – вмешался Георг. – У вас здесь нет врагов.
– Наш приор не был с вами до конца откровенен, Ханс-Юрген, – настаивал Герхард. – Островитяне знают больше, чем говорят, о том, что ростом поменьше…
– Сальвестро? Он раскаялся.
– Я же сказал: я разговаривал с жителями острова. Некрасивая история, хотя жертва и осталась в живых. И они знают, как следует поступить, хотя сами мы так поступать не можем. Наш приор склонился перед чарами язычника, а наш настоятель из-за него занемог… – В голосе Герхарда зазвучала печаль, даже скорбь. – Впрочем, никто из нас не безгрешен, – добавил он совсем уж горестно.
– Вы на нашей стороне, брат? – прямо спросил Ханно.
Что подразумевало: «Или против?»
– Если в этих поступках есть какой-то умысел, если он дал приют чужакам с какой-то целью…
«Если»? Всю зиму Ханс-Юрген наблюдал, как приор глубже и глубже погружается в себя, преследуя какие-то собственные цели. Каждый раз, являясь за Сальвестро, чтобы препроводить его в кладовку для брюквы, он видел на лице обитателя той дальней кельи отсутствующее, нездешнее выражение, какое бывает у изобретателя, работающего над неким фантастическим сооружением: рука тянется за инструментами и находит их не глядя, потому что перед глазами стоит чудовище, созданное его воображением и фантазией. На предложения Ханса-Юргена возобновить службы в здании капитула, на его рассказы о своенравии монахов приор отвечал слабыми, уступчивыми кивками, но ничего не предпринимал. Выслушивая доклады о небрежении и различных проступках братии, он лишь печально качал головой. Рассказы о настоятеле возбуждали некоторый интерес, но и то лишь потому, как догадывался Ханс-Юрген, что после его смерти непременно возникнет вопрос о руководстве монастырем, и вряд ли он решится в пользу отца Йорга. Несколько раз Ханс-Юрген заставал его сидящим на корточках возле одра больного: приор вглядывался в маразматическое лицо старика, тот не замечал его присутствия – да и вряд ли он замечал чье-либо присутствие, – но все равно казалось, будто оба ждут какого-то знака, события, знамения. Йорг выцарапывал что-то на листе пергамента, который торопливо сворачивал при появлении Ханса-Юргена, словно в содержании этого листа или в самой окружавшей его атмосфере секретности было что-то постыдное. Свиток он хранил за коробом с книгами. Ханс-Юрген его видел. Это была карта. Ничего ему не говорившая.
Значит, все-таки не «если?», но «что?». И Герхард был прав, обратив свое пылающее злобой лицо к бродягам, которых монастырь приютил по решению приора – решению, в котором его никто не поддерживал. Зимой нечем занять себя, разве только приспосабливаться к обстоятельствам, однако присутствие чужаков по-прежнему будоражило молодежь и даже теперь вызывало подозрения и негодование у старших братьев. Ханс-Юрген поднялся, чтобы уйти, но рука Герхарда легла ему на плечо – уговоры теперь больше походили на слабо завуалированные угрозы. Он глядел на свои испещренные старыми шрамами ладони, а Герхард спросил: так что, он с ними? Под «ними» он подразумевал двух бродяг в кладовке для брюквы и приора. Ему захотелось крикнуть: «Нет! Нет! И никогда с ними не был!» Боже, уже поздно, он уже слишком стар, чтобы приносить себя в жертву, он не безумец, не святой… Кто из них прав? Герхард? Йорг? Не посягай… Не отчаивайся…Тать в нощи похитит его, и свяжет, и унесет прочь. Но что за тать?
И когда? Не слышно ни ангелов, ни труб. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем…нет, не то, не то. Тревожный набат едва слышится, но он есть – это звуки, которые раздаются из их крошащейся, рассыпающейся церкви, это тяжелое дыхание настоятеля, это братия, бесшумно расколовшаяся на два лагеря, словно между двумя островами, прежде сомкнутыми, ныне образовался проток, пролив, по которому устремились воды нового моря, а острова продолжают и продолжают расходиться, пока наконец не будут видимы одновременно только Господу.
Когда быстрые и яростные дожди узедомской весны сменились более привычной моросью и туманами, Ханса-Юргена одолела смутная тяга к бесцельным блужданиям. Зима приковывала его к монастырю. Теперь же пора было вскапывать, возделывать фруктовый сад и огород, крыша дортуара тоже нуждалась в починке, однако… Его тоже охватила леность, бездеятельность, отравившая всю остальную братию, и он не мог найти в себе энергии, чтобы организовать рабочие бригады. Да если бы он и принялся за это дело, кто бы его послушался? В монастыре с ним по-прежнему здоровались Хеннинг и Фолькер, а также Флориан и Иоахим-Хайнц. Хайнц-Иоахим? Возможно. А кто еще? Только послушники.
Поэтому он пускался в одинокие походы по острову: сначала шел милю-другую вдоль берега на северо-запад, потом сворачивал в глубь острова и через буковую рощу подходил к берегу Ахтервассера, оставляя чуть в стороне хижину Плётца. Там он замедлял шаг и вразвалочку брел вдоль залива, поглядывая на поросший лесом материк: к небу поднимался дымок не видных ему очагов. Потом он снова сворачивал в лес. Тропа, влажная после дождей, больше смахивала на ложе ручья, потом она мягко шла вверх и сворачивала, огибая холм, к востоку. Лес кончался, и Ханс-Юрген шел мимо огородов и полей, на которых трудились островитяне, – тропа служила как бы ничейной землей между ними и монахами, – приближался к жилищам: сначала дом и хозяйственные постройки Отта, потом – Виттмансов, хозяев остальных он не знал. С каждым днем дорога эта становилась все более привычной, казалось, она приветствует его: сперва – подснежниками, потом – колокольчиками. Утренние заморозки случались все реже, и на черных ветках появлялись ярко-зеленые всполохи. После вынужденного зимнего заключения в компании ему подобных это одиночество казалось странным – странно успокаивающим. Но оно было трижды нарушено – не менее странным образом.
Трижды. В первый раз это был Отт, затем двое других, которых он не узнал. Случалось это так: когда он шел среди полей, человек отрывался от своего занятия – починки забора, прореживания кустарника – и приближался широкими шагами, из-за грязи высоко поднимая ноги, с воздетой в приветствии рукой. Наконец Ханс-Юрген различал не только его фигуру, но и лицо. И в этот миг человек притормаживал. Каждый раз ему казалось, что на топорных лицах островитян написано недоумение, что-то вроде легкой тревоги, смятения. Однако, не дойдя до него, человек разворачивался и возвращался к своим занятиям, больше не оглядываясь, а Ханс-Юрген оставался стоять на тропе. Он ощущал беспокойство, непонятную неловкость, как если бы тот, кто адресовал ему это полуприветствие, еще и сообщал ему что-то на своем неведомом языке. Что-то очень важное, но непонятное.
Ханс-Юрген выжидал минуту-другую, а потом продолжал свой путь к берегу и уже вдоль него – к монастырю. Берег порос редкими чахлыми деревьями. Подходы к нему покрывала мягкая зеленая травка: издали казалось, что к лениво пенящемуся морю сбегают изумрудные волны, самого же моря видно не было. Близко к берегу он не подходил.
Именно на этом последнем отрезке пути в холодный и ветреный мартовский день он увидел самого себя – по крайней мере, так ему на миг показалось, потому что на человеке тоже было серое монашеское одеяние, а фигурой и осанкой он издали походил на Ханса-Юргена. Человек шагал впереди, он уже огибал луга и вот-вот должен был начать восхождение к скоплению серых каменных построек – к монастырю. Но удивительно: вместо этого незнакомец свернул направо и скрылся за мысом. Ханс-Юрген ускорил шаг и через несколько минут, задыхаясь, достиг точки, где тот, второй, свернул. Он был уже почти уверен, что именно за этого человека его и принимали островитяне, когда отрывались от своих забот и шли поприветствовать, а потом, разглядев, осознавали свою ошибку и возвращались к прерванным занятиям.
В нескольких ярдах от гребня, за которым начинался уже непосредственно спуск к воде, стояло несколько построек, по большей части заброшенных. Между ними и гребнем можно было пройти до самого трансепта, треснувшая стена которого преграждала дальнейший путь. Ханс-Юрген обогнул угол здания, когда-то служившего дровяным складом. Хранившиеся здесь доски и бревна давно были использованы для лесов, которыми пытались подпереть церковь. Колючая трава, грязь, расколотые каменные блоки – и лодка тех бродяг. Она простояла там всю зиму. Кто-то склонился над ней, вычерпывая застоявшуюся воду. Ханс-Юрген подошел поближе – что-то в монашеском одеянии незнакомца было не так, неправильно. Человек услышал его шаги и обернулся. Это был Сальвестро.

Однажды ночью он услышал поющие голоса – словно тонкие золотые лучики пронизали тьму кладовой.
– Христос родился, – пробормотал во сне Бернардо.
– Кто?
– Христос, – повторил его товарищ и добавил: – А ты язычник.
В кладовой было темно, но он все равно с любопытством воззрился на Бернардо, вновь погрузившегося в дрему. Язычник – таким эпитетом наградили его клевреты Герхарда, по утрам собиравшиеся в монастыре вокруг последнего. С молчаливым презрением монахи относились и к Хансу-Юргену: Герхард демонстративно смотрел сквозь него, а его помощники кривились, когда он проходил мимо. Однако стрелы их негодования проносились над головой Ханса-Юргена, их истинной мишенью был другой. Язычник. Маленькая песчинка ненависти была брошена внутрь Бернардо и росла в нем, подобно жемчужине, а темные воды поднимались, росли, растекались, захлестывали приора – тот редко показывался среди своей братии при свете дня, – да и саму церковь, точнее, ее уже невосстановимые руины, или даже все вокруг, и сам остров? Как все это непонятно… Надо бы расспросить приора. Их встречи стали едва ли не товарищескими – Сальвестро усаживался, не дожидаясь приглашения, а порой и сам завершал беседу: зевал и осведомлялся, не пора ли им обоим соснуть, после чего кивал, поднимался и отправлялся к себе в кладовку – безо всякого сопровождения. Он давно хотел расспросить приора об этом, но никак не мог сформулировать вопрос. «Скажите, отец, а почему монахи так вас ненавидят?..» Нет. Невозможно. Так не спросишь. Приор напоминал ему валун, наполовину вросший в землю, – темные волны, перекатывающиеся над ним, отполировали его, однако они не способны сдвинуть камень с места и лишь бьются о него, бессильно пенясь. «Потому что, сын мой, я дал приют двум разбойникам…»
Да и это место тоже. Само место. Тут ничего не берегли и не хранили – красть здесь было просто нечего. Все рассыпалось, рушилось. Все монахи ненавидели свой монастырь, каждый по-своему, но их вражда к этому месту была глухой, притуплённой, без взрывов и выпадов. Сальвестро этого не понимал и все ждал, когда придет весна, между делом размышляя о том, что хорошо бы двинуться на восток; думал он и о бочке, валявшейся на задворках – там же, где и канат, думал об Эвальдовой лодке, неуклюже притулившейся у задней стены церкви и все еще полной льда, и о самом Эвальде.
Пение стихло.
В этом году зима неохотно разжимала свою хватку. Сальвестро помнил такие дни, мать их как-то там по-особому называла. Хитрые боги пользовались ими, устраивая ловушки глупцам: те принимались осматривать озимые и даже вспахивать верхние слои почвы, отирая пот, улыбаясь голубому небу и подсыхающей темно-красной земле, которая уже превращалась в розовую… А потом – ба-бах! – небеса разверзались, и нате вам – потоп. Ха-ха-ха! Под дверью – лужи и грязь. Им надо уходить, и чем скорее, тем лучше, все равно в каком направлении. Да они бы уже ушли, несмотря на растущую склонность Бернардо к ничегонеделанию. Он все холода провел, сидя на заднице, отвлекаясь только на еду да на жалобы относительно качества этой еды. Хотя брат Ханс-Юрген как-то ему приказал, и он перетащил груду камней от северной стороны монастыря к южной. По правде говоря, и самого Сальвестро удивляло то, что они так надолго застряли в монастыре, – точнее, его удивляло собственное молчаливое согласие на это. Такие мысли колобродили у него в голове, бились друг о друга, как шпангоуты и переборки разбитого корабля, которые вот так же вяло ударяются друг о друга, поднимаясь к поверхности. Все эти неоконченные дела. Вроде Эвальда и его чертовой лодки.
– Она неостойчивая, – предупредил Эвальд за неделю до их вылазки с бочкой. – Держи вес посередине.
Эвальд нервничал, пальцы его выстукивали дробь по обшивке кормы, но волновался он из-за лодки или из-за него самого, Сальвестро понять не мог.
– Она старая, но прочная, – добавил Эвальд. – Дед построил ее, когда почва на наших полях засолилась.
Сальвестро ждал продолжения, но Эвальд медлил, только продолжал робко постукивать пальцами, словно боялся своими словами пробудить огромного страшного зверя.
– Эта лодка – его месть морю, – сказал он наконец, после чего разразился длинной путаной речью, словно, едва только он раскрыл рот, открылись и пути для издавна копившихся в его памяти событий, связанных с лодкой; на Сальвестро хлынул поток жалоб и старых обид.
Итак, лодку построил дед Эвальда. Вот, например, ольха – она легкая, гибкая, с ней легко работать, да и на острове она растет в изобилии. Островитяне строили из ольхи свои плоскодонки, на них они плавали по стоячим водам возле Штеттина и Воллина, по мелководью у Грейфсвальда, легко перетаскивая их через дамбы и запруды, построенные еще фризами. Но со своих промокших от дождя капустных полей Ансельм видел злобные шквалы, возникавшие из ниоткуда и вздымавшие огромные волны в обычно спокойных водах. С приближением шторма маленькие лодочки обычно уходили, прятались, но сухопутное сердце Эвальдова деда все-таки содрогалось от ужаса. Для защиты от буйных волн ему требовались стены непоколебимые, настоящие бастионы, способные устоять перед капризно-яростным морем, крепостные стены, за которыми можно было бы спрятаться от воды. И он построил себе лодку из дуба.
Крепко сколоченная, надежно связанная, она могла ходить как под парусом – чтобы удирать от ветра, так и на веслах – чтобы еще быстрее добираться к берегу. Ансельм командовал самым надежным одномачтовым судном в этих водах. Чтобы его закрутить, требовался настоящий водоворот, чтобы пробить в нем брешь – пушка. Чтобы сдвинуть его хотя бы на дюйм на суше, требовалась сила двух крепких мужчин. У дуба – это Ансельм узнал уже потом – древесина тяжелая. Получив лодку в наследство, это обнаружил и Эвальд. Как и его помощник, он же козел отпущения, работавший почти за бесплатно и каждое утро шагавший через весь остров, чтобы спустить на воду Эвальдову гордость и радость, – Плётц.
С Плётцем на борту Эвальд отважился присоединиться к остальным рыбакам, чтобы вместе с ними черпать свою долю из соленой воды. Для него рыболовство было местью этим мрачным водам, морю, отравлявшему землю своей солью. Он старался подражать другим рыбакам – стоял грудью против ветра, забрасывал сеть, пытался преследовать косяки сельди, – однако вскоре заметил, что его лодка значительно отличается от других. Оказалось, что она больше, ниже сидит в воде, неповоротливая, а ее парус, хотя и широкий – в два разворота плеч, – плохо ловит ветер. Когда косяк рыбы двигался дальше по шельфу или вдоль берега, остальные лодки с Рюгена резво разворачивались и устремлялись вослед. Когда начинался шторм, они просто прятались в заливе с подветренной стороны, а потом возвращались к прерванному занятию. Лодка Эвальда была неуклюжей, разворачивалась с трудом, и Эвальд ругательски ругал Плётца, называя его косоруким болваном. А когда задувал шквалистый ветер – Брюггеман его и опасался, и втайне желал его, потому что наконец мог противопоставить свое судно проклятому морю. Рюгенские просто удирали к берегу, а его крепко сколоченная лодка, тяжело раскачиваясь и ныряя, неторопливо, словно в океане клея, продвигалась к земле, и под конец Брюггеман с Плётцем неизбежно промокали до костей. Обессилевшие, по колено в воде, они достигали берега, порой настолько изможденные, что не могли даже вытащить лодку на сушу, чтобы ее не утащило приливом, и временами прилив действительно утаскивал ее назад в море. Однако лодку никогда далеко не уносило. Эвальд называл ее «Молотом шторма», рюгенские же – «Наковальней», но после первого сезона они видели ее редко. Эвальд с Плётцем предпочитали рыбачить вдали от остальных.
«Наковальню» преследовали несчастья; этот тихоход даже с виду казался мрачным и угрюмым. Дуб – дерево слишком мощное для этих ленивых вод, для моря, еще помнящего о том, как оно было льдом. И дубовая древесина напрасно напрягала свои мышцы, сражаясь с обманчивой слабостью воды: построенное из нее судно больше годилось для берега, оно и было созданием сухопутного ума. А на плаву, вопреки всем ухищрениям Эвальда, манипуляциям с балластом и высотой мачты, оно все равно страдало от килевой качки и постоянно попадало в неприятности.
Вспоминая сейчас об этом, Сальвестро думал, что лодка так же несчастлива на берегу, как и в море. За зиму благодаря небесным щедротам в ней самой образовалось маленькое безумное море, которое всего за один сезон пережило все то, что за миллионы лет испытало море большое: сначала был лед, потом он подтаивал, замерзал вновь и наконец растаял совсем. Сальвестро мрачно смотрел в лодку, до краев полную воды.
Лодочное море, грязно-коричневое, на поверхности которого плавали соломинки. Он пустил в ход миску, чтобы вычерпать воду, и вскоре земля вокруг него уже хлюпала под ногами. Через час уровень Лодочного моря понизился всего дюйма на три. Он уже несколько раз пытался накренить лодку, снова попытался, и снова ничего не получилось. Лодка, казалось, была отлита из свинца. А миска была маленькой и неудобной. Неудачный день. Хорошо хоть дождя нет.
– Здравствуй, Сальвестро.
Голос испугал его – он не слышал приближавшихся шагов. Позади стоял брат Герхард.
– Лодка Брюггемана, – констатировал монах, не дождавшись ответа на свое приветствие. Потом он заметил миску. – Ты бы лучше воспользовался сифоном.
Сальвестро утвердительно кивнул, хотя и понятия не имел, что такое сифон. Он неловко переминался с ноги на ногу в созданной его руками топи. Герхард подошел поближе.
– Тебе надо ее вернуть?
Он снова кивнул, а монах повернулся и посмотрел на плещущееся внизу, футах в двадцати, море.
– И как же ты намерен это сделать?
Он тоже размышлял об этом в тиши и темноте кладовки: требуется канат, нечто вроде лебедки или, может, что-то совсем примитивное – например, крепко вколоченный в землю столб с обмотанным вокруг него канатом. Бернардо будет на одном конце, он на другом, а еще понадобится шест, чтобы отталкивать лодку, иначе та станет раскачиваться на веревке и вполне может разбиться о край обрыва, либо разобьется он сам. Он уже представлял, как будет сидеть внутри, цепляясь за борта, а Бернардо начнет осторожно стравливать канат, чтобы лодка, коснувшись воды, не зарылась в нее носом. И еще мачта, которая будет все время мешать, – у мачт есть такое свойство, мешать. И надо все объяснить Бернардо как можно подробнее, натаскать его… Воспоминания о спуске бочки еще не успели потускнеть.
– Не знаю, – наконец выдавил Сальвестро.
Ему трудно было разговаривать с этим человеком, который последние месяцы был средоточием всех его безотчетных страхов и дурных предчувствий.
Некоторое время оба молча разглядывали суденышко, а Лодочное море тихо колыхалось в своих дубовых берегах.
– Вычерпай воду, а завтра после девятого часа я пришлю Ханно, Георга и других, и они снесут ее к воде. Знаешь, когда начинается служба девятого часа?
– В три пополудни, – растерянно ответил Сальвестро.
Монах кивнул, затем резко развернулся, прошел мимо и скрылся за углом, Сальвестро едва успел крикнуть ему вслед «спасибо!», но монах не ответил. Странная история… Увидев за спиной Герхарда, Сальвестро приготовился к чему-нибудь гораздо худшему, но этого не произошло. Возможно, брат Герхард вовсе не такой уж плохой… «Вычерпай воду». Правильно. Он снова принялся за работу.
Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем…
Ханно и Георг. Это хорошо. Предложение Герхарда означало, что Бернардо привлекать не нужно. Это тоже хорошо, потому что тогда гигант не увяжется за ним. Эвальду ведь не понравится, если такой увалень, как Бернардо, поломает ему табуретки или перепугает детей. У него же есть дети, не так ли? Сальвестро сам удивился тому, что в голову пришла мысль об Эвальдовых детях. Эвальд и его дети.
Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем…
Хорошо бы застать Эвальда одного. Почему? (Черпаем.) Он всегда этого хотел, с того самого момента, как ступил на остров, – только они двое ( выплескиваем), как в старые времена, именно так он себе это представлял. Вот открывается дверь, на пороге стоит Эвальд, обнимает его (черпаем), хлопает по спине, заходи, заходи… Но получилось не так: в тот первый раз дверь открыл не Эвальд, а Матильда, которая с ужасом воззрилась на него и Бернардо. ( Выплескиваем.) И Эвальд тоже, если подумать, смотрел на них из-за спины Матильды именно со страхом. А не с удивлением! Никакого удивления, даже при виде Бернардо. Так ничего странного: Эвальд-то думал, что его друг давным-давно утонул! Нет, не с ужасом он смотрел, скорее был поражен. И если он и позже был не очень-то разговорчив, а иной раз вообще не попадался на глаза, что озадачивало (чер-…– запнулся, восстановил ритм, – …паем), так понятно теперь почему. Эвальд был ошарашен! Надо было еще тогда понять. Ну конечно. Так оно и есть. Он не винил Эвальда. Ни в чем таком он Эвальда не винил.
– Эй, ты!
(Черпаем.)
Вода из забытой миски льется прямо ему на одежду, на мгновение ему кажется, что время повернуло вспять – снова на том же месте стоит человек в сером одеянии, снова окликает его:
– Ты что там делаешь?
Но этот – не Герхард.
– Ну? – настаивал Ханс-Юрген.
– Вычерпываю… Завтра я должен вернуть лодку Брюггеману. Брат Герхард поможет мне спустить ее на воду…
– Герхард? Так это Герхард здесь был?
Сальвестро кивнул, и это почему-то привело Ханса-Юргена в дурное настроение, он отодвинул Сальвестро в сторону и скрылся в том же направлении, что и его враг.
Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем. Черпаем. Выплескиваем…
Когда дурно пахнущей воды оставалось не больше чем на три пальца, Сальвестро удалось накренить лодку, и остатки Лодочного моря соединились с маленьким рукотворным болотом. Уже почти стемнело. Позже начался дождь.
Ночью в монастыре поднялась какая-то суета, кто-то что-то выкрикнул, и этого оказалось достаточно, чтобы обитатели чулана, привыкшие к тишине, проснулись. Потом до них донеслись уже более приглушенные голоса неподалеку от чулана. Сальвестро показалось, будто кто-то спросил: «Сколько еще ждать?» – и чей-то голос ответил: «Недолго уже. Завтра». Затем голоса смолкли, словно кто-то показал на дверь чулана: мол, осторожно. Послышались удаляющиеся шаги. Один из голосов явно принадлежал Герхарду.
И настало завтра. Монахи толпились в ограде монастыря, разбивались на кучки, кто-то переходил от одной кучки к другой. Некоторые оборачивались на Сальвестро, но и только – он не вызывал интереса. Монахи перешептывались – голова к голове, руки на плечах собеседника. Все были напряжены, возбуждены. Мимо него прошмыгнул один из послушников, Вульф, за ним бежал Вольф, и Сальвестро успел схватить его за рукав:
– Что происходит?
– Настоятель, – ответил побледневший Вольф.
– Он умирает, – добавил замыкавший шествие Вильф; глаза его были красными.
Троица поспешила прочь. Послышались крики, и все повернули головы в ту сторону. С другого конца двора, сопровождаемый Ханно – лицо у того раскраснелось от ярости, – спешил Герхард. Их мгновенно окружили другие монахи, но – нет, нет, пока еще нет! – отмахивался Герхард, жесты которого были вполне понятны. Сальвестро повернулся и ушел назад, в кладовку.
Миновал полдень. Даже Бернардо почувствовал, что происходит нечто странное, и собрался пойти на разведку. «А откуда они знают?» – спросил он, когда Сальвестро объяснил ему, что настоятель при смерти. Сальвестро не знал, что ответить, и, вспомнив Прато, сказал, что и ему самому лучше умереть здесь, на острове, где он родился, чем на овечьем рынке, превращенном в бойню. И тогда Бернардо осведомился: а какая разница? Он был мастером задавать такие вопросы. Какая разница?Мертвый – это мертвый. И все тут. Прошел еще час, и Сальвестро начал думать, что вряд ли сегодня удастся вернуть лодку, как вдруг в дверь просунул голову один из молодых монахов, имени которого он не знал. Монах сообщил, что братья Герхард, Ханно и Георг уже ждут и ему лучше поторопиться.
– Готовы?
– Нет.
– Подождите…
– Раз, два…
– Ннннн… Нет!
– Вот так?
– Опускай.
– О-о-ох.
– У-у-ух.
– …Три!
Сидя в лодке, Сальвестро смотрел на удаляющиеся спины монахов. Над ним тихо раскачивалась мачта. Он взялся за весла и начал выводить лодку в открытое море. Вскоре он был уже в пятидесяти ярдах от берега; лодку качало сильнее, чем когда-либо, насколько он помнил. Отсюда монастырь казался грудой цемента и серых камней, а церковь представлялась черной раной в ее середине. Орудуя одним веслом, он пытался повернуть на северо-запад, но лодка упиралась, не слушалась.
До него донесся вопль:
– Ты это куда?
Крик повторился вновь, в нем звучала все та же растерянность. Голос Бернардо. Он налег на весла: раз-два, раз-два… Когда лодку стащили к воде, Герхард похлопал Сальвестро по спине, но Ханно и Георг на него даже не смотрели – они вообще избегали его взгляда.
«Куда…» Раз-два, раз-два…
Но постепенно и крики, и земля остались позади, он оказался один в лодке, один в море, и, кроме ударов весел о воду, кроме всплесков, кроме скрипа уключин, кроме его собственного тяжелого дыхания, никаких других звуков не было. Стояла тишина. Не было и птиц в небе, а воздух расступался перед ним холодными колоннами. Смазанная линия берега слева от лодки медленно сдвигалась. Огромное плоское облако уходило к горизонту, на котором прорезалась тонкая красная полоска. Вскоре она стала розовой, а потом прорвалось солнце, темно-оранжевое, и облака сразу посинели. Скоро должно было стемнеть. Он приналег на весла.

Оловянная кружка и хлеб. Экскременты, размазанные по простыням. Вот так мы и умираем, подумал Ханс-Юрген.
Дважды Флориан доставал из дарохранительницы причастие. Дважды он пытался просунуть его настоятелю в глотку, и дважды настоятель его срыгивал. Дважды Флориан сам съедал выплюнутое тело Христово.
Перед рассветом в дверь постучались Герхард со своими людьми. Их натиск сдержали суровыми предостережениями и молитвами, однако Ханно проорал, что они еще вернутся.
Когда несколькими часами позже солнце окончательно поднялось, осветив келью недолговечными лучами, настоятель зашевелился – совсем как слепой червь, когда переворачивают камень, под которым он таится. Свет, казалось, отогнал реявшую в воздухе смерть. Флориан молился. Сам он пребывал в ожидании неведомо чего – то ли смерти старика, то ли ощущения, что свет отгоняет смерть. Йорг молчал, пока снова не заявились люди Герхарда.








