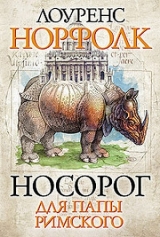
Текст книги "Носорог для Папы Римского"
Автор книги: Лоуренс Норфолк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 59 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Другой хихикает. Фьяметта не к месту задумывается, по-прежнему ли у ее любовника стоит. Если тот, другой, это заметит, не пройдется ли он шутливо на этот счет? Настолько ли они близкие приятели? Женщины видят, что посетитель Вича сидит за столом, за который вскоре усаживается и сам Вич.
– Прежде чем мы со всем этим разберемся, будет еще немало подобных фарсов. О самом последнем Вентуро вам рассказывал?
Акцент у посетителя отличается от акцента Вича и сразу выдает в нем иностранца. Лицо его не то чтобы незнакомо Фьяметте, однако она не может вспомнить, где его видела. Скорее всего, за обедом в чьем-то доме.
– Я предпочел бы услышать обо всем от вас, и мне непонятно, почему я этого не услышал.
– А что, в вашей корреспонденции об этом не упомянуто?
Голос собеседника делается резче.
– Она еще не поступила.
– А, понятно. – Голос становится мягче. – Впрочем, и нам стало об этом известно только сегодня. Когда прибудет ваша, сюрпризов в ней будет немного. Второго зверя уже добыли, точнее, случайно на него наткнулись…
– Уже добыли? Почему же никто мне об этом не сказал? Вентуро упоминал лишь о замысле. О намерении. Теперь же, кажется, об этом звере знают повсюду, кроме Бельведера. В Айямонте о нем известно?
– Успокойтесь. Откуда же еще мог я об этом узнать? Если хотите, прочтите послание сами.
Он роется в кармане плаща, извлекает оттуда маленький пакет и протягивает его Вичу. Тот неторопливо берет его в руки, разворачивает одну за другой страницы и разглаживает их на столе перед собой.
– «Афонсу д'Албукерки, губернатор Индий, передает сим свои приветствия», – читает он вслух. Большую часть первой страницы он проглядывает молча, затем снова начинает читать: – «…и во исполнение пожелания вашего высочества, чтобы эти моря стали безопасны для наших судов, я направил посольство на север от Гоа. Моим посланником выступил Диого Фернандеш из Бежи, ему помогали Жайме Тейшейра, Франсишко Паиш и другие, включая Дуарте Важа, переводчика. С ними я отправил несколько изделий из серебра и значительное количество парчи и бархата – с тем, чтобы все это было передано Музаффару, который является королем страны Камбей, иначе именуемой Гуджаратом, где я намереваюсь построить форт возле Диу. Сначала они прибыли в Сурат, затем в Чампанель, где им сообщили, что король пребывает в Мандовале». Да, кажется, это что-то вроде охоты. Но какое отношение все это имеет к Зверю?
– Я же говорил, что посольство к этому касательства не имело. Зверь оказался чистым везением.
Вич принимается читать быстрее, бормоча себе под нос комментарии.
– …с Музаффаром дело обернулось неудачей… строительство форта в Диу откладывается… обмен дарами… А, вот оно. «Король заверил моих посланников в дружеском расположении, гарантировал им безопасное передвижение и подарил золотые тарелки, роскошное резное кресло, инкрустированное перламутром, множество других прекрасных вещей, а также чудовищного зверя». Это тот самый?
Посетитель кивает.
– «Ростом он с человека, ходит на четырех довольно коротких ногах, голова продолговатая и вытянутая, как у свиньи, глаза посажены очень близко. У него мышиные уши, крысиный хвост и рог посреди носа. В стране Камбей он известен под названием ганда. У него дурной нрав, и, как говорят, он ненавидит слонов. Питается травой, соломой и вареным рисом». Могу себе представить, как разочарован был губернатор Индий!
– В конце концов Албукерки получит свой форт, но на сегодняшний день, да, он располагает только сладкими речами, обеденным сервизом и…
– И зверем, – подсказывает Вич.
– Находящимся в Гоа, то есть за два океана и одно море, как у нас говорят. Пройдет кое-какое время, прежде чем он увидит залы Бельведера. Полагаю, в своем послании вы обнаружите некие советы.
– Да, когда оно прибудет, – угрюмо отзывается Вич. – Я не доверяю этой ненадежной почте. Мы с вами и без того находимся вдали от дома…
– Да что вы такое говорите! – шутливо роняет другой. – Мы с вами находимся в центре вселенной, в Риме!
Оба смеются.
– Как вы займетесь подготовкой всего этого? Нужен корабль, команда, какой-нибудь достойный с виду болван, чтобы разыгрывать из себя Колумба… Мне велено помогать вам в этом деле. А наш Папа, при всей своей дурашливости, далеко не дурак. Один только намек на соучастие… – Он пожимает плечами. – По меньшей мере мы окажемся в затруднении. И это будет иметь далеко идущие последствия. Переговоры в Айямонте сейчас и без того на грани срыва. Кое-кто предпочел бы, чтобы они перешли эту грань и сорвались окончательно.
– Ceppa упоминал об этом сегодня вечером. Я разговаривал с ним, когда был у Колонны. Просто обронил это название, как ничего не значащее. Не знаю, откуда он об этом проведал, но нам следует предполагать, что он и впредь будет продолжать свои расспросы.
– А что именно он знает?
– В сущности, ничего, иначе не стал бы так топорно меня расспрашивать. Я отвечал этак вскользь, небрежно, а потом возникла заварушка с какими-то монахами, и это его отвлекло. Знаю, он хотел бы задавать мне вопросы и дальше. Если Ceppa узнает об Айямонте, об этом узнают и все остальные. Мы не можем рассчитывать на осмотрительность – правда выйдет наружу. А когда экспедиция отправится в путь, все будет шито-крыто. Нам надо поскорее достигнуть этой точки.
– Обогнать правду… Ох уж эти проблемы да трудности, – бормочет посетитель.
– Все они разрешимы, – с улыбкой провозглашает Вич. – Я, со своей стороны, намерен внедрить в команду своего человека.
– Внедрить? – Голос у посетителя звучит так, словно он ошарашен, в него прокрадывается нотка тревоги. – Кого именно?
– Вы очень хорошо его знаете. Он умен, находчив, прекрасно владеет искусством перевоплощения, а самое главное, – тут Вич ухмыляется, – он – сама осмотрительность. Мой секретарь. Антонио Серон.
Услышав это имя, посетитель поначалу словно бы утрачивает дар речи. Лицо его выражает недоверие, которое затем сменяется пониманием, он улыбается от уха до уха, а когда заговаривает, то с восхищением в голосе.
– Дон Херонимо, да вы просто рождены для подобного рода дел!
Девушка по ту сторону двери совершенно неподвижна и не издает ни звука. Ее госпожа, однако же, уже через минуту-другую начинает тяжело дышать и неуклюже ерзать. Ей нехорошо.
Когда во время Пасхи искупанная Фьяметта переходит через ручей Марана по пешеходному мостику возле церкви Греческой школы, предпочитая его испарения той вони, что царит на шумливых набережных между Тибром и Авентином, и прокладывает себе путь меж руинами замка Савелли, направляясь на мессу в церковь Санта-Сабина, она несет с собой маленькую подушечку. Очень уж там хороши фрески со святыми в круглых нишах, а на других фресках невероятно подробно выписаны святые города. Разноцветный мрамор у верхних окон обычно заставляет полюбоваться собою минуту-другую, да и мозаики над дверью и на гробнице Заморы тоже отнимают какое-то время, но важнее всего, конечно же, пол. Пол этот нельзя назвать ни красивым, ни тщательно обработанным, и по воздействию, производимому на ее колени, он ничем не отличался от того, на котором она находится сейчас. Если есть подушечка, Фьяметта способна направить свои мысли на страдания Спасителя, на его боль – или даже пытаться следить за чтением апостольских посланий. А вот без подушечки… Дело в том, что пол церкви Санта-Сабина выложен такими же грубыми, безжалостными плитами, что и ее коридор. Едва ли не через мгновение после того, как Фьяметта заняла позицию на этом жестоком полу, колени у нее начали болеть.
Сначала она стоит на обоих коленях, водрузив ягодицы на пятки и вытягивая шею, чтобы заглядывать в щель. Менее чем через минуту ноги ее сводит судорога. Она слегка меняет позу, переносит вес с одного колена на другое, сперва размеренно, затем все чаще, пока оба ее колена не приходят на этих ненавистных плитах в равно плачевное состояние. В конце концов она просто припадает к полу, так что весь ее вес сосредоточивается на четырех точках, своды стоп растягиваются, а колени выворачиваются при попытке прижаться лицом к двери… Безнадежно. Она слишком жирна, чтобы быть шпионкой. Сдавшись, она усаживается на задницу, подпирая себя руками, – так ничего не увидеть, но можно хотя бы слышать.
А вот девчонка совсем не шевелится, у нее не дергается ни единая мышца. За дверью своим чередом продолжается мужской разговор. Какой-то зверь, находящийся невесть где. Какие-то переговоры, тоже невесть где проходящие. Собеседники явно не доверяют друг другу по-настоящему. Фьяметта вытягивает ноги, лениво улавливая подтекст разговора. Ей все безразлично, она шевелит пальцами ног, пытаясь их размять. А вот девчонка по-прежнему неподвижна. Но потом вдруг происходит какой-то сдвиг, неожиданная перемена, и Фьяметта чуть было не предпринимает попытку вскарабкаться на ноги, уверенная, что мужчины что-то услышали, увидели, почувствовали…
Эусебия по-прежнему не издает ни звука и почти невидима. Посол описывает зверя, или читает какое-то письмо, или еще что-то. Но девчонка совершенно зачарована, ее вниманием пронизан весь воздух, а острие его протыкает дверь. Это вызвано тем, о чем они там говорили. Ее возбуждение физически ощутимо, и как только мужчины его не замечают?
– …питается травой, соломой и вареным рисом. Могу себе представить, как разочарован был губернатор Индий! – произносит Вич.
А ведь она знает, думает Фьяметта, пожирая глазами девчонку, знает, о чем таком они сейчас толкуют. Зверь, губернатор, Индии… Что именно из всего этого так ее наэлектризовало? Мужчины все говорят, свеча горит слабее, или свет ее становится краснее, и теперь щели в двери подобны догорающим углям. Эусебия снова становится неразличимой – силуэт отсутствия. «Что же такое ты знаешь?» – думает Фьяметта. Девчонка, словно в ответ, поднимается на ноги. Голоса за дверью на какое-то время замолкают. А, вот теперь они прощаются.
Фьяметте с огромным трудом удается встать. Вдвоем они торопливо идут обратно по коридору, молча поднимаются по лестнице. Перед дверью в главную залу она поворачивается к своей служанке, щиплет ее за руку и шипит ей в ухо:
– Чтоб это было в последний раз, поняла? В последний! – Она тычет пальцем в направлении прихожей. – Чем это, по-твоему, ты занимаешься?
Фьяметта ждет, чтобы девка понурила голову, выказывая обычное раболепие, и осталась безмолвной. Вместо этого Эусебия смотрит ей прямо в глаза, а когда заговаривает, то совершенно не следит за своим голосом.
– Я думала о той стране, откуда я родом, – говорит она своей госпоже. – Вспоминала огромную реку, которая ее разделяет, и леса, что растут вдоль ее берегов. Вспоминала о тамошней деревне, в которую меня забрал брат моего отца, и видела мальчика, удившего рыбу из озерца неподалеку.
Для женщины, схватившей ее за руку, эти слова ничего не означают. Фьяметту заставляет умолкнуть один лишь звук ее голоса, в котором нет ни сожаления, ни грусти, ни извинительных ноток. Ничего из ожидаемого. Сами того не ведая, двое мужчин заронили в душу ее служанки какую-то искру. Она смотрит в лицо девушки, пытаясь разглядеть, что за ним скрывается, но варварские метки, исполосовавшие щеки Эусебии, подобны маске, а ее пассивность совершенно непроницаема. Снизу доносится звук отодвигаемых стульев. Эусебия поворачивается, и Фьяметта наблюдает за тем, как девушка продолжает подниматься по лестнице. Сама она все стоит на месте и вновь начинает двигаться в сторону спальни лишь тогда, когда слышит, как открывается дверь буфетной, как две пары ног шагают по коридору. Простыня прилипла к ее телу, влажная от пота. Слышно, как отодвигается задвижка, как открывается и закрывается дверь. Со двора доносится громкий стук копыт, он внезапно обрывается, когда лошадь сворачивает за угол, на улицу. Затем – осторожные шаги поднимающегося по лестнице Вича. Он такой заботливый, думает она, притворяясь спящей. Добрый – когда открывается дверь. Теплый – когда он ныряет в постель. Затем – ряд сдержанных, обманных поцелуев в ямочку между шеей и затылком. Фьяметта издает смутное «м-м-м-м-м», словно бы видит его во сне.
– Ин-ди-я-а, – бормочет он с долей насмешки и перегибается, чтобы поцеловать ее грудь. Она перекатывается на спину, распростирается, готовая к его ласкам, призывая их, исполненная желания. – Где король, – он захватывает ее сосок большим и указательным пальцами, – живет в вулкане…
Другая ее грудь лениво шлепается на бок, присоединяясь к первой и частично погребая ее под собой.
– Ara! Аф-ри-ка-а!
Он усердно сосет второй сосок, затем принимается вылизывать основание груди.
– Он ушел? – спрашивает она, зевая и подаваясь к нему.
Вич не отвечает. Его язык смещается все ниже, вкручивается ей в пупок, он слегка ее покусывает, движется дальше. Она в удивлении приподнимает голову, чтобы глянуть вниз, – раньше он никогда такого не делал. Вич осторожно раздвигает ей нижние губы, запускает внутрь язык – на разведку. Он импровизирует, так не похожий на того, каким был всего несколько месяцев назад. Она роняет голову на подушку. Его вес смещается к изножью постели. Полная предвкушений, она глубоко вздыхает, и ее рука, что ерошит ему волосы, сжимается. Она чувствует дыхание Вича на всем своем женском естестве, его голова зависает в распадке между ее бедер.
– Ри-им, – чуть слышно произносит он, когда она толкает его голову вниз.
Нынешняя ночь в Ри-име выдалась влажной. Вода смешивается с воздухом (или наоборот); и внутри домов, и вовне они вступают в неразборчивые связи в ложбинах и колдобинах, из которых складываются очертания города. В напоенных влагой складках Велабрума и в мокрых изгибах Субурры густые испарения и водяная взвесь порождают брызги, локальные ливни, недолговечные, но крутые дождевые шквалы. В город громоздко вплывают густые, насыщенные пылью туманы. Ри-им роняет слезы, исходит потом, выделяет секреции и распускает слюни. Губы то сжимаются, то раскрываются, языки то высовываются, то прячутся. Caput Mundi [38]38
Голова мира (лат.), аллегорическое наименование Рима.
[Закрыть]превращается в голову гидры и сходит с ума от жажды, эти взаимообмены между ртами обозначают краткосрочные союзы, пересечения, сделки в коммерции, которую город ведет с самим собой, новую и текучую топографию. Его существа ищут друг друга в пропитанных влагою спальнях и на пропахших плесенью чердаках, в дверных проемах и у стен неосвещенных переулков; они трутся друг о друга, находят друг друга на ощупь… Рты наполняются слюной, глотки давятся желудочным соком, они ополаскиваются этими жидкостями, проглатывают их, задыхаются и похрюкивают… Вич на piano nobile [39]39
Бельэтаже (ит.).
[Закрыть], запутавшийся в измазанных его семенем и пропитанных пóтом обеих простынях, стал голодной рыбой, которая насыщается отмокшей в воде гнилью своей любовницы. Укрывшись под причалом в Трастевере, некий корсиканский бандит долбит и долбит распухшие миндалины своей милашки. Где-то еще капитан баржи облизывает пухлые щечки своей «римской сердцеедки» (так он ее называет) точно так же, как он делал это с венецианской, генуэзской и неаполитанской «сердцеедками». Жена престарелого банкира покусывает гладкую верхнюю губу своего пажа, какая-то шлюха задирает тем временем юбку. Посреди побрякивающих уздечек и мундштуков седельщик прижимает свой смеющийся рот к смеющемуся рту дочери своего компаньона. Чахоточный сапожник заходится кашлем в разгар поцелуя и отхаркивает изрядную порцию серой мокроты в горло своей горячо любимой супруги. Это частность: они любят друг друга и сидят без денег. И совершенно неважно, что шлюхе ничего не заплатят, равно как и пажу; что три собаки на рыбном рынке, ублажающие самих себя фелляцией, вдохновляют помощника пекаря, который позже попытается сделать то же самое в Понте и обнаружит, что не может дотянуться. «Ну же, гнись», – командует он сам себе… А на расстоянии какого-нибудь броска камня, на верхнем этаже Альберго дель Орсо, у выходящего на восток окна неподвижно стоит бывший чиновник курии: с бронзовым телом, он, мускулистый и обнаженный, словно античный бог, вглядывается в плавающую перед глазами тьму, в то время как трое малолетних фаворитов вылизывают его снизу доверху, дожидаясь восхода солнца и семяизвержения. До рассвета еще часы и часы.
А как насчет милых сухих поцелуйчиков? Такие любящий дедушка запечатлевает на гладком белом лобике внучки, или плачущая мать – на щеках уезжающего сына, или Виттория Колонна – на своем распятии из твердого сухого дерева, где вырезан миниатюрный Христос, причем шипы тернового венца исполнены так отменно, что она иной раз в кровь расцарапывает себе губы, как же эта кровь солона и кисла, м-м-м-м-м, а ее отец тем временем откусывает головы крысам (это неправда, и это единственное ее прегрешение за день) и завывает в пыльной галерее, где его слуги в конце концов оставили его, и он там один, за исключением мальчишек-барабанщиков из Равенны, чья дробь пульсирует у него в черепе, и он топает как безумец по разбитым половицам… Следует ли продолжать? Кардинал Ceppa забрался в трущобы и возлежит на плоском, как блин, тюфяке вместе с немытой портовой девкой, которая или покрывает поцелуями его «рану», или сосет его «копье», или мажет ему лицо своими кислыми соками, или занимается чем-нибудь столь же банальным, в то время как внизу (эти события никак не связаны между собой) Асканио и его «подружка» вливают в глотки друг другу вино: из чашки, из кувшина, изо рта, из… А ближе к верховью реки, в малярийной сырости Борго, в кромешной сырости задней комнаты «Посоха паломника», лежа вместе на соломенном матрасе, купленном днем на площади Святого Петра, целуются Вольф и Вульф.
До этого, по пути из церкви, Вульф плакал, но теперь как-то повеселел и украдкой мастурбирует под рясой, надеясь, что Вольф не заметит. С одной стороны от него лежит Бернардо, чьи массивные очертания закрывают собой гораздо более худощавую фигуру Сальвестро, который время от времени легонько постанывает. С другой стороны лежит отец Йорг. В ночной тишине слабое позвякивание овечьих колокольчиков кажется очень громким, дзинь-дзинь-дзинь…это стадо перегоняют на пастбища Пинчо, дзинь-дзинь-дзинь,по переулкам Борго, через мост Святого Ангела, и тупые, неспособные ориентироваться овцы натыкаются одна на другую, беспорядочно продвигаясь вдоль виа Лата, причем перезвон их колокольчиков то громче, то слабее, – такой знакомый звук для неутомимых римских любовников, для всех, кто привык целоваться-миловаться ночь напролет, для жен, чьи мужья исходят во сне храпом или скрежещут зубами, для самых ранних из жаворонков и для самых стойких из сов, для всех, кто страдает бессонницей. Звук знакомый – узнаваемый, но не удостаиваемый внимания – и для дона Диего, который целует эфес своей сабли. Лежа на койке и глядя в бессонную тьму, он видит очертания врагов: огромную галерею клеветников, слащавых лжецов, двуличных чиновников, гладколицых симпатяг, норовящих вонзить тебе в спину кинжал… Дзинь-дзинь-дзинь…Вот и ушли.
«Если я для них чудовище, – думает он, воздевая саблю над первой из склоненных голов, – то почему бы мне всех их не поубивать?»
Лезвие подрагивает, и Диего воображает, как оно раздробило бы череп. Или раскромсало мягкую плоть лица. Да, но чьего? Разыгрывайся эта сцена наяву, кто стал бы первым? Кончик лезвия поглаживает двойной подбородок Рамона де Кардоны, и, медленно и послушно (чтобы Диего мог по-настоящему этим насладиться – ритуал был отшлифован благодаря множественным повторам), толстолицый вице-король Неаполя обращает взгляд на своего обидчика. Момент узнавания. Ужас. Превосходно, думает дон Диего.
«Простите меня, дон Диего!»
« ПолковникДиего».
«Полковник Диего, простите меня за ту трусость под Равенной, когда я…»
Но дон Диего, оказавшись лицом к лицу с бывшим своим командиром, не в силах сдерживаться при звуке его голоса, даже воображаемом. Он делает выпад, и кончик сабли погружается в горло вице-короля, мгновенно обрывая его признание. Вдоль фаски сабли сбегает кровь. Вице-король издает булькающий звук и задыхается. Диего, лежа на своей койке, вздыхает. Терпение, говорит он себе. Попробуй снова. Он глядит в кишащую видениями тьму, и опять Рамон де Кардона подается вперед, обращая к нему свое жирное лицо.
«Простите меня, полковник Диего. Я трус. Я бросил своих людей под Равенной. Я предал вас под Прато, а потом…»
Диего знаком велит ему молчать и отрубает правую кисть. Вице-король взвывает, а затем находит в себе силы продолжить:
«Вместе с кардиналом Джованни Медичи, нашим нынешним Папой, я сплел заговор, чтобы возложить позор Прато на вас, хотя на самом деле повинны мы. Вас запятнала наша грязь, – тут Кардона обгаживается: дону Диего он теперь представляется голым, – моя и кардинала».
«Как? – настаивает Диего. – Как вы это сделали?»
Но Кардона только запинается и рыдает. Настоящий Кардона мог бы ответить, думает дон Диего, воображая его в разных ситуациях. Он начинает уставать от присутствия Кардоны на этих ночных представлениях и нетерпеливо требует к себе следующего свидетеля. Другое толстяк торопится занять место трупа. «Простите меня, полковник Диего, – начинает кардинал Джованни ди Медичи, глаза у которого выкачены от ужаса. – Я – подонок, я – предатель, я – лжец, я…»
«Как? Как вы это сделали?» – рявкает Диего. Медичи что-то невнятно бормочет. Ответа нет, одни омерзительные рыдания. Диего вонзает саблю ему в живот, затем резко отмахивает ею в сторону. «Скажи хотя бы зачем?» – орет он. Прелат в изумлении смотрит, как внутренности вываливаются у него из живота. Он пытается собрать их и впихнуть обратно. Диего перерезает ему горло. Какая скука. Кто там следующий?
Перед его мысленным взором предстает водоворот разодетых в пух и прах придворных льстецов. Они, болтая, проносятся мимо, и Диего вглядывается в их лица. Все они взаимозаменяемы, каждый – точное подобие другого. «Вот почему я его упустил», – думает Диего. Но тот, кого он ищет, вскоре появляется в поле его зрения, там, на самом краю этого блеющего стада, и вон там, в самом его центре, а затем в его хвосте, плавно передвигаясь среди остальных. «Эй ты! – приказывает он. – Подойди».
К нему выдвигается самоуверенный тип лет этак под сорок. Одет он как придворный, во французские шелка, рукава с прорезями, шляпа украшена страусовым пером. На боку, однако, тяжелая стальная шпага, а не бесполезная хрупкая рапира из тех, что предпочитают при дворе, да и в слегка самодовольной походке смутно угадывается что-то военное. Лицо его ничего не выдает, решительно ничего, и дон Диего помнит его именно таким, потому что когда тот впервые возник у него перед глазами, то он только это и увидел: лицо, просунувшееся внутрь палатки.
Это было вечером, когда они собрались в шатре Кардоны: он сам, вице-король и пять-шесть других командиров. Спор шел о поставках продовольствия – так же, как вечером накануне, так же, как и позавчерашним вечером. Они были на марше к Прато.
В армии, покинувшей Болонью двумя неделями раньше, насчитывалось почти десять тысяч бойцов. За неделю они израсходовали почти все припасы, а сундуки с болонскими дукатами находились теперь у поставщиков, которые раньше следовали за обозом, распродавая свое червивое мясо и прогорклый бекон, – теперь их след давно простыл. Лагерь разбили у верховий Савены. Накануне ночью небольшая деревушка была разграблена подчистую, прямо в присутствии сержантов, которые то ли были бессильны удержать своих людей, то ли даже поощряли их к этому. На следующий день произошло первое нападение на обоз, и, прежде чем разбить лагерь, пришлось повесить троих зачинщиков. Вплоть до Барберино ничего более не предвиделось, и даже там им, возможно, предстояло сражаться, прежде чем наполнить свои желудки. И все эти вопросы не были еще решены.
Неожиданно возле палатки послышался перестук копыт, донеслись крики. Все вскочили на ноги, хотя сигнала тревоги не прозвучало. Оказалось, это прибыл Медичи примерно с дюжиной всадников. В палатку вошел он один, и разговор возобновился. Медичи по большей части молчал, пока не заговорили о Прато, где правил старый кондотьер по имени Альдо Тедальди, который, по словам Кардоны, мог либо оказать им сопротивление, либо нет.
«Тедальди? Тедальди заставит нас ввязываться в осаду? – отрывисто заговорил Медичи. – Да мы с Альдо разве что не выросли вместе. Нет-нет-нет…»
Никто не стал ему возражать. Медичи, казалось, был вполне безмятежен и готов предоставить им самим разобраться с ситуацией. Он выпил кубок-другой вина, внимательно всех выслушивал. Некоторое время спустя между отворотов палатки просунулось чье-то лицо. Медичи обернулся, кивнул незнакомцу и пожелал всем доброй ночи. Вскоре после этого ушел и Диего. До его собственной палатки было недалеко, и он прошествовал туда в сопровождении дона Луиса и дона Алонсо, двоих самых доверенных своих воинов. Снаружи, повсюду вокруг, темнота полнилась движением. Все оборачивались при их приближении, а потом неотрывно смотрели им вслед. В ночи люди не были бомбардирами и копейщиками, аркебузирами и арбалетчиками, капитанами и сержантами, ротами и батальонами, испанцами и немцами, avventurerosи lanze spezzate [40]40
Авантюристами и наемниками (ит.).
[Закрыть]. А были они повалившимися на бок животными, голодными сгустками темноты. Ночью лагерь принадлежал им.
«Это был ты, это ты тогда просунул голову в палатку», – говорит теперь Диего.
«Да, это так».
Он видел его затем ежедневно, но ни разу по-настоящему не взял на заметку. Казалось, этот человек свободно и безо всякого страха передвигается между различными «вольными отрядами», составленными из настоящего сброда, разнузданных головорезов и бродяг, примкнувших к регулярной армии в Болонье. Войско продвигалось через долину Мугелло, подгоняемое, словно скот, сержантами и капитанами. Когда впереди виднелся дым, обозначавший деревеньку, шаг ускорялся. Лошадей, тащивших телеги и пушки, стегали кнутами, те неохотно переходили на рысь, и в конце концов вся армия нападала на горстку жалких лачуг. Селяне покидали их задолго до этого, забирая с собою все, что могли унести, и гоня перед собою свою живность. Они поднимались в холмы, пережидая нашествие. Иногда их можно было увидеть на возвышающихся над долиной утесах. Крохотные, как мухи, они следили за тем, как далеко внизу тащится по долине бесформенная, разорванная на клочья туша армии. Людей косили разного рода лихорадки и дизентерия. Каждое утро приходилось оставлять очередную группу наиболее больных, которые тщетно вопили, умоляя своих товарищей не бросать их. Иной раз крестьяне спускались, чтобы перерезать им глотки, даже не дождавшись, пока скроется из виду хвост армии.
Диего организовывал фуражные команды и передовые дозоры, высылал вперед разведчиков. Сам же Медичи, казалось, был совершенно спокоен, наблюдая, как войска, которые должны были прогнать подесту и вернуть его самого во Флоренцию, превращаются в изголодавшуюся толпу. Ночи оглашались пронзительными воплями и криками, когда подозреваемые в воровстве забивались до смерти своими же товарищами. Патрулируя с тяжеловооруженными всадниками колонну телег и пушек, Диего замечал в лицах людей совершенную пустоту. Их глаза норовили уставиться куда-нибудь вдаль, на обнаженные скальные породы, и не различали тех, кто находился на расстоянии вытянутой руки. Нападения на обоз выливались в отчаянные стычки, грабители почти не замечали своих собственных ранений. Вперед их влекла одна только Флоренция; La Crasa Puta, как они ее называли. Вот ее-то они распотрошат и насытятся ею, что твои волки. Прато был не более чем названием.
Армия ползла все дальше по долине Мугелло, и простые солдаты все более отдалялись от спинного хребта телег и пушек, заполняя собой расширяющуюся долину. Они двигались, точно скот, бредя вперед без цели и смысла. Диего, скакавший высоко по правому склону, глядел на орду, растянувшуюся внизу. Он видел разбитую армию. А внутри ее – армию убийц. Сержант, состоявший при Медичи, перемещался туда и сюда, оставаясь целым и невредимым.
«Прежде чем мы подошли к Прато, кардинал Медичи встречался с посланником из Флоренции, так?» – спрашивает он теперь у фатоватого сержанта. Он думает о том, что неплохо было бы снова протащить Медичи за уши и пощекотать у него между ног острием кинжала, но сойдет и сержант. «Я бы тебя раскусил, если бы мы оказать наедине», – добавляет он, прежде чем тот успевает ответить.
«Не сомневаюсь. Да, они встречались, но это все, что я могу сказать».
Во тьме своей спальни Диего воображает, что сержант стоит перед ним, уставившись в землю и неловко переминаясь с ноги на ногу, приведенный в замешательство его допросом. Но чтобы тот просил его выслушать? Изворачивался? Умолял сохранить ему жизнь? Этого вообразить он не в состоянии. «Я знаю, что не ты стоял во главе всего этого дела, – говорит ему Диего. – Но ты помогал его проворачивать. Не будь тебя или кого-нибудь наподобие, я не угодил бы в ловушку…»
Он замолкает, а тот начинает над ним смеяться.
«Угодил в ловушку? Ты что, не понимаешь, что ты сам все и устраивал? Без тебя ничего бы не получилось. Без тебя, капитан Диего».
«Полковник», – ворчливо поправляет его Диего. Это правда, правда, думает он, но только как же так вышло? Он пронзает сержанта своей саблей, которая исчезает в груди у того без всякого видимого эффекта и, вынутая обратно, не имеет на себе следов крови.
Но если пошарить, ключи бы нашлись: ведь это Медичи, поскакавший вперед, на переговоры с Тедальди и «защитниками» Прато, вернулся со сказочкой, что его остановили в миле или двух от города. «Причин для беспокойства, однако же, нет, – сказал он беспечно. – Они пойдут на переговоры – когда подоспеет время». Армия стояла тогда в трех дневных переходах от Прато. Кардона ответил почтительным кивком. Они общались с намеренной поспешностью.
С отрепетированной поспешностью, думает Диего в ночной тишине посольства. Разодетый в шелка сержант исчез точно так же, как исчез в действительности где-то на марше. Кажется, он не появлялся вплоть до самого Прато, где снова стал обнаруживаться повсюду, слоняясь среди самых разнузданных вояк, одновременно бесцельно и целенаправленно, с неопределенными полномочиями…Они называли его Руфо. Сержант Руфо; настоящее ли это имя? Диего не знал, чем именно этот сержант занимался, равно как и Медичи, – не знал в точности. Равно как и Кардона. Прато сдался, однако же был разграблен. И Тедальди умер. И вся его семья была убита.
Не мною, думает Диего. А в то время все казалось совсем не так. Его опала была тщательно подготовлена. Армия стояла лагерем на пышных лугах возле города, а сам город покоился на мягкой почве у реки, которая, хотя и заливала пойменную землю немного выше по течению от городских стен, никогда не грозила наводнением, и все было объято мягким теплом последних августовских дней. Они чесали шерсть – жители Прато, – благодаря чему город и разросся. Мягкость, теплота… Он пытается дотянуться до чего-то, скрывавшегося в разъединенности армии и города и обусловившего неописуемый ужас того, чему предстояло произойти на следующий день. Он, должно быть, был давно уже помечен, но совершенно не подозревал о своей судьбе – так же, как и горожане.








