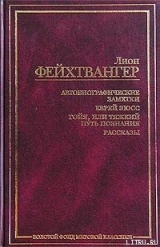
Текст книги "Еврей Зюсс"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 35 страниц)
Книга пятая
ЗЮСС
Там, где сходятся восток с западом, лежит малой крупицей земля Ханаанская. И полуденная страна, древний Мицраим, языком вонзается в сочленение. Там, где пути востока встречаются с путями запада, лежит город Иерусалим, твердыня Сион. И, воссылая хвалу Богу Израиля, единому предвечному Иегове, на восходе солнца и на закате солнца стоят евреи, сомкнув ноги, и смотрят в сторону города Иерусалима, в сторону твердыни Сиона, те, что на западе, смотрят на восток, те, что на востоке, смотрят на запад, и все в один час и все в сторону города Иерусалима.
От стран заката стремится к земле Ханаанской неукротимая извечная волна: алкание жизни, самоутверждения, воля к созиданию, к радости, к власти. Урвать, удержать – знание, радость, богатство, побольше радости, побольше богатства, жить, бороться, созидать. Вот что звучит с запада. Но на юге, под остроконечными пирамидами, в золоте и бальзаме покоятся мертвые цари, горделиво оберегая плоть свою от разрушения; их изваяния, выстроившиеся в пустыне гигантскими аллеями, бросают вызов смерти. И неукротимая, извечная волна стремится к земле Ханаанской: раскаленное, как пустыня, упорство в бытии, жгучая жажда уцелеть, не утратить образа и строения, не утратить телесной оболочки. Но с востока звучит кроткий голос мудрости: спать лучше, нежели бодрствовать, мертвыми быть лучше, нежели живыми. Не бороться, не созидать, влиться в небытие, в нирвану. И благая извечная волна катится с востока к Ханаанской земле.
От века до века набегают на маленькую страну три волны, сливаясь воедино: светлая кипучая волна воли к жизни и созиданию, жаркая, раскаленная волна горделивого вызова смерти, благая темная волна, зовущая к небытию, к нирване. Тихо, настороженно лежит земля Ханаанская, малая крупица, принимая и соединяя потоки трех волн.
А в малой, как крупица, стране, жил народ Израиля с ясным взглядом, с чутким слухом. Присматривался к востоку, прислушивался к западу, поглядывал на юг. Народ такой маленький, а живет между колоссов: Ассиро-Вавилонии, Мицраима, Римской Сирии. Зорко приходится ему следить, чтобы не быть раздавленным или не раствориться в гигантах. Но он не хочет растворяться, он хочет существовать, потому что он храбрый, мудрый, маленький народ, он не позволит раздавить себя. А три волны набегают все вновь, извечные, неизменные. Однако маленький народ противостоит им. Он не глуп, он не сражается с несоизмеримым; он пригибается, если какая-нибудь волна встает слишком высоко и захлестывает его с головой. Но затем он выплывает вновь, отряхивается и живет как ни в чем не бывало. Он стоек, но не бессмысленно упрям. Он отдается всем волнам, но до конца – ни одной из них. Берет от трех потоков все, что ему годится, и приспособляет на свой лад.
Ввиду постоянной опасности маленький народ старается не упускать ни одного движения соседей-гигантов, непрестанно потихоньку нащупывает, примечает, созерцает, познает. Созерцание, расчленение, познавание мира становится его сущностью. В нем вырастает великое пристрастие к средству такого познавания, к слову. Священными законами карает он неграмотного, знание письменности становится Божьей заповедью. Он запечатлевает все, что несут ему три волны. Выражает собственными, ему присущими, словами ясное, полнозвучное учение о созидании, и второе, томительно-жгучее, о воле к бессмертию, и третье, умиротворяющее, сокровенное о блаженстве бездействия и безволия. И маленький народ пишет те две книги, что больше всяких других изменили облик мира, великую книгу созидания – Ветхий Завет и великую книгу отречения – Новый Завет. А воля к бессмертию звучит основным тоном его жизни и слова.
Сыны маленького народа разбрелись по миру и живут учением Запада. Творят, добиваются, стяжают. Но, несмотря на все, им чуждо созидание, их место на полпути между созиданием и отречением. И неизменно обращают они взоры назад к Сиону. И часто, в упоении победы, в унижении неудачи, посреди стремительного порыва, они останавливаются, содрогаясь, и сквозь тысячи звуков различают тихий, затаенный голос: не желать, не созидать, отречься от своего «я».
И многие из них проходят весь путь до конца: от буйства созидания ради власти, радости, богатства, через бунт против смерти, к блаженному разрешению от пут, к внутренней свободе, к нирване безволия и отречения.
Сквозь ночь, тучи, бурю мчались курьеры в Штутгарт. К членам парламента, к Ремхингену, к герцогине. Они обогнали карету с делегацией, ездившей к герцогу. И, опередив делегатов, проникла в городские ворота весть о смерти Карла-Александра, робко затеплилась над темным, притихшим городом, наполненным шепотом и тревогой. На улицы, к соседям поспешили бюргеры. Неужто правда? Кара Божья, явный перст Господень. Чересчур поразительно и неправдоподобно столь неожиданное избавление. Но правда ли это? Не ловушка ли? Пугливые огоньки зажглись в окнах. Громче стал шепот, послышались первые приглушенные возгласы радости. Вдруг, все вновь омрачая, возник слух – это был только припадок, герцог очнулся. И, сразу притихнув, поплелись домой обыватели, стали гасить огни. Наконец-то, наконец явилась уверенность, с балкона ратуши возвещена не оставляющая сомнений весть: герцог скончался. Вот когда разразилось давно сдерживаемое ликование. Объятия, благодарственные молитвы. Радость на всех лицах, как после спасения от гибели. Повсюду праздничные огни. Свинорылый булочник Бенц с помощью приятелей из «Синего козла» намалевал транспарант, на котором черт нес человека над церковью с двумя башнями. Внизу булочник огромными буквами подписал стишок: «Кто продал родину, как ренегат, того уносят черти в ад». Дрожащими от радости, потными руками поставил он транспарант на освещенное окошко и торжествовал, когда прохожие останавливались перед ним, а потом разносили стишок по городу. Вскоре всюду пошли толки, что герцога унес черт. Сказывали вам, какое почерневшее, искаженное лицо у трупа? Когтями задушил Вельзевул еретика-государя.
В ребяческой растерянности сидела Мария-Августа у себя в будуаре. Подле нее – гофканцлер Шефер, генерал Ремхинген и духовник ее, капуцинский патер Флориан. Она сидела в восхитительном неглиже, нынче утром привезенном из Парижа специальным курьером, и невольно жалела, что неглиже не прибыло на день раньше, а то бы она надела его в прощальную ночь, и Карл-Александр успел бы им полюбоваться. А теперь он – отвратительный покойник, и больше никогда не будет любоваться ни неглиже, ни женщинами. Она засчитывала себе в добрые дела свою благосклонность к Карлу-Александру, хотя бы в эту последнюю ночь. Снизу доносился гул народного ликования по поводу смерти герцога.
Громоздкий Ремхинген, при всем страхе и смятении, по привычке, почти машинально пожирал глазами голые плечи Марии-Августы и в бессильной ярости рычал: крушить! разить! Ни на что не глядя, привести в исполнение проект. Военная сила под рукой. Он всегда стоял за военную силу. Допустим, несколько полков взбунтуется. Он прикажет расстрелять их. Недаром он присягал герцогине. Семирамида, Елизавета, Екатерина. Разить! Крушить!
Боязливо возражал хлипкий гофканцлер. Теперь только, ради Бога, без кровопролития. С переворотом благополучно покончено. Надо действовать осторожно и легально. Строго легально. Завещание дает повод к благоприятным толкованиям. Такие же доводы привел и патер Флориан, только тверже и увереннее. Резвое воображение капуцина плело фантастическую паутину. Он, мудрый политик, занимает самый, пожалуй, важный в государстве и многообещающий пост духовника герцогини-регентши. Произнося рассудительные, умиротворяющие слова, он уже представлялся себе германским Ришелье или Мазари-ни. Но Мария-Августа хоть и склоняла с внимательным видом ящеричью головку и сосредоточенно хмурила пастельно-нежное личико, однако была рассеянна; она думала о Карле-Александре, о новом неглиже, о том, что надо заказать вдовье покрывало – его можно приладить очень изящно и авантажно, даже уродливой герцогине Ангулем-ской оно было к лицу – и в ответ на строго деловые предложения своих советников она неожиданно произнесла тоненьким, озабоченным голоском: «Que faire, messieurs? Que faire?»[24]24
Что делать, господа? Что делать? (фр.)
[Закрыть]
Малый совет парламента собрался в ту же ночь; остальные депутаты тоже пожелали присутствовать на заседании. Что за чванливое торжество, что за бахвальство собственным могуществом! Господа парламентарии делали вид, будто смерть герцога – их личная заслуга, будто они предусмотрительно и дипломатично подготовили это простейшее разрешение кризиса. Член совета Нейфер был искренне убежден, что честь чудесного спасения принадлежит ему. Произвольно освещая и видоизменяя факты и слухи, он с помощью своего мрачного воображения сочинил целый приключенческий роман, в котором сам, как паук, сидел посередине и плел нити сложной интриги. Разве не он настойчивыми речами так сумел убедить своего двоюродного брата, камердинера Нейфера, в пагубности деспотизма, что тот хоть и не открыто, а все же примкнул к поборникам конституции? Доверенный слуга, разумеется, умышленно увеличил дозу возбуждающего снадобья, что, принимая во внимание распущенный образ жизни и апоплексическое телосложение герцога, неминуемо должно было привести к удару. Нейфер успел расспросить медиков; все они в один голос подтвердили, что при такой совокупности условий печальный исход был неизбежен, тем паче если под рукой не оказалось необходимых лечебных средств. А их под рукой не оказалось – в силу ли случая или же – как знать? – чьего-то мудрого попечения? Карл-Александр умер в полном одиночестве. Даже духовник не подоспел вовремя, чтобы препроводить его еретическую душу в еретический рай; в коридорах не было ни одного лакея, весь штат – по моему разумению, тоже неспроста – отправился в другое дворцовое крыло смотреть на танцы. Словно одинокий пес, издох тиран. Вот какую абракадабру, несостоятельную для всякого осведомленного человека, хотя бы потому, что чернокожий, а не Нейфер готовил снадобье, законовед Нейфер с мрачной, дьявольски злорадной усмешкой нашептал своим собратьям по парламенту. Смерть герцога в самую критическую минуту была такой невероятной удачей, что многим нелепый рассказ ожесточенного фанатика показался правдоподобным, и слушатели, при всем своем восхищении, уже спешили отстраниться на всякий случай, так что штутгартский Брут одиноко красовался в ореоле мрачного величия.
Остальные петушились, строя обширные планы. Чувство радости уже заслонилось настойчивой жаждой наживы, власти и мщения. Ага! Наконец-то наша взяла! Ага! Наконец-то можно рассчитаться с жидом, с еретиками, со всеми, перед кем приходилось лебезить. Ясно, что герцог Рудольф Нейенштадтский должен стать главным опекуном малолетнего наследника престола, что бы там ни стояло в завещании Карла-Александра. На него положиться можно. Он добрый протестант и с ними заодно. Завтра же утром оповестить его. А пока что нынче ночью запляшут у них все еретики, предатели родины, жидовские приспешники! К военным подступиться было боязно; но все штатские из зюссовской партии, находившиеся в Штутгарте, а не в Людвигсбурге, были захвачены в ту же ночь. Повторилось то, что происходило с клевретами Гревениц после смерти Эбергарда-Людвига. Полицейские и судебные приставы ходили по домам, арестовывали и под насмешливые, радостные возгласы глазеющей толпы тащили на гауптвахту низвергнутых вельмож, а те, злобно потупясь, изрыгали ругательства и проклятия, усовещивали свысока и плакались на свою судьбу. В тюрьму Бюлеров, Мецев, Гальваксов, в тюрьму Лампрехтсов, Кнабов и даже самого гофканцлера Шефера.
Со скрежетом зубовным смотрел на происходящее Ремхинген. Безоговорочным приказом герцогини ему было воспрещено вмешательство. Но пускай только они посмеют коснуться военных! Пускай только притронутся своими вонючими плебейскими лапами хоть к одному из его офицеров! Тогда уж ему удержу не будет, он все сокрушит! Но уполномоченные ландтага тщательно обходили военных.
Об одном лишь человеке, странным образом, в Штутгарте либо вовсе не говорили, либо говорили шепотом, вскользь, не называя имени. И все же он один был подоплекой всех помыслов, тайным упованием герцогини и военщины, тайным страхом парламента и бюргеров. Что делает Зюсс? Что он затевает? Будет он нападать? Или попробует защищаться, скользкий, как угорь, дьявольский ловкач? Он находился в Людвигсбурге, от него не было ни звука, ни весточки, ничего. Забрезжила первая заря теплого, дождливого мартовского утра. Все были до смерти утомлены и разбиты треволнениями беспокойной ночи и легли отдохнуть. А от еврея все не было известий. Что за коварство, неуважение и низость! В первый сон злобствующих приближенных герцогини, и торжествующих парламентариев, и арестованных сановников прокрадывался глухой страх и упование: что делает Зюсс?
А в Людвигсбурге доктор Венделин Брейер диктовал протокол вскрытия. Совместно с коллегами Георгом Буркхардом Зеегером и Людвигом Фридрихом Бильфингером он произвел вскрытие тела. У всех трех лейб-медиков, когда они резали труп, мелькала одна и та же мысль: «Ну что! Лежишь теперь смирнехонько, не даешь пинков, не швыряешь склянками в голову». Но на физиономиях у них выражалась важность и торжественная скорбь, как то подобает людям науки. И вот доктор Венделин Брейер принялся глухим своим голосом, размашисто и неловко жестикулируя, диктовать обстоятельный и добросовестный iudicium medicochirurgicum[25]25
Медико-хирургическое заключение (лат.).
[Закрыть], заключение медицинской коллегии: «Из настоящего viso reperto[26]26
Осмотра обнаружено (лат.).
[Закрыть], – диктовал он, – и с достоверностью явствует, что кончина его княжеской светлости приключилась не вследствие апоплексии, а также воспаления или гангрены, ниже́ вследствие кровоизлияния или polipo etc.[27]27
Полипа и т.д. (лат.).
[Закрыть], а вследствие астматического припадка, причинившего удушение кровью. К сему нежданному исходу, без сомнения, поводом послужили, с одной стороны, прежде неоднократно пресекаемый, но под конец с чрезвычайной силой разразившийся spasmus diaphragmatis etc.[28]28
Спазм диафрагмы (лат.).
[Закрыть], а также сильно увеличенный, нажимавший на диафрагму, раздутый ветрами желудок, с другой же стороны, ad stagnationem sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitatem connatam[29]29
Вследствие врожденной атонии и слабости к застою крови (лат.).
[Закрыть] (тем паче что многократный прискорбный опыт наглядно показывает, сколь многие светлейшие государи Вюртембергского дома умирают от грудных болезней) предрасположенные pulmones»[30]30
Легкие (лат.).
[Закрыть].
Между тем в Штутгарте, на другой день после смерти Карла-Александра, было вскрыто его завещание. В первоначальной редакции завещания опекунами назначались герцогиня совместно с герцогом Карлом-Рудольфом Нейенштадтским. В приписанном позднее, под давлением тайных советников Фихтеля и Рааба, дополнительном пункте архиепископ Вюрцбургский объявлялся соопекуном, во втором добавлении, которое Карл-Александр внес незадолго до смерти, князь-епископ облекался особыми полномочиями. Тотчас же в тихий Нейенштадт выехала депутация совета одиннадцати всеподданнейше просить герцога Карла-Рудольфа о немедленном принятии на себя регентства. Карл-Рудольф был прижимистый престарелый господин. Он прошел курс наук в Тюбингене, смолоду изрядно пожил, побывал в Швейцарии, во Франции, в Англии, в Нидерландах. Затем поступил на службу к Венецианской республике, воевал в Морее, блестяще отличился при осаде Негропонта. Добровольцем сражался в Ирландии, в войне за испанское наследство командовал двенадцатью тысячами датских наемников, кровавая победа при Рамильи решена была им, принц Евгений и Мальборо высоко ценили его, имя его блистало наряду с именами первых полководцев Европы. Но, получив по смерти брата вюртембергско-нейенштадтские коронные владения, он, пятидесяти лет от роду, неожиданно сложил с себя все военные звания, удалился в городок Нейенштадт и жил там по-крестьянски, как строгий и справедливый отец своего маленького народа.
С Карлом-Александром он не поддерживал отношений. Блистательный государь со своим пышным двором и наглым плутом-евреем был ему очень не по душе. Он был строгий, скуповатый старик, теперь уже ему перевалило за семьдесят. Он любил свой тихий, цветущий городок; когда речь заходила о Марии-Августе, еретичке, ветреной любительнице мишуры и комедиантов, он сердито и брезгливо кривил жесткий рот. Он был невелик ростом, сухощав, немного кособок, по-военному лаконичен, в одежде и содержании двора соблюдал порядок, точный расчет, экономию. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет! Невзирая на возраст, он был усердным тружеником.
Молча выслушал он штутгартских господ, дал им досказать до конца и снова повторить их обстоятельную речь, а сам все молчал. Он был очень стар, он охотно прожил бы остаток дней в своем цветущем городке заправским крестьянином, надзирал бы за своими полями и виноградниками и следил, хорошо ли его немногочисленные подданные обращаются с ребятами и скотиной. А тут Господь Бог налагает на него, старика, тяжкий труд очистить от скверны погрязшую в нечестии страну, на пороге смерти препираться с императором и имперским правительством, пресекать козни жирного, хитрого вюрцбургского иезуита. Но так повелел Бог; а он, как солдат, знал субординацию, соблюдал дисциплину, он подчинился. Он сказал штутгартцам, что берет на себя бразды правления, но при условии, что он один будет опекуном, без герцогини – католички, регенсбуржанки – и, уж конечно, без иезуита-вюрцбуржца. Он пообещал завтра же прибыть в столицу.
Довольные возвратились домой штутгартцы. Вот какой человек им нужен! Он-то уж справится и с Ремхингеном, и с евреем, о котором, как ни странно, все еще не было ни слуху ни духу.
Ремхинген разбушевался. Он с давних пор ненавидел тощего нейенштадтца, не раз потешался над скрягой и скопидомом. Теперь же, опираясь на дополнительный пункт завещания о полномочиях князя-епископа Вюрцбургского и на преданные ему войска, он отказался присягать герцогу-регенту и повиноваться его приказам и потребовал от своих подчиненных, чтобы они последовали этому примеру, заставил их присягнуть завещанию Карла-Александра, без ведома и согласия герцога-регента усилил штутгартский гарнизон, отдал распоряжение комендантам крепостей и начальникам гарнизонов по всей стране слушаться лишь тех приказов, которые исходят непосредственно от него или от герцогини. Чтобы восстановить военных против Карла-Рудольфа, он пустил слух, будто новый правитель, совместно с парламентом, намерен сократить армию, а потому предстоят многочисленные увольнения.
Так обстояли дела, когда Карл-Рудольф тихо и незаметно въехал в Штутгарт, поселился в боковом крыле дворца и собрался нанести визит вдовствующей герцогине, но та его не приняла. Он нимало не огорчился и на другое утро, невзирая на свои семьдесят лет, как обычно в шесть часов сидел уже за работой. Прежде всего он принялся беспощадно очищать столицу – все неблагонадежные чиновники были уволены, их бумаги опечатаны, многие из них арестованы. Большинство главарей католической партии успело бежать.
В народе повсеместно вслух поносили покойного герцога, который не был еще погребен, и вдовствующую герцогиню, которая, бессильно злобствуя и капризничая, заперлась у себя в апартаментах. Герцог-регент издал строгие приказы, воспрещающие подобные неприличные выпады. Он говорил: долг! Он говорил: справедливость! Он говорил: авторитет!
В числе прочих и булочник Бенц, смастеривший транспарант с герцогом, с чертом и стишками, был во исполнение приказа на трое суток посажен в караульню. Там свинорылый остряк заполучил сильнейшую инфлюэнцу. Воротясь домой, он слег, пил всякие настои, но вскоре стало ясно, что ему уже не подняться. У ложа болящего собрались его приятели из «Синего козла» и кисло острили: «При предпоследнем герцоге правила шлюха, при последнем – жид, при нынешнем – дурак». Перед смертью он страшно буйствовал и отчаянно сквернословил. А в «Синем козле» потом говорили, что еретик-герцог и его еврей повинны в смерти и этого честного бюргера.
Мария-Августа вместе с Ремхингеном вела беспрерывную лихорадочную борьбу против Карла-Рудольфа и парламента. Ей льстило выслушивать себе похвалы как великой государыне. Довольно уж она была первой дамой Германии, теперь ее соблазняло стать антиподом женского пола молодому прусскому королю, недавно вступившему на престол. Ну что же, она будет великой защитницей католичества в противовес тому великому протестанту. Разве император, курфюрст Баварский, ее отец и даже Франция не на ее стороне? Как же ей, опытной светской женщине, не сладить со старым брюзгой, мужланом, заплесневелым слабоумным вахлаком, с дерзким узурпатором, Карлом-Рудольфом? Совместно с Ремхингеном, с капуцинским патером Флорианом и своим библиотекарем Гофаном, которого она почитала мудрым политиком, она затевала нескончаемые ребяческие, наивные интриги и капризно дулась, когда что-нибудь не ладилось сразу. Тысячи депеш летели в Вену, в Вюрцбург, в Брюссель, к ее отцу. Двору и народу она являлась скорбящей вдовой, бледное личико и большие глаза с поволокой грациозно выглядывали из-под траурной вуали. Она велела привезти из Брюсселя своего сыночка, герцога, и показала растроганному народу царственного сиротку – дитя с огромными сияющими глазами.
Но Карла-Рудольфа, старого солдата, провести было трудно. Он опубликовал разъяснение, что отнюдь не намерен сокращать армию, предложил и парламенту высказаться в том же смысле. Вслед за тем он назначил командующим войсками генерала фон Гайсберга, посадил разъяренного Ремхингена под домашний арест и поставил у его дверей стражу. Шаг был смелый, он мог привести к войне, к кровопролитию, к вооруженному сопротивлению изнутри и извне, все погубить или все спасти. Он ничего не погубил. Армия, а с ней и вся страна радостно подчинилась герцогу-правителю.
Император не решался санкционировать такую крутую расправу. Иезуиты, состоявшие при герцогине, настаивали, чтобы при венском дворе признали законной последнюю редакцию завещания Карла-Александра и утвердили опекунами князя-епископа и герцогиню. Сам князь-епископ в собственноручных письмах взывал к императору, требовал защиты своих прав. По его приказу состоявший при нем советником профессор Икштат сочинил солидное заключение, озаглавленное: «Основы вюртембергского права», где с помощью хитроумных доводов отстаивал законность последнего, спорного завещания. Даже противники вынуждены были признать тонкость его аргументации. Но никаких положительных результатов все эти старания не дали. После устранения Ремхингена Карл-Рудольф прочно забрал в руки власть, и без войны, которой никто не хотел, убрать его было невозможно. Протесты и апелляции остались без последствий.
Умный вюрцбуржец, очевидно, ничего иного и не ожидал. Хоть он и пустил в ход весь механизм ловкой дипломатии, но действовал без настоящего подъема, лишь бы не уронить своего достоинства. Он выслушал доклад хитрого как бес, невзрачного советника Фихтеля. И безоговорочно одобрил его линию поведения. Силой тут уже ничего не поделаешь. Церкви спешить некуда, церковь работает на будущее. Весь расчет надо строить на малолетнем герцоге, воспитывать его в твердой католической вере; сам он, епископ, не увидит, правда, как созреет этот плод его трудов. А жаль Карла-Александра! Это был добрый, верный и славный друг! Requiescas in pace[31]31
Покойся с миром (лат.).
[Закрыть]. Он сам будет служить по нем мессы. А пока что остается лишь пристойным образом выбраться из вюртембергской истории, не скомпрометировав себя.
Все, что могло показать в истинном свете роль Вюрцбурга и католиков, было тщательно изъято и увезено из Штутгарта. Самые изобличающие документы хранились у Ремхингена. После того как генерал был посажен под домашний арест, а попытки подкупить часовых потерпели неудачу, по крышам соседних домов пробрался к дому Ремхингена трубочист, через дымоход спустился в ту комнату, где хранились опасные бумаги, и благополучно доставил их духовнику герцогини, после чего они были сплавлены в Вюрцбург.
Тем временем престарелый регент, прочно завоевав расположение армии своей солдатской повадкой, решил подвергнуть генерала Ремхингена более строгому заключению и отправил его вместе с адъютантом, капитаном Герхардом, в крепость Асперг.
Такое обращение с ее любимцем и главным защитником вынудило Марию-Августу изменить своей высокомерной сдержанности в отношении герцога-опекуна. Она снизошла до того, чтобы просить Карла-Рудольфа об аудиенции. Старик сам явился к ней без всяких церемоний. Бедно, неряшливо одетый, по-деревенски нескладный, кособокий, стоял он перед разубранной, вооруженной всеми ухищрениями косметики, благоухающей дамой. Он был один; при ней же находились патер Флориан – ее духовник, и библиотекарь ее – Франц Иозеф Гофан, присяжный политик, по-кошачьи вкрадчивый, наряженный по самой последней моде молодой человек с литературными претензиями; после падения Ремхингена он, наряду с капуцином, стал ее ближайшим советником. Карл-Рудольф холодно и недоверчиво оглядел зловредный трилистник, к несчастью, прискорбно засоряющий благодатные вюртембергские долы. Мария-Августа, в свою очередь, высокомерно и без игривого любопытства смотрела на убогого, неряшливого невзрачного солдата, который, без сомнения, не мог оценить изящный покрой ее траурной робы. Молча слушал Карл-Рудольф ее бесконечные жалобы. Его молчание раздражало ее, она вышла из себя, стала, наряду с существенным, перечислять пустячные мелочи, под конец совсем запуталась; ее приспешникам пришлось выгораживать ее. Презрительно и досадливо слушал Карл-Рудольф, как она, обычно невпопад, но с важной миной употребляла юридические термины. Священный смысл таких слов, как реверсалии, гражданские свободы, казалось ему, был осквернен этим маленьким пошлым развратным ртом. Он отвечал кратко, осмотрительно, грубовато, ловко пользуясь высказанными ею несуразностями – доводы и поправки капуцина и тонкого библиотекаря он пренебрежительно и сурово пропустил мимо ушей; он, государь, желал иметь дело только с государыней. Он поставил Марии-Августе на вид, что у нее плохие советники и что ее сану не подобает защищать Ремхингена, дурного человека и государственного преступника. По всем мелким вопросам этикета, о которых она говорила с большой важностью, он обещал безотлагательно удовлетворить ее, но тем тверже отстаивал по-настоящему важные политические позиции. Капуцин и библиотекарь в отчаянии ломали руки, когда герцогиня торжествовала по поводу этих мелких подачек, уступая лукавому и грубому узурпатору во всем существенном. Наконец разговор коснулся денежных дел. В этом Мария-Августа уж решительно ничего не понимала; она была наследницей одного из самых богатых в Европе княжеских родов, швырялась поместьями, как простые смертные пфеннигами, и почитала унизительным мещанством даже упоминать о деньгах. А Карл-Рудольф, хоть и старался постоянно неукоснительно защищать финансовые интересы страны, сам был крайне скромен в своих потребностях. Много ли нужно ему, старому бездетному человеку! Таким образом, обоим собеседникам нетрудно было проявить широту натуры, по этому вопросу они сговорились очень быстро и распрощались в добром согласии. Герцог с изумлением и удовольствием убедился в том, что Мария-Августа вовсе не вавилонская блудница, а самая обыкновенная гусыня, а герцогиня с изумлением и удовольствием заметила, что Карл-Рудольф, пожалуй, вовсе не меднолобый, по-крестьянски упрямый узурпатор, а просто-напросто осел. На основе такого убеждения они расстались с неким взаимным пренебрежительным доброжелательством.
Разумеется, и в дальнейшем между ними не обходилось без многократных мелких стычек. Но герцогу-регенту после этого единственного визита стало вполне ясно, какой политики держаться. Желая добиться от Марии-Августы серьезной уступки в деле управления страной, он притеснял ее в вопросах церемониала. То оспаривал у нее какой-нибудь титул, то посылал к ней нести караул младшего офицера вместо положенного ей по сану штаб-офицера, придирался к ее новому любимцу, тонному, элегантному библиотекарю. Когда она заявляла протест, он, в награду за исправление подобного промаха, без труда добивался уступок в политических вопросах.
Серьезный спор возгорелся по поводу приготовлений к похоронам Карла-Александра. Мария-Августа целых два месяца предвкушала, как она по этому случаю предстанет перед целой Европой в роли самой прекрасной и элегантной в империи вдовы, великой государыни, а также средоточием разноречивых толков, упованием Рима и всего католического мира. Однако герцог-регент воспретил совершать погребение по католическому обряду, дабы не раздражать народ; католические государи и вельможи ответили на это отказом присутствовать на похоронах. Мария-Августа заболела и постарела от бешенства.
Императору пришлось собственноручным посланием склонить Карла-Рудольфа к уступчивости. В конце концов погребение было обставлено с невероятной помпой – бесконечная процессия траурных карет, факельщиков, капуцинов, парадные черные одежды государей и вельмож, чиновников, слуг. Многочасовое прохождение войск. Гул колоколов, речей, песнопений, салютов в честь усопшего. Много тысяч восхищенных, вожделеющих, пламенных взглядов устремлено на красавицу – вдовствующую герцогиню. Тонок и гибок, точно стебель, ее стан над черной парчой широкой робы; неправдоподобно белы и аристократичны пальчики, выступающие из-под черного кружева рукавов; ни единого украшения, кроме звезды и креста папского ордена и ожерелья из шестнадцати редкостных черных жемчужин. Вдовье покрывало наколото так, что его черный цвет меркнет перед черными как вороново крыло волосами, тонкое личико сияет, точно изваянное из старого, благородного мрамора. Ящеричья головка, при всей неприступной осанке своей обладательницы, склоняется кокетливо и сладострастно. Так красовалась Мария-Августа во вдовьей скорби и великом блеске.
А парадный гроб, в честь которого звонили колокола, звучали речи торжественно неслись ввысь песнопения и грохотали залпы орудий, был пуст. Покойный Карл-Александр за время распрей своей вдовы с герцогом-регентом так разложился и провонялся, несмотря на все искусство бальзамировавших его врачей, что труп задолго до официального погребения потихоньку схоронили в новом людвигсбургском склепе.
Дипломаты и военные, которых смерть Карла-Александра застигла в Людвигсбурге, держались поначалу тихо и выжидательно. В лице арестованного Зюсса они заручились на всякий случай доказательством своей политической благонамеренности. Уже через несколько дней даже самым несообразительным стало ясно, что конституционная партия естественным образом возьмет верх и что о военном бунте и осуществлении католического проекта даже думать не приходится. Лишь отдельные заядлые приверженцы католической партии под водительством некоего князя Вальдека не желали считаться с обстоятельствами. Остальные никогда якобы и не помышляли произвести переворот силой оружия и намерены были действовать в строгих рамках конституционной законности, предварительно испросив на то согласие парламента.








