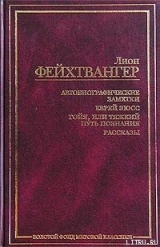
Текст книги "Еврей Зюсс"
Автор книги: Лион Фейхтвангер
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц)
Неожиданно герцог хлопнул его по плечу:
– А ты с твоим магом все-таки не надул меня, чертов жид.
Зюсс вздрогнул, ответил вяло, против обыкновения принужденно, как бы нехотя, что он тоже немало потратился на каббалистические вычисления; неудивительно, что они оказались вескими и оправдали себя. Герцог заметил выжидательно и тоже неискренне, с напускной беспечностью: но ведь рабби предсказал плохой конец. Если вычисления столь вески, зачем же Зюсс связывает себя с ним, отдает ему свои деньги и услуги. Зюсс ответил, немного помолчав: то, что рабби считает хорошим или дурным, относится совсем к другой сфере, и людям положительным, как его светлость и он, незачем ломать себе головы над подобными метафизическими тонкостями.
Он внезапно замолчал, у него перехватило дыхание, голова склонилась набок. Ему почудилось, будто из-за спины его выглядывает человек с его собственным лицом, только совсем призрачный и туманный. Герцог тоже умолк. Все окружающее потеряло для него свои краски, как-то странно поблек и еврей. Ему привиделось, что он скользит в каком-то странном, фантастическом танце, перед ним, держа его за руку, скользит в хороводе тот зловещий маг, рабби Габриель, другую руку его держит Зюсс.
Из мира видений его вырвал еврей. Перевел разговор на другое. Герцог вначале с презрением и горечью упомянул о своем брате, принце Генрихе-Фридрихе, и о его сговоре с ландтагом. За эту тему схватился теперь Зюсс, деликатно посмеялся над кротким, безвольным заговорщиком, потом заговорил о его возлюбленной, о тихом, темно-русом, глупеньком создании. Герцог слушал с интересом, насмешкой и злорадством. Черт побери! Должно быть, для девчонки скромный Генрих – постная еда, вроде пресного жаркого без приправы. Он оглушительно захохотал, в его глазах зажглись опасные лукавые огоньки. Еврей, наверно, знает девчонку, пусть же расскажет о ней. Зюсс принялся осторожно описывать ее, как знаток по косточкам разобрал дочку мелкопоместного дворянина, ее кроткую тяжеловесную белокурую красоту, жаркую негу ее юности. Герцог ловил каждое слово с жадным мстительным любопытством и был явно удовлетворен; по-видимому, у него окончательно созрел какой-то план.
– Ты знаток, еврей, – смеялся он. – Ты, плут, знаешь толк в христианском мясе.
Оставшись один, Зюсс усмехнулся глубокомысленно и победоносно и вновь продумал свою линию поведения. Все ясно. Льстить герцогу во что бы то ни стало, не боясь хватить через край. Добывать ему деньги, а с помощью денег – женщин, солдат, славу. Больше, как можно больше. Наживать на этом не чрезмерно, но развернуть дела в таком масштабе, чтобы разбогатеть, даже если к рукам прилипнет самая малая толика. К ландтагу – полное пренебрежение. Ясно и твердо стать во враждебную к нему позицию. Всячески третировать его. Главная цель – деньги для герцогской казны.
Он правильно подошел к Карлу-Александру. И мудро поступил, купив дворец в Штутгарте. Покидая Регенсбург раньше герцога, он был уже тайным советником по финансовым делам при герцоге Вюртембергском. Вместе с этим званием он, декретом герцогини, получил должность управляющего ее личными доходами.
В Штутгарте – грандиозные приготовления к приему нового государя. Три триумфальные арки с гордыми латинскими изречениями и множеством аллегорических фигур, бессчетные флаги, гирлянды. Вдоль улиц – толпы людей, разрумяненных бодрящим декабрьским морозцем. Разносчики повсюду продают оттиски знаменитой картины, на которой герцог весьма воинственно под градом пуль, во главе семисот алебардщиков, штурмует крепость Белград. Зюсс приказал отпечатать эту картину во многих тысячах экземпляров, герцогу и народу на радость, а себе в заслугу, и вот теперь горожане и крестьяне дерутся за это дешевое, патриотически умилительное стенное украшение. Весь город гудит от музыки, пушечной пальбы, кликов. Наконец показывается растянувшийся на две мили торжественный поезд: чиновники, офицеры, солдаты, пешие и конные, скороходы, пажи. Запряженная восемью парами лошадей парадная карета герцога. Так въехал он в столицу по сверкающим от снега улицам, под лучезарно-голубым декабрьским небом, и тысячи пестрых флагов развевались в живительном воздухе.
С разинутыми ртами и раскрытыми ему навстречу сердцами, любовались штутгартцы своим импозантным повелителем, который сидел в карете, распахнув шубу на широкой, увешанной звездами груди, любовались его крупной головой и властным взором, а еще больше – красавицей герцогиней, которая грациозно поднимала из белых мехов украшенную диадемой своеобразную ящеричью головку и с томным любопытством, улыбаясь, поглядывала на них. Ах, как насмехалась она над швабами, восторженно приветствовавшими ее, ах, сколько комичного нашла она в представителе Тюбингенского университета, толстом, смущенном профессоре, который потел и надрывался, с швабским акцентом декламируя превыспренние стихи, сложенные в честь княжеской четы. Но серьезно и внимательно слушала она, когда он говорил о народах, которые герцог призван объединить под своим скипетром, когда он патетически восклицал, что имя Карла-Александра объемлет все сказанное о Карле Великом и о других Карлах, все то, что греки в Александре так высоко ставят, а божьи племена в Самсоне славят, чем обладал Геркулес, и под конец сравнил его с римским Цезарем. И даже тогда не выразила она иронии, когда он провозгласил герцога славным в веках, хотя бы за то, что, подобно принцу Итаки, он прилепился душой к Ментору. Но мысленно она задала себе вопрос, кто же этот Ментор – маленький ли, осмотрительный тайный советник Фихтель, любитель черного кофе, или по-лисьи хитрый и галантный щеголь еврей?
Тот как раз скромно и подобострастно стоял где-то позади, в углу, смешавшись с челядью. Он счел благоразумным появиться в Штутгарте тихо и без большой помпы; он поселился в своем роскошном доме и сначала почти не привлек к себе внимания. У его камердинера, спокойного, флегматичного Никласа Пфефле, нельзя было выведать ничего путного, кроме того, что хозяин его – знатный господин из придворного штата герцога. Но мало-помалу стало известно, что тайный советник по финансовым делам, хоть по виду и манерам ничем не отличается от всякого другого знатного вельможи, попросту поганый, некрещеный еврей. Собственно говоря, евреям в герцогстве жить не разрешалось. Потому и господа парламентарии весьма косо смотрели на новоявленного советника и охотно выпроводили бы его за пределы страны; им только не хотелось по такому ничтожному поводу сразу вступать в пререкания с новым герцогом. Народ с любопытством и недоверием глазел на еврея. Однако, принимая во внимание запутанное положение государственных финансов и происки евреев, управляющих гревеницким имуществом, пожалуй, не следовало оспаривать у герцога право иметь собственного придворного еврея. Кроме того, приходилось признать, что новый еврей вел себя пока что весьма прилично и скромно; вот и тут во время торжества принесения присяги законному монарху он, несмотря на свое важное звание и пышный мундир, держался незаметно, в сторонке.
Но спустя три дня, во время приема членов ландтага, он вел себя уже по-иному. Гордый, холодный, строгий, стоял он среди министров и с презрительным равнодушием взирал на толпу парламентской черни. Члены кабинета, включая еврея, в пестрых блестящих мундирах стояли маленькой кучкой, высокомерно обособленной от густой темной толпы парламентариев. Четырнадцать прелатов и семьдесят представителей городов и цехов насчитывал ландтаг. Очень немногие, и в том числе умный и хитрый Вейсензе, а также умудренный горьким опытом законовед Фейт Людвиг Нейфер, держались независимо. У остальных же лица были озабоченные, озадаченные и потные, и они, смущенно, но упрямо потупясь, сносили холодные взгляды горделивой группы министров. Среди последних находились председатель совета Форстнер и двуличный, льстивый Нейфер, которые еще при жизни старого герцога были сторонниками Карла-Александра и помешали сговору ландтага с принцем Генрихом-Фридрихом. Тут же виднелся длинный крючковатый нос Андреаса Генриха фон Шютца, в прошлом клеврета графини Гревениц, человека, способного удержаться при любом правительстве. Ничего хорошего не ждали депутаты от этой троицы, ничего хорошего не ждали они и от еврея, который одним своим присутствием на торжественном приеме, казалось, бросал им вызов. А как заносчиво и кичливо держится этот выскочка! Видит Бог, это кровная обида достославному ландтагу. Ну, ничего, они еще научат его приличному обращению.
Только к одному из министров чувствовали представители сословий доверие, и то, что герцог назначил его в кабинет, примиряло их и с Нейфером, и с евреем. Министр этот был Георг Бернгард Бильфингер, философ и физик. Карл-Александр узнал этого жизнерадостного толстяка с открытым мясистым энергичным лицом, когда пригласил его проверить расчеты и проекты крепостей. И как ни велико было его недоверие ко всякой философии, он не мог противостоять искушению включить в свой кабинет не юриста, а почтенного математика и строителя.
Обе группы, маленькая, составленная из министров, и большая – из парламентариев, стояли друг против друга как два враждующих зверя, один – большой, неуклюжий, темный, беспомощный, другой – маленький, переливчатый, красочный, подвижный, опасный. Но хотя, казалось, дистанция была резко подчеркнута, от одной группы к другой уже протянулись нити – от парламентария Нейфера к его брату, министру, от положительного, честного и ревностного патриота – председателя ландтага Штурма к положительному, честному и ревностному патриоту, тайному советнику Бильфингеру, и даже от впечатлительного, утонченного, любопытствующего дипломата Вейсензе к диковинному, непонятному, увертливому, щеголеватому новому финансовому советнику – еврею, иудейскому вельможе.
Собравшиеся ждали. Ждали очень долго, около часа сверх назначенного времени. Но все еще не слышно было ни торжественного марша, ни команды «на караул» стоящим в аванзале гвардейцам, и двери в личные апартаменты герцога все еще были закрыты.
Обливаясь потом в чрезмерно натопленном зале, ворча, угрюмо переступали с ноги на ногу представители народа, да и министры начали проявлять беспокойство. Никто не ожидал, что герцог с первой же минуты проявит такую небрежность к парламенту. Что это – злонамеренность? Каприз? Случай? Забывчивость?
Только один человек знал это. Еврей стоял улыбаясь. Как посвященный смаковал своеобразное торжество, подготовленное для себя Карлом-Александром. Члены ландтага были в сговоре с его братом? Отлично, пусть же стоят и ждут его теперь до тех пор, пока у них ноги не отсохнут, а он тем временем будет предаваться любовным утехам с подругой своего брата, с кротким, темно-русым, невозмутимым созданием.
Тайный советник Андреас Генрих фон Шютц по пунктам зачитывал конституцию, которой герцогу надлежало присягнуть с добавлением тех заверений и подтверждений, которые Карл-Александр, еще в бытность свою принцем, сразу же после кончины Эбергарда-Людвига, передал господам парламентариям через Нейфера. Бумага была составлена крайне обстоятельно, осторожно, многословно. Не очень громко, ровным, хорошо поставленным голосом, слегка гнусавя на французский манер, читал господин фон Шютц нескончаемый документ, в зале стояла невыносимая жара, жужжала зимняя муха, воздух был насыщен испарениями, дыханием, тихим сопением множества людей в тяжелых одеждах. Угрюмо, сердито смотрел Карл-Александр на тупые, будничные лица, которые силились казаться торжественными, угрюмо, сердито внимал он сухому высокопарному стилю этой грамоты, каждое слово которой означало стеснение его воли, дерзкое, наглое, возмутительное насилие. А гнусавая речь тянулась долго, долго. Он с трудом удерживался, чтобы не прервать ее, не зевнуть громко и досадливо. Он только что оторвался от любовных утех, он еще всеми порами ощущал нежную теплоту темно-русого создания, он слышал еще безудержный, тихий, неуемный плач, увлажнивший ему лицо, руки, грудь, он весь был полон сытого, грубого злорадства. Члены ландтага были глубоко уязвлены, слушая, как он глухим, хриплым голосом – следствие только что испытанного наслаждения – с отдышкой, непереносимо равнодушно и явно думая о другом, повторял формулу присяги. «Я подтверждаю и свидетельствую моим верным княжеским словом, по зрелом и благом размышлении и от самого чистого сердца». И звучало это так, словно говорит он своему камердинеру, что вода для бритья остыла.
Депутаты удалились подавленные и полные тревоги. Обругай он их, как покойный государь, как Эбергард-Людвиг, накинься на них, как тот, с непотребной бранью, они на все скорей нашли бы ответ, чем на этот бесцеремонный, презрительный, неслыханно небрежный тон. Сколько времени продержал он их в ожидании, словно докучливых попрошаек! С каким равнодушием, презрительно рыгая, произносил он слова присяги. О пленительная свобода! Какую жестокую борьбу придется выдержать за тебя! О благословенная власть стоящих у кормила почтенных родов, не мало обид и огорчений придется претерпеть, отстаивая тебя!
После ухода депутатов Карл-Александр потянулся, опустился в кресло в отличном расположении духа. Здорово он их приструнил. Как они улепетывали, поджав хвост! Он засопел, весьма довольный собой. Хорошее начало, хороший день. Сперва насолил этому тихоне, этому двуличному смутьяну Генриху-Фридриху, а затем спровадил и дерзкую, жадную потную чернь, и она ретировалась, ошарашенная, давясь проглоченной обидой.
Он не задерживал и министров, а отпустив их, улыбнулся Зюссу:
– Мне еще нужно пойти утереть слезы белокурой красотке. Знаешь толк, лицемер, знаешь толк больше, чем я предполагал. – Громко расхохотавшись, он хлопнул по плечу польщенного Зюсса.
– Я хочу править сам, – заявил он одной из штутгартских депутаций. – Я хочу сам выслушивать свой народ и помогать ему во всем.
На него обрушился целый поток прошений, и он самолично принимал их.
– Я и тебе и себе хочу помочь, – сказал он одному просителю. Он велел объявить по всей стране, что не остановится ни перед какими трудами и тяготами, дабы споспешествовать истинному преуспеянию и процветанию герцогства, он позаботится, чтобы дела вершились повсюду без подвохов, интриг и затяжек на основе издревле прославленной вюртембергской честности и справедливости. Всякому имеющему обиду на кого-либо из чиновников или иную претензию такого же рода надлежит обстоятельно изложить свою жалобу на бумаге и вручить ее герцогу в собственные руки.
Три воскресенья кряду эта воля нового государя провозглашалась со всех амвонов; в напечатанном виде она была прибита в каждой общине к дверям ратуши. Народ ликовал: вот это государь! Он не доверяет дела правления своим чиновникам, он правит сам. Как снег в мае, таяло число приверженцев графини Гревениц. Кто сам спешил убраться, кого изгоняли или сажали в крепость. «Уж он сдерет шкуру с этих живодеров!» – ухмылялись крестьяне. Расцветала на бедах клики Гревениц унылая вдовствующая герцогиня. Картина же, на которой Карл-Александр со своими алебардщиками штурмует Белградскую крепость, была нарасхват, а когда вышел рескрипт, воспрещающий коленопреклонение просителей перед герцогом, ибо одному Богу подобает оказывать такие почести, Зюссу пришлось заказать новую огромную партию оттисков, и в герцогстве не осталось ни одного крестьянского или бюргерского дома, где бы на самом почетном месте не красовалась эта картина. А господа парламентарии только косо смотрели на происходящее.
Герцог всячески старался ускорить вынесение приговора бывшему гофмаршалу Гревеницу и его сестре, но без особого успеха. Правда, некогда всемогущий сановник сидел в крепости Гогентвиль; но чтобы не навлечь на себя обвинение в насилии и пристрастии, герцогу надо было действовать осмотрительно и не спеша. Сама же графиня находилась за пределами страны, протестантские княжеские дворы служили ей опорой против герцога-католика, а умелая рука Исаака Ландауера всякий раз потихоньку распускала сети, в которые вюртембергские советники не очень ловко пытались поймать графиню. Правда, дело графини слушалось в особом присутствии уголовного суда, и лучший юрист герцогства, известный на всю Германию своей неподкупной честностью, тюбингенский профессор Мориц Давид Гарпрехт предъявил ей тяжкие обвинения в двоемужестве, в двойном, повторном и многолетнем прелюбодеянии, в троекратном покушении на жизнь супруги Эбергарда-Людвига, в оскорблении величества, в вытравлении плода, в подлогах, мошенничестве, обмане, а суд вынес ей смертный приговор. Специальный дипломатический представитель барон Цех был послан из Вюртемберга в Вену, чтобы провести там утверждение и осуществление этого приговора, он истратил сто сорок три тысячи гульденов на подкуп императорских советников. Но то ли Исаак Ландауер истратил еще больше, то ли он действовал более умело, процесс затянулся надолго и в результате привел к сложному, запутанному денежному и деловому полюбовному соглашению.
Герцогу эта история, как и вообще вся канцелярщина управления страной, скоро показалась скучной и противной. Он издал много прекрасных манифестов, завоевал любовь своего народа, а советники его – шумливый генерал Ремхинген, увертливый дипломат Шютц, хитрый финансист Зюсс – уверяли его изо дня в день, что все беды теперь миновали и для Вюртемберга наконец наступил золотой век. Где в Германии найдется второй, столь преданный своему долгу, государь? Преисполненный гордости перед Богом, людьми и самим собой, кичась сознанием, что имя верного пастыря и услады рода человеческого, которым наградил его в приветствии Тюбингенский университет, вполне им заслужено, он предоставил своим советникам осуществлять все обещания, а сам, в предвкушении солдатского житья и в чаянии приумножить свою славу, выехал к армии.
Зюсс пригласил тайного советника Бильфингера и профессора Гарпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Гревениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюсса, еврей – стройный, элегантный, вюртембержцы – грузные, ширококостные. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку: он предлагал уступить по низкой цене свои вюртембергские владения. Смертную казнь графине в Вене тоже не склонны были утвердить и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба вюртембержца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюсс, наоборот, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах, а для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительней, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручат урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить герцогу. Положительные и справедливые вюртембержцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской. К тому же они знали, что Зюсс вел какие-то дела с графиней, и не доверяли ему. Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем, следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого, а герцог безусловно верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вел Зюсс.
Покончив с этим, Зюсс обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий ландтага. Это был вопрос, который взволновал обоих вюртембержцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно, всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бильфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты, оба спокойные, серьезные люди, не могли не сознавать, что конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных, наиболее влиятельных бюргерских семей, в среде которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, векселями передавались в наследство или служили предметом торга; они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы, отрывая от него лоскутья для своих личных выгод. Но тем не менее они были глубоко и вполне искренне убеждены, что конституция и свобода, коими пользуются сословия, суть подлинные столпы государства, и толковали все спорные вопросы взаимоотношений между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности, в духе которых была составлена конституция, завещанная первым вюртембергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был – обеспечение народных вольностей, а его пароль: «Attempto!» – «Дерзаю!». И пусть конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний, это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит конституция, своими ограничительными законами избавляя монарха от многих тяжких промахов.
Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий; но текст конституции был настолько туманен, что находчивый и недобросовестный толкователь мог без труда найти в нем лазейки. Гарпрехт, а за ним и Бильфингер с горячностью возражали, а Зюсс слушал учтиво и внимательно. Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста, в эти большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные, хищные глаза. Не в первый раз видел он их, но лишь сейчас прочел то, что было в них написано. Что в его глазах значили свобода, конституция, совесть, народ? Средство для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он, стрясти плоды с того дерева, на котором сидит он, с его дерева – с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители – всего лишь конкуренты, и ненавидит он их неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным, захватническим взглядом, не облагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными. Ученый почувствовал, что говорить с этим торгашом о духе закона, о его прекрасном и благородном значении попросту глупо, все равно что обращаться к раскрашенной картонной маске. Еврей наверняка выбирает из его слов лишь годное на потребу своим нечистоплотным, своекорыстным проектам. Гарпрехт неожиданно замолчал, менее экспансивный Бильфингер хоть и не сразу, но все же понял, что смутило его друга. Скоро оба вюртембержца откланялись холодно и хмуро, а неизменно учтивый Зюсс почтительно проводил их.
У дверей им повстречался Исаак Ландауер в лапсердаке и с пейсами. Зюсс пригласил его, чтобы урегулировать финансовые дела графини. Они поняли друг друга с полунамека. Нужно было составить договор в таких выражениях, чтобы по виду он был выгоден для герцога, а на деле – для графини. Ожесточенно торгуясь, они наступали друг на друга. Каждый защищал еще и собственные интересы, ибо у каждого были претензии как к герцогу, так и к графине. В конце концов Зюсс якобы выторговал в пользу герцога триста двадцать три тысячи гульденов, но на деле получалось так, что герцог должен уплатить графине сто пятьдесят восемь тысяч гульденов. При передаче этой суммы Зюсс, правда, удержал с графини, за какие-то ссуды и займы, тридцать тысяч гульденов, а герцогу поставил в счет за услуги в этом деле еще пять тысяч гульденов.
Итак, любовная история графини, повергшая на многие годы в смятение и тревогу все герцогство, закончилась значительной прибылью в пользу тайного советника по финансовым делам Иозефа Зюсса Оппенгеймера. Графиня прочно обосновалась в Берлине и вела блестящую, шумную жизнь. Унылая вдовствующая герцогиня прихварывала еще смолоду, состояние ее здоровья все ухудшалось, и врачи не могли постичь, откуда у нее берутся силы. Она же с неприкрытой, унылой, застарелой ненавистью взирала на Берлин, на свою соперницу, на эту тварь, и умерла лишь через три недели после графини.
Карл-Александр объезжал крепости, фортификационные работы, военные лагеря, скакал верхом, колесил в экипаже, издавал приказы – словом, был весьма деятелен. Радостно отпраздновал он сердечную встречу со старым главнокомандующим, принцем Евгением, человеком очень умным, но несколько жестким и суховатым. Осторожный принц отступил перед превосходными силами французов и расположился в укрепленном лагере под Гейдельбергом. Французы опять очутились на вюртембергской земле, назначали контрибуции, реквизиции. Однако подкрепления, полученные имперской армией, главным образом стараниями Карла-Александра, принудили французов отступить за Рейн. Ретиво и неутомимо занялся теперь герцог обеспечением безопасности границ. Строились крепости, рылись окопы, герцог постоянно совещался с Бильфингером. С полной ответственностью и знанием дела приступили они к осуществлению весьма дальновидного и поистине гениального в стратегическом отношении плана. Решено было на расстоянии между Роттвейлем и Роттенбургом в нескольких местах эскарпировать горы, дабы сделать тут границу совершенно неприступной, кое-где вырыв небольшие шанцы, затем провести линию укреплений от Шильтаха до Оберндорфа, вплоть до самого Неккара и загородить Гейбергский перевал. Чтобы нести гарнизонную службу в этих укрепленных пунктах, вполне достаточно пяти батальонов и от десяти до двенадцати эскадронов. И при помощи таких относительно малых средств можно создать швабские Фермопилы, о которые каждый галльский Ксеркс неминуемо разобьет себе голову.
Сначала ландтаг не противился планам Карла-Александра. В правление Эбергарда-Людвига герцогство так сильно страдало от французских вторжений, контрибуций, грабежей, хищничества, убийств и насилий, что оно, естественно, от всей души было признательно своему нынешнему государю за сильную, умелую военную защиту. Но как только французы были отброшены за Рейн и непосредственная опасность миновала, представители сословий стали менее сговорчивы. Они донимали герцога постоянными мелочными и назойливыми жалобами. То и дело к нему являлись депутации с протестом против его мероприятий, связанных с набором и военными приготовлениями; его злили их упитанные, осовелые, мещанские лица, их упрямая чванливая тупость. Рогатки на каждом шагу. Пополнение армии производилось до крайности медлительно, лошади, снаряжение, провиант доставлялись с явной неохотой и всегда в меньшем, чем требовалось, количестве. Военные налоги поступали туго, сборы производились нерадиво, кассы пустовали. Герцог, подозрительный по натуре, усомнился в своих советниках, предположив, что втайне они заодно с ландтагом. Он вытребовал в лагерь своего еврея.
Зюсс напряженно следил за каждым, самым незначительным событием в вюртембергской политике, взвешивал, оценивал и давно с вожделением ждал этой минуты. Он точно, ясно и трезво наметил себе конечную цель, как всегда досконально рассчитал каждый свой шаг, малейшую пядь пути, так что поле его действий лежало перед ним, словно начерченная с математической точностью географическая карта.
Во всеоружии и во всем своем великолепии направился он в лагерь. Карл-Александр тотчас же принял его. Была ночь. Горели свечи, в углу примостился чернокожий. Герцог сидел с Бильфингером над чертежами. Громогласно и гневно излил он накипевшую в нем досаду, перед этими двумя слушателями он не считал нужным сдерживаться. Его недоверие к министрам, в особенности к Нейферу и Форстнеру, еще возросло. Именно они в свое время, когда он был еще принцем, убедили его подписать пресловутые реверсалии и торжественные обещания ландтагу, чтобы тем самым в момент междуцарствия пресечь всякие происки в пользу принца Генриха-Фридриха. Теперь он внушил себе, что эти обязательства подписывать вообще не следовало, а вдобавок оба советника обманули его. Они стакнулись с коварным и мятежным ландтагом, в чистовом экземпляре кем-то пропущен или изъят один лист; текст чистового экземпляра не совпадает с черновиком, который ему показывали раньше. С испугом и негодованием слушал Бильфингер эти безосновательные и бессмысленные обвинения, которые отрывисто, чуть не рыча от ярости, выкрикивал герцог. Бильфингер взял себя в руки и постарался успокоить герцога, логически доказывая ему, что подписал он лишь то, чего так или иначе от него требует конституция и в чем, после Тюбингенского соглашения, присягали все его предшественники. Из этого следует, что, заблаговременно подписав соответствующий документ, он сделал всего лишь красивый жест; однако, принимая во внимание настроение умов, это было не только целесообразно, но и попросту необходимо. Настойчивые увещевания Бильфингера принудили Карла-Александра замолчать, но не убедили его. Зюсс ограничился тем, что внимательно слушал; в мерцании свечей его многозначительно улыбающееся лицо своей белизной и спокойствием резко контрастировало с красными, возбужденными лицами государя и строителя крепостей. Карл-Александр неожиданно обратился к нему:
– А ты что думаешь, еврей?
Зюсс, пожав плечами, выразил недоумение, как это ясные и мудрые приказы герцога могут выполняться так плохо и неточно. Весьма вероятно, что тайные советники втихомолку шушукаются с непокорными парламентариями; изменники они или нет, сказать трудно, но во всяком случае, судя по неудовлетворительным результатам, они бездарные, нерадивые крючкотворы. Что же предлагает он, спросил герцог. На основании своего опыта военных поставок в Австрии Зюсс порекомендовал налагать крупные денежные пени за всякое проявление злостной пассивности. Денежными штрафами можно многого добиться. Горожанин, как и крестьянин, больше всего дорожит своей собственностью, он скорее пожертвует жизнью, чем деньгами. Герцог сказал, что обдумает этот план, а Зюсс пускай тем временем разработает соответствующие предложения. Еврей заявил, что это уже сделано, и положил на стол пачку документов и подсчетов. Бильфингер снова начал приводить пространные доводы против подозрений герцога, советуя ограничиться более мягкими и осторожными мерами. Карл-Александр прервал его злобным взглядом и заговорил о лежавших перед ним чертежах.
Уже на следующий день он отдал Ремхингену приказ строжайше проводить в жизнь проект Зюсса. Итак, они стали работать совместно: генерал воплощал силу, еврей – мозг. Ремхинген издевался над евреем, преследуя его грубыми, циничными, пошлыми шутками. Зюсс ненавидел и презирал генерала, но сдерживался и на грязные солдатские шутки отвечал неизменной равнодушно-учтивой улыбкой. Зато его поразительная деловитость и сметливость, неиссякаемый запас фортелей и уловок вызывали у генерала невольное ворчливое и насмешливое восхищение. Общим у этих двух людей было только честолюбивое желание во что бы то ни стало угодить герцогу, добыть для него как можно больше солдат и денег, общим было и глубокое органическое убеждение, что народ принадлежит монарху наравне с его конями и псами, и потому малейший намек на непокорность монаршей воле представлялся им преступной дерзостью.








